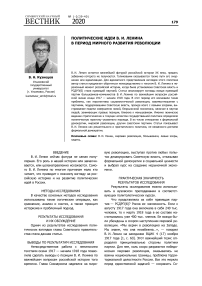Политические идеи В. И. Ленина в период мирного развития революции
Автор: Кузнецов Валерий Николаевич
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Социология и политология
Статья в выпуске: 1-2 (39-40), 2020 года.
Бесплатный доступ
В. И. Ленин остается важнейшей фигурой российской истории ХХ века, предать забвению которого не получается. Тупиковыми оказываются также пути его очернения или идеализации. Для адекватного представления взглядов этого политика автор статьи предлагает обратиться непосредственно к текстам В. И. Ленина в переломный момент российской истории, когда была установлена Советская власть и РСДРП(б) стала правящей партией. Статья анализирует взгляды вождя правящей партии большевиков-коммунистов В. И. Ленина по важнейшим вопросам российской жизни конца 1917 - начала 1918 года. В этот период его волновали такие проблемы, как перспективы социалистической революции, взаимоотношения с партиями, поддержавшими Советскую власть, прежде всего с левыми эсерами, выстраивание модели совершенно новой, безрыночной экономики, наличие в партии людей, занимающих правые позиции, близкие к меньшевикам. Именно ленинское видение стратегических и текущих аспектов государственной политики определяло политическую практику указанного периода. В их числе отношение к формальной демократии, мировой революции, другим советским партиям. Статья показывает В. И. Ленина как решительного и прагматичного политика, не связанного догмами формальной демократии.
В. и. ленин, мировая революция, большевики, левые эсеры, кадеты
Короткий адрес: https://sciup.org/14117503
IDR: 14117503
Текст научной статьи Политические идеи В. И. Ленина в период мирного развития революции
В. И. Ленин сейчас фигура не самая популярная. Его роль в нашей истории или замалчивается, или целенаправленно искажается. Самого В. И. Ленина по многим причинам мало кто читает, что приводит к ложному взгляду на российскую историю и на развитие политических идей в России.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве основных методов исследования использованы такие логические операции, как сравнение, анализ и синтез, а также принцип историзма и проблемный подход.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из результатов исследования политических взглядов главы Советского правительства стала данная статья.
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
Непосредственная работа с ленинскими текстами осени 1917 — начала 1918 года позволила сделать выводы о позиции В. И. Ленина по важнейшим вопросам российской истории того времени. Глава Совнаркома надеялся на миро- вую революцию, выступал против любых попыток дезавуировать Советскую власть, отказывал формальной демократии в социальной ценности и выбрал курс на создание нерыночной экономики.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты исследования можно использовать в вузовском преподавании в соответствующих политологических курсах.
Что представляла из себя правящая партия — РСДРП(б)? Росла ее численность. Если к августу 1917 года она включала в себя 240 тыс. человек, то к марту 1918 года в ее составе насчитывалось уже 400 тыс. членов. Ее вожди были убеждены в скором наступлении мировой революции. «Мы верим в революцию на Западе. Мы знаем, что она неизбежна…», — говорил В. И. Ленин на заседании ВЦИК 4 (17) ноября 1917 года [1, с. 60]. Этот важнейший тезис определял принципиальные стороны политики партии. Для нее, коль скоро разразится победоносная мировая революция, оказывались не важны национальные границы, проблема территориальной целостности России. Все это меркло перед единственной задачей — сохранить Со- ветскую власть до революции на Западе. В. И. Ленин в речи на первом Всероссийском съезде военного флота 22 ноября (5 декабря) 1917 года не скрывал: «Нам говорят, что Россия раздробится, распадется на отдельные республики, но нам нечего бояться этого. Сколько бы ни было самостоятельных республик, мы этого страшиться не станем. Для нас важно не то, где проходит государственная граница, а то, чтобы сохранялся союз между трудящимися всех наций для борьбы с буржуазией каких угодно наций» [1, с. 115].
Стоит обратить внимание, что эта мысль оратора вызвала бурные аплодисменты собравшихся. «Мы не только слабый и не только отсталый народ, мы тот народ, который сумел, — не благодаря особым заслугам или историческим предначертаниям, а благодаря особому сцеплению исторических обстоятельств, — сумел взять на себя честь поднять знамя международной социалистической революции. Я прекрасно знаю, товарищи, и я прямо говорил не раз, что это знамя в слабых руках, и его не удержат рабочие самой отсталой страны, пока не придут рабочие всех передовых стран им на помощь. Те социалистические преобразования, которые мы совершили, они во многом несовершенны, слабы и недостаточны: они будут указанием западноевропейским передовым рабочим, которые скажут себе: «русские начали не так то дело, которое нужно было начать», — говорил В. И. Ленин на четвертом съезде Советов [2, с. 109].
Уверенность в мировой революции порождала и уверенность в возможности скорого перехода к коммунистическим производственным отношениям, что должно было произойти при решающей помощи советского государства. В. И. Ленин разъяснял: «Тов. Закс далее говорил о декретировании социализма. Но разве теперешняя власть не призывает самые массы к творчеству лучших форм жизни? Обмен продуктов обрабатывающей промышленности на хлеб, строгий контроль и учет производства — вот начало социализма. Да, у нас будет республика труда. Кто не хочет работать, тот пусть не ест» [1, с. 61].
Логичным выглядело переименование партии из РСДРП(б) в РКП(б). Это произошло на седьмом экстренном партийном съезде в начале марта 1918 года. Выступая с докладом о пересмотре программы и изменении названия партии, В. И. Ленин говорил: «Начиная социалистические преобразования, мы должны ясно поставить перед собой цель, к которой эти преоб- разования, в конце концов, направлены, именно цель создания коммунистического общества, не ограничивающегося только экспроприацией фабрик, заводов, земли и средств производства, не ограничивающегося только строгим учетом и контролем за производством и распределением продуктов, но идущего дальше к осуществлению принципа: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Вот почему название коммунистической партии является единственно научно правильным» [2, с. 44]. (Известно, что переименование партии внесло определенную сумятицу в головы немалой части российского населения, прежде всего крестьян, считавших большевиков и коммунистов разными партиями.)
Для В. И. Ленина и многих большевиков (но не всех) демократия и политические свободы не представляли какой-либо ценности, поскольку они не мешали группе лиц эксплуатировать большинство населения и вполне уживались с многочисленными проявлениями социальной несправедливости.
В. И. Ленин неоднократно на рубеже 1917— 1918 годов останавливался на этой проблеме, защищая свою точку зрения от представителей других партий. В докладе о праве отзыва на заседании ВЦИК 21 ноября (4 декабря) 1917 года В. И. Ленин указывал: «То, что раньше называлось свободой, это было свободой буржуазии надувать при помощи своих миллионов, свободой использования своих сил при помощи этого надувательства. С буржуазией и с такой свободой мы окончательно порвали. Государство, это — учреждение для принуждений. Раньше это было насилие над всем народом кучки толстосумов. Мы же хотим превратить государство в учреждение для принуждения творить волю народа» [1, с. 110].
В заключительном слове по докладу Совнаркома 12 (25) января 1918 года он говорил: «Выслушав сегодня ораторов справа, выступавших с возражениями по моему докладу, я удивляюсь, как они до сих пор не научились ничему и забыли все то, что они всуе называют «марксизмом». Один из возражавших мне ораторов заявил, что мы стояли за диктатуру демократии, что мы признавали власть демократии. Это заявление столь нелепо, столь абсурдно и бессмысленно, что является сплошным набором слов. Это все равно, что сказать — железный снег, или что-либо вроде этого. (Смех.) Демократия есть одна из форм буржуазного государства, за которую стоят все изменники истинного социализма, оказавшиеся ныне во главе официального социализма и утверждающие, что демо- кратия противоречит диктатуре пролетариата. Пока революция не выходила из рамок буржуазного строя, — мы стояли за демократию, но, как только первые проблески социализма мы увидели во всем ходе революции, — мы стали на позиции, твердо и решительно отстаивающие диктатуру пролетариата» [1, с. 280]. Несколько позже он афористично скажет: «Советы — высшая форма демократизма» [1, с. 282].
Такое видение демократии вело к конкретным политическим шагам. Уже в ноябре 1917 года большевики при поддержке ЦИК закрыли кадетские и близкие к ним газеты. Для В. И. Ленина покушение на важный демократический принцип — свободу печати — не являлось проблемой. В речи по вопросу о печати на заседании ВЦИК 4 (17) ноября 1917 года он так обосновывал свою позицию: «Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмем власть в руки. Терпеть существование этих газет, значит перестать быть социалистом. Тот, кто говорит: «откройте буржуазные газеты», не понимает, что мы полным ходом идем к социализму. И закрывали же ведь царистские газеты после того, как был свергнут царизм. Теперь мы свергли иго буржуазии» [1, с. 53].
Закрытие кадетских газет сопровождалось репрессиями против самой кадетской партии. 28 ноября 1917 года за подписью В. И. Ленина вышел декрет Совнаркома «Об аресте вождей гражданской войны против революции». Текст декрета гласил: «Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов. На местные Советы возлагается обязательство особого надзора за партией кадетов ввиду ее связи с корниловско-калединской гражданской войной против революции. Декрет вступает в силу с момента его подписания» [1, с. 26].
На заседании ВЦИК 1 (14) декабря 1917 года, возражая на упрек в преследовании партии кадетов, В. И. Ленин утверждал, что «нельзя отделять классовую борьбу от политического противника. Когда говорят, что кадетская партия не сильная группа, — говорят неправду. Кадетский центральный комитет, это — политический штаб класса буржуазии. Кадеты впитали в себя все имущие классы; с ними слились элементы, стоявшие правее кадетов. Все они поддерживают кадетскую партию. Когда революционный класс ведет борьбу против имущих классов, которые оказывают сопротивление, то он это сопротивление должен подавлять; и мы будем подавлять сопротивление имущих всеми теми средствами, которыми они подавляли пролетариат. Другие средства не изобретены. Вы говорили, надо изолировать буржуазию. Но кадеты, прикрываясь формально-демократическим лозунгом, лозунгом Учредительного собрания, — на деле открывают гражданскую войну. Они говорят: «Мы хотим и в Учредительном собрании сидеть и в то же время организовать гражданскую войну», а вы на это отвечаете фразами об изоляции. Мы не ловим только нарушителей формальности, мы выдвигаем прямое политическое обвинение против политической партии. Так поступали и французские революционеры» [1, с. 135—136].
Опять-таки слова В. И. Ленина встретили поддержку большинства членов ВЦИК, итогом чего явилось принятие резолюции ВЦИК о декрете по поводу кадетской партии: «Заслушав объяснения представителей Совета Народных Комиссаров по поводу декрета, объявляющего кадетов партией врагов народа и предписывающего арест членов руководящих учреждений этой партии и советского надзора над партией в целом, ЦИК подтверждает необходимость самой решительной борьбы с буржуазной контрреволюцией, возглавляемой кадетской партией, открывшей ожесточенную гражданскую войну против самых основ рабочей и крестьянской революции. ЦИК обеспечивает и впредь Совету Народных Комиссаров свою поддержку на этом пути и отвергает протесты политических групп, подрывающих своими колебаниями диктатуру пролетариата и крестьянской бедноты» [1, с. 138].
Столь же малую ценность представляло для В. И. Ленина и большинства рабочих, солдат и крестьян избранное демократическим путем Учредительное собрание. По поводу его разгона председатель Совнаркома объяснял в своем докладе 13 (26) января 1918 года: «Вот почему, товарищи, когда буржуазия выдвигает такое тяжелое обвинение и утверждение, будто мы разрушаем демократию, разрушили ту веру в формы демократии, в учреждения демократии, которые так дороги и которые так долго поддерживали и питали революционное движение в России, разбили высшую демократическую форму — Учредительное собрание, то мы отвечаем: нет, это неверно; когда у нас была республика социалиста Керенского, республика империалистических вождей, вождей буржуазии с тайными договорами в кармане, гнавшая солдат на войну (называемую справедливой), — конечно, тогда Учредительное собрание лучше, чем предпарламент, в котором Керенский, по соглашению с Черновым и Церетели, проводил ту же политику. Мы с самого начала революции — с апреля 1917 года — говорили открыто и прямо, что Советы гораздо более высокая, гораздо более совершенная, гораздо более целесообразная форма демократии, демократии трудящихся, чем Учредительное собрание. Учредительное собрание объединяет все классы, значит и классы эксплуататоров, значит и имущие, значит и буржуазию, значит и тех, кто получил образование за счет народа, за счет эксплуатируемых, выделившихся из него, чтобы присоединиться к капиталистам, чтобы свои знания превратить в орудие угнетения народа, потому что они обращают свои знания, высшие завоевания знания на борьбу против трудящихся. А мы говорим: когда начинается революция — она есть революция трудящихся и эксплуатируемых, — и только организации трудящихся, только организации эксплуатируемых принадлежит вся власть в государстве; этот демократизм несравненно выше, чем демократизм старый. Советы не выдуманы какой-нибудь партией. Вы прекрасно знаете, что не было такой партии, которая могла бы выдумать их. Они вызваны к жизни революцией в 1905 году» [1, с. 298—299].
Соответственно, террор являлся для В. И. Ленина вещью утилитарной и вполне допустимой, если его требуют интересы революции. В статье «Плеханов о терроре», напечатанной 22 декабря 1917 года (4 января 1918 года) в «Правде», а днем позже в «Известиях ЦИК», что говорит о ее важности для автора, он писал: «Польза революции требует теперь суровой борьбы против саботажников, организаторов юнкерских восстаний, газет, живущих на содержании у банкиров. Когда Советская власть вступает на путь этой борьбы, господа «социалисты» из лагеря меньшевиков и эсеров со всех крыш кричат о недопустимости гражданской войны и террора. Когда ваш Керенский восстановил смертную казнь на фронте, это не был террор, господа? Когда ваше коалиционное министерство руками Корниловых расстреливало целые полки за недостаточное воодушевление в войне, это не была гражданская война, господа? Когда в одну только минскую тюрьму ваши Керенские и Авксентьевы засадили 3000 солдат за «вредную агитацию», это не был террор, господа? Когда вы душили рабочие газеты, это не был террор, господа? Разница только в том, что Керенские, Авксентьевы и Либерданы вкупе и влюбе с Корниловыми и Савинковыми практиковали террор против рабочих, солдат и крестьян в интересах кучки помещиков и банкиров, а Советская власть применяет решительные меры против помещиков, мародеров и их прислужников — в интересах рабочих, солдат и крестьян» [1, с. 185].
В. И. Ленин, обосновывая свою позицию, неоднократно говорил о необходимости революционного террора. Довольно подробно это прозвучало в его докладе о деятельности Совнаркома на третьем Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 11 (24) января 1918 года: «Опыт гражданской войны указывает представителям крестьян воочию, что нет другого пути к социализму, кроме диктатуры пролетариата и беспощадного подавления господства эксплуататоров. (Аплодисменты.) Представлять себе социализм так, что нам господа социалисты преподнесут его на тарелочке, в готовеньком платьице, нельзя, — этого не будет. Ни один еще вопрос классовой борьбы не решался в истории иначе, как насилием. Насилие, когда оно происходит со стороны трудящихся, эксплуатируемых масс против эксплуататоров, — да, мы за такое насилие! (Гром аплодисментов.) И нас нисколько не смущают вопли людей, которые, сознательно или бессознательно, стоят на стороне буржуазии, или так ею напуганы, так угнетены ее господством, что, видя теперь эту классовую, неслыханно острую борьбу, растерялись, расплакались, забыли все свои предпосылки и требуют от нас невозможного, чтобы мы, социалисты, без борьбы против эксплуататоров, без подавления их сопротивления достигли полной победы…
Вот почему, товарищи, на все упреки и обвинения нас в терроре, диктатуре, гражданской войне, хотя мы далеко еще не дошли до настоящего террора, потому, что мы сильнее их, — у нас есть Советы, нам достаточно будет национализации банков и конфискации имущества, чтобы привести их к повиновению, — на все обвинения в гражданской войне мы говорим: да, мы открыто провозгласили то, чего ни одно правительство провозгласить не могло. Первое правительство в мире, которое может о гражданской войне говорить открыто, — есть правительство рабочих, крестьянских и солдатских масс. Да, мы начали и ведем войну против эксплуататоров. Чем прямее мы это скажем, тем скорее эта война кончится, тем скорее все трудящиеся и эксплуатируемые массы нас поймут, поймут, что Советская власть совершает настоящее, кровное дело всех трудящихся» [1, с. 264—265, 268]. Стоит обратить внимание на то, что слова В. И. Ленина о необходимости диктатуры пролетариата и ее спутника — рево- люционного насилия встречали полное одобрение подавляющего большинства присутствующих на съезде. Можно сказать, что В. И. Ленин лишь озвучивал их мысли, придавая им логичность и завершенность.
В письме к Г. Е. Зиновьеву, написанному в июне 1918 года, В. И. Ленин, развивая свои мысли, энергично требовал революционного террора: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цеки-сты или пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную. Это не-воз-мож-но! Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает» [4, с. 106].
Запретив кадетскую партию, Совнарком не предпринимал ограничительных мер против советских партий соглашательского толка — правых эсеров и меньшевиков, хотя отношение к ним у В. И. Ленина было однозначно негативным и колебалось от презрения до политических обвинений в контрреволюции. В статье «Люди с того света», посвященной судьбе Учредительного собрания, он эмоционально писал: «Я потерял понапрасну день, мои друзья». Так гласит одно старое латинское изречение. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о потере дня 5-го января.
После живой, настоящей, советской работы, среди рабочих и крестьян, которые заняты делом, рубкой леса и корчеванием пней помещичьей и капиталистической эксплуатации, — вдруг пришлось перенестись в «чужой мир», к каким-то пришельцам с того света, из лагеря буржуазии и ее вольных и невольных, сознательных и бессознательных поборников, прихлебателей, слуг и защитников. Из мира борьбы трудящихся масс, и их советской организации, против эксплуататоров — в мир сладеньких фраз, прилизанных, пустейших декламаций, посулов и посулов, основанных по-прежнему на соглашательстве с капиталистами.
Точно история нечаянно или по ошибке повернула часы свои назад, и перед нами вместо января 1918 года на день оказался май или июнь 1917 года!
Это ужасно! Из среды живых людей попасть в общество трупов, дышать трупным запахом, слушать тех же самых мумий «социального», луиблановского фразерства, Чернова и Церетели, это нечто нестерпимое.
Прав был тов. Скворцов, который в двух-трех кратких, точно отчеканенных, простых, спокойных и в то же время беспощадно резких фразах сказал правым эсерам: «Между нами все кончено. Мы делаем до конца Октябрьскую революцию против буржуазии. Мы с вами на разных сторонах баррикады».
А в ответ — потоки гладеньких-гладеньких фраз Чернова и Церетели, обходящих заботливо только (только!) один вопрос, вопрос о Советской власти, об Октябрьской революции. «Да не будет гражданской войны, да не будет саботажа», — заклинает Чернов, от имени правых эсеров, революцию. И правые эсеры, проспавшие, точно покойники в гробу, полгода — с июня 1917 по январь 1918, встают с мест и хлопают с ожесточением, с упрямством. Это так легко и так приятно, в самом деле: решать вопросы революции заклинаниями. «Да не будет гражданской войны, да не будет саботажа, да признают все Учредительное собрание». Чем же это отличается, по сути дела, от заклинания: да примирятся рабочие и капиталисты?» [1, с. 229—230].
В проекте Декрета о роспуске Учредительного собрания так охарактеризована политика соглашательских партий: «На деле партии правых эсеров и меньшевиков ведут, вне стен Учредительного собрания, самую отчаянную борьбу против Советской власти, открыто призывая в своих органах к свержению ее, называя произволом и беззаконием необходимое для освобождения от эксплуатации подавление силой трудящихся классов сопротивления эксплуататоров, защищая служащих капиталу саботажников, доходя до неприкрашенных призывов к террору, который «неизвестными группами» и начал уже осуществляться. Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания могла бы, в силу этого, играть роль только прикрытия борьбы контрреволюционеров за свержение Советской власти. Поэтому Центральный Исполнительный Комитет постановляет: Учредительное собрание распускается» [1, с. 236—237].
Не все в РСДРП(б) полностью поддерживали политику В. И. Ленина по отношению к соглашательским партиям, хотя степень разногласия у большевиков была заметно меньше, чем в других партиях. В РСДРП(б) имелись и правые большевики, что еще раз показали споры об ультиматуме Викжеля. За однородное социалистическое правительство выступили несколько руководящих большевиков, в знак протеста против политики В. И. Ленина в этом вопросе вышедших в ноябре 1917 года из ЦК и из СНК. Конечно, в их числе не мог не оказаться Л. Б. Каменев, который оставался верным своим позициям, озвученным на конференции партии в апреле 1917 года. Кроме него из ЦК вышли Г. Е. Зиновьев, В. П. Ногин, А. И. Рыков и В. П. Милютин, из СНК вышел в дополнение к трем последним И. А. Теодорович. Кроме того, той же точки зрения придерживались Ю. Ларин и Д. Б. Рязанов.
Вопрос о включении в правительство меньшевиков и правых эсеров не являлся частным, а касался всего политического курса Советского государства. В своей позднейшей автобиографии М. А. Теодорович проницательно писал: «И, наконец, последнее разногласие касалось вопроса, должна ли была наша партия начать с «военного коммунизма», или можно было отправляться от того, что в 1921 г. получило название «новой экономической политики». Далее, с учетом последующего исторического опыта, он добавил: «Я держался в 1917 г. последнего, но очень скоро убедился в том, что прав был Ленин, который, отнюдь не идеализируя методов военного коммунизма, ясно видел его неизбежность в условиях ужасающей разрухи, вызванной империалистической войной в условиях отчаянного сопротивления эксплуататорских классов».
Отношение В. И. Ленина к демаршу указанных политиков показывает его речь на заседании ВЦИК 4 (17) ноября 1917 г. «По поводу заявления группы народных комиссаров об уходе из Совнаркома»: «Далее, в чем же проявляется изолированность нашей партии? В том, что откалываются отдельные интеллигенты. Но с каждым днем мы все больше поддержку находим в крестьянстве. Только тот победит и удержит власть, кто верит в народ, кто окунется в родник живого народного творчества» [1, с. 61].
Наличие в его партии правых большевиков все же волновало В. И. Ленина. В декабре 1917 года в «Дневнике публициста (темы для разработки)», не предназначающемся для печати, он поставил вопрос ребром: «Правый большевизм»; место ли ему в нашей партии?» [1, с. 188]. Вероятно, В. И. Ленин отвечал на него так: «до известной степени». Откровенно правые позиции терпеть он не собирался, что показало исключение из партии в январе 1918 года С. А. Лозовского, обвиненного в отрицании диктатуры пролетариата и социалистического характера Октябрьской революции, что для В. И. Ленина являлось смертным политическим грехом.
Не принимая народнической идеологии и политики левых эсеров, В. И. Ленин был вынужден в конце 1917 — начале 1918 года пойти на блок с ними и включить их представителей в правительство. Это противоречило политике проведения диктатуры пролетариата в чистом виде, но находило объяснение в необходимости иметь союз рабочих и крестьян, а «союз рабочих и крестьян есть основа для соглашения левых эсеров с большевиками» [1, с. 100].
В январе 1918 года В. И. Ленин публично оценивал этот блок достаточно оптимистично. Выступая в январе 1918 года на третьем Всероссийском съезде Советов, он говорил: «Тот союз, который мы заключили с левыми социалистами-революционерами, создан на прочной базе и крепнет не по дням, а по часам. Если в первое время в Совете Народных Комиссаров мы могли опасаться, что фракционная борьба станет тормозить работу, то уже на основании двухмесячного опыта совместной работы я должен сказать определенно, что у нас по большинству вопросов вырабатывается решение единогласное. Мы знаем, что только тогда, когда опыт показывает крестьянам, каков, например, должен быть обмен между городом и деревней, они сами снизу, на основании своего собственного опыта, устанавливают свою связь» [1, с. 264].
В статье «Памяти тов. Прошьяна», написанной после Брестского мира и июльского выступления левых эсеров в Москве, В. И. Ленин в открытой форме уже несколько по-другому оценивал левоэсеровскую партию: «Мне пришлось познакомиться с тов. Прошьяном и оценить его во время совместной работы в Совнаркоме в конце прошлого и в начале текущего года, когда левые эсеры шли в союзе с нами… Не про всех левых эсеров можно было сказать, что они социалисты, даже, пожалуй, про большинство из них сказать этого было нельзя… Тов. Про-шьян становился решительно на сторону большевиков-коммунистов против своих коллег, левых социалистов-революционеров, когда они выражали точку зрения мелких хозяйчиков и относились отрицательно к коммунистическим мероприятиям в области сельского хозяйства. Особенно запомнился мне разговор с тов. Прошьяном незадолго до Брестского мира. Тогда казалось, что разногласий между нами сколько-нибудь существенных уже не осталось. Прошьян стал говорить мне о необходимости слияния наших партий, о том, что наиболее далекие от коммунизма (тогда этого слова не было еще в ходу) левые эсеры заметно и очень сильно сблизились с ним за время общей работы в Совнаркоме. Я отнесся сдержанно к предложению Прошьяна, назвал его предложение преждевременным, но сближения между нами на практической работе отнюдь не отрицал. Полное расхождение принес Брестский мир…» [3, с. 384—385].
Итак, в декабре 1918 года В. И. Ленин утверждал, что большинство левых эсеров не социалисты, что они выражают интересы мелких хозяйчиков, но признавал сближение на почве практической работы.
В целом перевес сил был на стороне большевиков. На третьем Всероссийском съезде Советов, проходившем с 23 по 31 января 1918 го- да, в начале его работы насчитывалось 707 депутатов, в том числе 441 большевик. В президиум съезда избрали 10 большевиков, 3 левых эсера, 1 человека от других фракций. В избранный съездом ВЦИК вошли 160 большевиков, 125 левых эсеров, 2 меньшевика-интернационалиста, 3 анархиста-коммуниста, 7 эсеров-максималистов, 7 правых эсеров и 2 меньшевика.
В то же время крестьяне по-прежнему поддерживали народников. На Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов, проходившем с 10 по 25 ноября (23 ноября — 8 декабря) 1917 года присутствовало 195 левых эсеров, 65 правых эсеров и центра, 37 большевиков.
Список литературы Политические идеи В. И. Ленина в период мирного развития революции
- Ленин В. И. ПСС / В. И. Ленин. - 5-е изд. - Т. 35. - М., 1974.
- Ленин В. И. ПСС / В. И. Ленин. - 5-е изд. - Т. 36. - М., 1974.
- Ленин В. И. ПСС / В. И. Ленин. - 5-е изд. - Т. 37. - М., 1969.
- Ленин В. И. ПСС / В. И. Ленин. - 5-е изд. - Т. 50. - М., 1970.