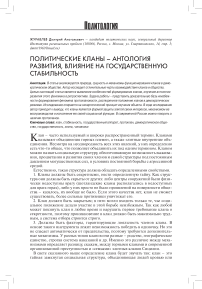Политические кланы - антология развития, влияние на государственную стабильность
Автор: Журавлев Дмитрий Анатольевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется природа, сущность и механизмы функционирования кланов в демократическом обществе. Автор исследует отличительные черты взаимодействия кланов и общества. Целью настоящей статьи является выявление особенностей формирования кланов, изучение антологии развития этого феномена в ретроспективе. Задача работы - представить доказательную базу неизбежности формирования феномена протоклановости, растворенное положение кланов в демократических режимах. Исследование опирается на синергетический принцип изучения объекта. В ходе исследования автор приходит к выводу, что кланы являются формой защиты элитой своих интересов, механизмом ее воспроизводства и исполнения ею своей социальной функции. В современной России можно говорить о наличии протокланов.
Клан, стабильность, государственный аппарат, протоклан, демократическое общество, государственность, элиты, чиновники
Короткий адрес: https://sciup.org/170198273
IDR: 170198273 | DOI: 10.31171/vlast.v31i2.9543
Текст научной статьи Политические кланы - антология развития, влияние на государственную стабильность
К лан – часто используемый и широко распространенный термин. Кланами называют объединения горных племен, а также элитные внутренние объединения. Несмотря на неоднородность всех этих явлений, у них определенно есть что-то общее, что позволяет объединить их под одним термином. Кланом можно назвать социальную структуру, обеспечивающую возможность выживания, процветания и развития своих членов и самой структуры под постоянным давлением могущественных сил, в условиях постоянной борьбы с агрессивной средой.
Естественно, такая структура должна обладать определенными свойствами.
-
1. Кланы должны быть секретными, нести определенную тайну. Как структура они должны быть скрыты от других: либо центры сооружений были физически недоступны врагу (шотландские кланы располагались в недоступных для врага горах), либо у них просто не было проявлений на поверхности общества – казалось, их вообще не было. Если этого качества нет, клан не сможет существовать, более сильные противники уничтожат его.
-
2. Клан должен быть закрытым; в него могли входить только те, чье социальное положение делало участие в этой борьбе неизбежным. Так как любой может покинуть клан в любое время и нарушить первое требование клана о секретности, поэтому проникновение в клан должно быть максимально трудным, а система отбора строится строго.
-
3. Должны быть факторы, гарантирующие лояльность членов клана. В основе такого инструмента лежит невозможность победить в одиночку. Но это не спасает автоматически от предательства, поэтому требуются дополнительные механизмы. У разных типов кланов они разные – родство, географическое единство, строгая система наказаний и др. Именно это различие между механизмами определяет разницу, скажем, между горными кланами и современной организованной преступностью и «семьями» элитных кланов Сицилии.
В свете сказанного выше определение клана будет звучать так: клан – это тайная замкнутая социальная структура, объединяющая людей кровью или другим признаком сообщества, чтобы обеспечить возможность его выживания, процветания и развития. Члены организации и сама структура находятся под постоянным давлением мощных сил, находятся в условиях постоянной борьбы с агрессивной средой.
Если мы определяем клан так, то возникает вопрос: как возможен элитный клан, особенно если говорить о социальной элите – политических и экономических лидерах общества.
При тесном контакте с элитой ясно, что люди, находящиеся на вершине экономической и политической власти, имеют особые отношения друг с другом. В случаях, когда эти отношения слишком явно противоречат общественным интересам, возникает кризис, который обычно заканчивается публичным скандалом и выводит эти отношения на первый план. Так случилось, например, в 1970–1980-х гг. в Италии, когда явное вмешательство секретных элитных структур в политику вызвало серию громких скандалов. В странах новой демократии, и особенно в России, структура элитных кланов почти не скрывается. В течение многих лет борьба за власть и богатство различных кланов была главной темой газетных публикаций и дискуссий по политологии.
О.В. Гаман-Голутвина определяет такую элиту «как внутренне сплоченную социальную общность, являющуюся субъектом принятия важнейших стратегических решений и обладающую необходимым для этого ресурсным потенциалом» [Гаман-Голутвина 2006: 10].
Эта структура должна проявляться в каких-то формах – социальных институтах. Ярким примером такой формы является феодальная структура. Именно отношения феодальной подчиненности определяют внутреннюю структуру элиты и отношения слоя феодалов к другим социальным слоям. Однако такой социальный статус существует не всегда.
Есть, по крайней мере, два типа обществ, в которых права и привилегии элиты сильно ограничены – до полной отмены: это диктатура одного человека, когда ее наиболее стабильной формой является абсолютная монархия, и власть подавляющего большинства рядовых граждан, т.е. демократия.
Во времена абсолютной монархии элита полностью не утратила своих привилегий, но ее положение по сравнению с феодальным периодом кардинально изменилось. Феодал был владельцем ресурсов, необходимых для выполнения его функций. Он был мастером, у которого были договорные отношения с другими мастерами, включая короля. Абсолютная монархия превращает элиту в слуг короля. Кавелин писал: «…очень рано началась борьба между царской властью и вельможеством. Смотря по личному характеру государей, она то утихала, то принимала большие размеры, как при Иоанне Грозном, но не прекращалась она никогда» [Кавелин 1989: 135].
Элитные кланы являются необходимым способом существования элиты в условиях абсолютной монархии, диктатуры и демократии, там, где высшая власть или гражданское общество постоянно подавляет элиту, отказывая ей в праве на независимую роль, заставляя защищаться (и в этом смысле элитные кланы очень похожи на шотландские или сицилийские).
Советские элитные кланы – это частный случай кланов при диктатуре. Они победили, как и в других диктаторских странах, диктатуру. Но в условиях советской системы они перешли не к демократии, а к прямой, почти не прикрытой власти кланов. СССР 1950–1980-х гг. – это страна, которой владели чиновничьи (партийные) кланы. Такая власть одного типа кланов привела к снижению эффективности управления государством и к деградации общества. Советская клановая система в силу своей неприкрытости является великолеп- ной иллюстрацией того, как могут существовать кланы в обществе (в другие исторические периоды клановые структуры существуют скрытно, т.к. тайна – сущностное качество кланов). Наиболее ярким примером советского клана может служить клан Л.И. Брежнева. Из 470 членов и кандидатов в члены ЦК КПСС, избранных XXVI съездом КПСС (март 1981 г.), как минимум 80 – люди брежневского клана1. Эта цифра может показаться небольшой. Но многие влиятельные члены советской элиты, в т.ч. и члены брежневского клана, в состав ЦК не входили. А ведь у заместителей заведующих отделами ЦК, не входящих в Центральный Комитет, власти было больше, чем у многих его членов. Кроме того, среди этих 80 оказались все руководители ключевых отделов ЦК и силовых ведомств. С ними можно было эффективно контролировать страну.
Брежневский клан имел сложную структуру. В центре находились люди, связанные с Леонидом Ильичем многолетним сотрудничеством и дружбой, – это соратники. Второй, гораздо более многочисленный слой составляли люди, выдвинутые Брежневым на руководящие посты, – выдвиженцы. Чуть особняком стоял круг родственников и приближенных помощников – личное окружение (они часто конфликтовали с представителями первой и второй групп, но, как и выдвиженцы, абсолютно зависели от благоволения Брежнева). Дальнюю периферию составляли сотрудники самих соратников и выдвиженцев. И еще можно выделить группу союзников – это чиновники, достигшие вершин власти до брежневской эпохи, но поддержавшие Брежнева в его борьбе за власть.
Анализ состава ЦК 1981 г. позволяет сделать еще один вывод, касающийся клановой структуры советского общества. Из 87 первых секретарей крайкомов или обкомов КПСС лишь 24 работали за пределами своего края или области. Можно сказать, что первые секретари того времени – это не представители центра в регионах, как при Сталине, а представители региональной элиты.
Чтобы элита могла реализовать свои социальные функции, ей нужны определенные дополнительные структуры и механизмы, которые не регулируются демократическими процедурами и выходят за рамки их применения. Однако для использования этих инструментов сама элита должна быть организована – иметь структуру. В условиях демократии клан является необходимым условием для реализации элитами своих социальных функций с помощью скрытых инструментов и механизмов. Следовательно, элитные кланы всегда выполняют более важные функции в демократических обществах и обладают бóльшей властью. Но парадокс состоит в том, что степень антагонистического отношения к кланам в демократическом обществе значительно выше, чем в любом другом. Кланы необходимы для функционирования общества, и они же противоречат основным принципам этого общества, и поэтому неприемлемы для него. Это уже не просто противоречие, это конфликт.
Как же разрешается этот конфликт? То что кланы ограничивает, то им и помогает. Это демократия. Демократическое общество предусматривает воздействие граждан и социальных групп на свои институты. Элита – тоже граждане, и они пользуются теми возможностями, которые дает демократия. Кланы действуют внутри демократических институтов и посредством демократических процедур. Они лишь поддерживают нужные проекты, полезных политиков, общественных деятелей, максимально расширяют аудиторию для полезных журналистов. Причем все эти люди не обязательно должны быть связаны с кланом, чаще всего они действуют исходя из собственных убеждений и инте- ресов. Возникает совершенно уникальная ситуация, когда деятельность кланов вообще не имеет внешних проявлений. Любое значимое событие в обществе всегда имеет «естественные» причины. Кланы лишь усиливают выгодную для них «естественную» тенденцию и ослабляют невыгодную.
Но именно этот парадокс позволяет надеяться, что в демократическом обществе возможно ограничение кланов. Кланы вынуждены действовать в рамках демократических процедур. Но сами эти процедуры уже ограничивают власть кланов. Например, современным кланам трудно использовать прямое насилие. Для сохранения своего могущества кланы вынуждены это могущество ограничивать. Используя эту тенденцию, можно еще более ограничивать власть кланов.
На основании изложенного выше мы можем сказать: хотя демократическое общество относится к элитным кланам крайне отрицательно и видит в них признак болезни общества, а поэтому старается их просто не видеть, они являются необходимой частью демократического общества. Через кланы элита реализует свои социальные функции и защищает свое положение в нем. Кланы правят этим обществом, находясь в растворенной форме, пронизывая все важнейшие институты этого общества. Они являются гарантией стабильности общества. И в этом их социальная функция. И поэтому они – центр этого общества, его сущность. Но могущество кланов ограничено демократической формой, в которой они осуществляют свою власть.
Клан демократического общества, как и все кланы, отвечает трем требованиям, описанным выше: это конфиденциальность, изоляция и наличие механизмов, гарантирующих лояльность членов клана общим интересам. Однако в демократическом обществе клан удовлетворяет эти потребности совершенно по-другому.
В демократическом обществе меняется потребность в степени клановой секретности и в форме воплощения этой тайны. Растет потребность в секретности. В этом случае основная функция выполняется вручную. С другой стороны, распад кланов в обществе, их неоднозначный характер в сочетании с интересом самих людей к хранению секретов позволяют им существовать открыто, показывая только одно свое лицо перед обществом. Главное – не давать обществу возможности привлечь к себе внимание. Определить заболевание можно только по симптомам.
Распад кланов в демократии автоматически создает некую систему ложных целей. Каждое действие имеет свою цель, что необходимо с точки зрения демократического процесса. Внешняя цель – это не мошенничество или ложь, для достижения демократии необходим ее успех. Но для этого также необходима внутренняя секретная цель. Например, действия западных партий обеспечивают демократический избирательный процесс, но тот же процесс обеспечивает консенсус элит и, в конечном итоге, контроль элит над политическим процессом.
Исторически первым видом кланов были финансовые кланы. Демократическая система в западных странах была создана как в результате социальных революций (Франция, Германия), так и вследствие того, что страна была освобождена от власти другого государства (США, Австрия, Чехия). Единственным примером возникновения демократии при реорганизации монархии была Великобритания и ее бывшие колонии (Австралия, Канада). Конечно, в результате революций старая политико-правительственная элита потеряла или уничтожила свои позиции.
Однако экономическая элита, особенно та ее часть, которая не была тесно связана со старой аристократией, осталась. «Священное право частной собственности» не менее важно для западной демократии, чем само равенство: человека нельзя лишить его собственности. Конечно, демократические революции не ставили перед собой задачу перераспределения собственности. Поэтому в результате революций люди, обладавшие экономической властью в условиях абсолютной монархии, иногда укрепляли свои позиции.
Формально здесь нет конфликта: частный бизнес потому и частный, что осуществляется с частной позиции, т.е. с позиции рядового гражданина, не связанного с властью. И поэтому его тем более нельзя разрешить открыто с помощью явных общественных механизмов. Поэтому крупные финансовые группы в демократическом обществе с неизбежностью принимают форму кланов – социальных структур, которые в реальной жизни общества играют бóльшую роль, чем предписано им демократией, и которые для реализации своей социальной функции вынуждены использовать инструменты, которые либо запрещены к использованию в демократическом обществе, либо формально в этом обществе не могут существовать.
Более того, поскольку финансовые кланы обладают могуществом, соизмеримым с могуществом государств, их отношения с государством превращаются в отношения равных субъектов, а такие отношения чреваты войнами. Но общественное устройство не предусматривает войн групп граждан с государством. Поэтому клановая структура является механизмом защиты финансовых групп от внешних посягательств, в первую очередь от посягательств государства. И еще: уже в XIX в. многие финансовые проекты имели международный характер, этим финансистам нужны были механизмы защиты не только от своего, но и от чужого государства.
Механизм сохранения клановой тайны также претерпел существенные изменения. Изначально тайна обеспечивалась тем, что все важное не выходило за рамки семьи. Сегодня, конечно, этот механизм используется, но его недостаточно в условиях информационного общества. В этом обществе тайна достигается не за счет сокрытия информации, а за счет растворения важной информации в огромном потоке информации незначительной, из которого человек, не посвященный в тайну, просто не сможет выделить нужное. Способом такого растворения для финансовых кланов является акционерный капитал.
В результате связь между финансовой семьей и конкретным бизнесом очень трудно установить. На поверхности остается лишь периферия – управляющие. Это позволяет подобным кланам раствориться: внешне они не оказывают влияния на жизнь общества, может показаться, что их вообще уже не существует. Но как только встает действительно стратегический вопрос, президенты компаний и стран спешат согласовать свои решения с крупнейшими и старейшими акционерами. Лучшей формы сохранения тайны не придумаешь: вроде их и нет, а без них ничего не решается.
Таким образом, можно сказать, что семейные финансовые кланы – старейшая и наиболее простая, естественная форма экономического клана, которая является замкнутой тайной структурой, обеспечивающей финансовой олигархии возможность выполнять свою социальную функцию и защищать свои интересы, т.е. является именно кланом.
Старейшими после финансовых были политические кланы. Как мы уже говорили выше, демократический строй установился в значительной части современных стран в результате социальных (Европа) или национальноосвободительных (Америка) революций. Во главе этих революций стояли некие группы людей. Именно эти группы стали новой – политической – эли- той. Под политической элитой мы будем понимать ту часть элиты, источником привилегированного положения которой является обладание политической властью.
Современная политическая элита развитых стран не имеет наследственной политической аристократии. Но политические кланы на Западе существуют. Противоречие между статусом и функцией, порождающее элитные кланы демократического общества, проявляется и в политике. Источником политической власти при демократии является народ. Политик – это выразитель народной воли, слуга народа. Но этот слуга для реализации своей социальной функции политического управления концентрирует в своих руках огромную власть. Слуга оказывается могущественней хозяев. Современные политические кланы – это форма разрешения данного противоречия.
Таким образом, можно сказать, что команды крупных политиков обладают всеми признаками элитного клана и являются простейшей формой политического клана. Наиболее важной частью выборного процесса является сбор средств, необходимых для выборов. Сегодняшние выборы столь дороги, что в мире нет человека, способного избираться за свой счет на ключевые посты в любой западной стране. Выборная машина может работать только при наличии постоянных пожертвований со стороны крупного бизнеса. Но бизнес дает деньги лишь в обмен на проведение необходимых ему политических решений. Гарантом того, что эти решения будут приняты, оказывается партия, вернее, ее аппарат, который может отказать в поддержке политику, не придерживающемуся договоренностей.
В Европе, где политический лидер партии является хозяином аппарата партии, партийные кланы – это самая важная и самая закрытая часть политического клана – команды. Принципы функционирования этого клана мы описали выше. Примером может служить клан Г. Коля в ХДСС. К этому клану принадлежала в свое время и канцлер А. Меркель.
В США, где партийный аппарат независим от политического лидера, внутрипартийные кланы формируются по типу кланов аппаратных – чиновничьих. Единственное отличие таких кланов от кланов государственных чиновников – это еще большая закрытость. Партийные аппараты в США – организации общественные, отделенные от политической власти. С точки зрения демократии происходящее в них является частным делом.
Следующий тип кланов – это кланы государственных чиновников. Противоречие между функцией и статусом в исполнительном государственном аппарате намного острее, чем в бизнесе или политической сфере. Требуя от политиков быть слугами народа, демократическое общество, пусть и с неудовольствием, признает факт их элитарности. Чиновникам в привилегированном статусе отказано полностью. С точки зрения принципов этого общества чиновники – это обслуживающей персонал политиков. Между тем власть, сконцентрированная в руках государственного аппарата, не меньше, а может быть, и больше, чем у политического класса.
Описанные выше типы кланов объединялись на основе совместной деятельности: в экономике, политике, государственном управлении. Но элите необходимо защищать свои интересы не только в деятельности, но и в рамках определенной территории – города, района, избирательного округа и т.д. Элита территории также должна иметь свою структуру. Формой такой структуры являются клубы – организации отдыха, развлечения и общения. Но в ходе этого общения у представителей элиты появляется возможность согласовать все свои позиции по поводу ситуации на их территории. Наверное, это самая массовая и простая форма клана. Члены клуба не имеют перед ним и другими членами никаких обязательств, а поэтому нет никаких механизмов лояльности. У большинства клубов нет никакой тайны. Люди в них делают то, что заявлено: отдыхают и общаются. Клубы эти открыты для тех, кто обладает необходимыми качествами – властью, деньгами, славой.
Но, может быть, это не кланы? Эти структуры позволяют вырабатывать единую позицию, а значит навязывать ее обществу. Через клубы элита защищает и воспроизводит свое привилегированное положение. Поэтому мы видим в простоте клубной формы не отсутствие клановых черт, а предельную раство-ренность этой формы в обществе. Но стоит только кому-то пойти против отцов города, как он столкнется с мощным противодействием. И тонкость клубной формы состоит в том, что для объединения усилий его членам не обязательно даже договариваться. Их социальное единство приведет к тому, что, защищая себя, каждый будет защищать всех.
Кроме того, клубная форма создает площадку для формирования межэлитных союзов – бизнеса с политиками, чиновников с бизнесом, представителей различных партий, финансовых групп и т.д. Такие же союзы формирует партийная система. Но партии привязаны к выборам и поэтому недостаточно гибки. Союзы же необходимо формировать быстро и по различным вопросам. Здесь клубная форма незаменима. Примером такого клуба являются «Богемиан гроув» (Богемская роща), Бильдербергский клуб [Сенченко, Гастинщиков 2008: 29-31, 56-66].
Что касается России, то это страна, в которой революция произошла не 200 лет назад, как в США, во Франции или Латинской Америке, а всего лишь менее 20 лет назад. Эта революция, как и в 1917 г., была революцией ценностной. Октябрьская революция заменила традиционные российские ценности на социалистические, марксистские. Революция 1990-х гг. заменила социалистические ценности на демократические, западные. При этом произошла любопытная подмена: главной ценностью нового общества стала не демократия, а потребление. А это привело к тому, что Запад, где уровень потребления выше, стал восприниматься как идеал, а собственная страна – как безнадежно отсталая и неспособная к самостоятельным успехам.
Такая подмена произошла не случайно. Почва для нее возникла еще в СССР 1960–1970-х гг. В этот период власть пыталась укрепить общество за счет повышения уровня жизни. Этот рост уровня жизни стал единственным критерием успешности самой власти. Таким образом, именно власть поставила в центр общественной жизни критерии общества потребления: общество тем лучше, прогрессивнее и успешнее, чем богаче и комфортнее я живу. Но если рядовые граждане сравнивали сегодняшний день со вчерашним, то элита общества сравнивала жизнь в СССР с жизнью на Западе. Поскольку уровень потребления у нас был намного ниже, то по критериям общества потребления наша страна была отсталой и недоразвитой. Таким образом, именно в элите (особенно в ее молодой части) западничество и неуважение к собственной стране стало нормой. Как только старики ушли из власти, она оказалась в руках носителей этой идеологической позиции. Западничество из скрытой позиции превратилось в явную, а после 1991 г. – в официальную. А пропаганда западной жизни сделала эту позицию массовой. Постсоветское российское общество – это общество, стремящееся на Запад.
Естественно, элита такого общества может быть только западнической. С одной стороны, главную свою цель элита видит в том, чтобы на любых условиях быть принятой в западной элите. А с другой стороны, собственная страна рас- сматривается не как самостоятельная ценность, а как средство для получения ресурсов, которые можно использовать для обеспечения своего существования в западном раю. Отечественные кланы имеют свои особенности. Во-первых, в силу того, что собственность раздавалась государством и легитимность этих раздач весьма сомнительна, у государства всегда есть повод отнять данное. Поэтому наши олигархи абсолютно зависимы от государства. На непрозрачность приватизации как механизм контроля власти над финансовыми кланами обращают внимание отечественные исследователи, в частности И.Н. Барыгин. Он видит в «отказе широких общественных слоев смириться с итогами приватизации» причину незавершенности трансформации современных российских элит, т.е. их недоразвитости [Барыгин 2004].
Во-вторых, крупный капитал у нас сосредоточен в двух сферах: в финансовой и сырьевой (нефть, газ) или полусырьевой (металлы). Поэтому наши олигархи зависимы от западного капитала, без сотрудничества с которым они просто не могут вести свой бизнес. Такая двойная зависимость делает финансовые кланы в России, с одной стороны, не самостоятельными игроками, а скорее инструментами в руках мирового капитала и собственной власти. А с другой стороны, она делает их нестабильными. Потеря поддержки в Кремле приводит к краху крупных бизнес-структур.
Командно-политические кланы существовали и существуют в России до сих пор, но сгруппированы они не вокруг политиков – депутатов и сенаторов, влияние которых на жизнь российского общества очень мало, а вокруг крупных чиновников. Своя политическая команда была у Черномырдина, Гайдара, Шахрая, Лебедя. Но эти структуры являются производными от исполнительной власти, а поэтому еще более нестабильны и еще более зависимы, и значение их весьма невелико.
Вторичность политической сферы по отношению к административной в современной России подробно описывает О.В. Гаман-Голутвина. Она пишет: «Таким образом, в современной России не парламент формирует политическую власть, а парламентарии избираются благодаря патронажу исполнительной власти и Администрации Президента РФ». О политических партиях она пишет: «Российские партии выполняют не столько функции селектора, сколько являются инструментом отбора в руках селектора» [Гаман-Голутвина 2003: 119, 128]. Селектором являются политико-финансовые кланы, состоящие из высших чиновников и олигархов.
Но, как мы уже сказали выше, финансовые олигархические кланы зависят у нас от чиновничьих. Это положение иллюстрируют В.С. Комаровский и Л.В. Сморгунов, говоря о политической роли административного (чиновничьего) управления в современной России [Лифанов 2007: 197].
Вся нынешняя российская элита появилась практически одномоментно, вследствие чего она едина по возрасту и культуре. Поэтому элитных клубов в России достаточно. Но все проекты клуба-клана, концентрирующего в своих руках значимые ресурсы, провалились (Клуб Яковлева, Президентский клуб). Причиной является нестабильность российской элиты. Такой клуб – явление долгосрочное, и он может функционировать лишь при условии долгосрочного существования в элите его членов.
Российские кланы зависимы от Запада и своей государственной власти. В силу своего зависимого положения элитные кланы не разделены синкретично. Все они являются периферией кланов чиновничьих. Именно на связи с ними держится могущество всех кланов. В силу своего зависимого положения наши кланы нестабильны, и поэтому элитные кланы перестают быть заинтересован- ными в долгосрочном сохранении общества как своей оболочки. Интересы кланов и интересы общества, в отличие от развитой демократии, в России не совпадают [Барзилов, Чернышов 2005: 280-290]. Кланы не выполняют функции гаранта стабильности общества, а являются временщиками, заинтересованными в выкачивании ресурсов из страны.
Но парадокс состоит в том, что, поскольку остальные социальные структуры демократического общества также были сознательно созданы элитой (т.е. этими кланами) в подражание Западу, то эти структуры (пресса, общественные организации) оказались даже в большей степени, чем на Западе, в руках кланов. А поэтому наши протокланы, временщики – сущность нашей социальной системы. И именно поэтому эта система такова, какова она есть.
В протоклановости проявляются западнические черты, причем западничество наших кланов объективно. В том положении, которое они занимают, западническая позиция наиболее удобна. Но само положение является результатом нашей революции 1990-х гг. Именно эта революция сформировала такой государственный аппарат. Создав частную собственность с помощью раздачи государственной, нельзя было создать иной формы финансовых кланов. Наши протокланы являются результатом ускоренного искусственного вмонтирования западных механизмов в советское общество. Главная задача сегодня – создать такие условия, в которых кланы могли бы играть не отрицательную, а положительную роль. А для этого необходимо избавить российскую клановую систему от ее своеобразия, и в первую очередь от ее западничества, ориентации на подчиненное положение себя и страны внешним силам.
В заключение можно сделать основные выводы.
-
1. Элитные кланы возникают при абсолютных монархиях, диктатурах или демократиях, когда правительство или гражданское общество стремятся ограничить или уничтожить привилегированное положение этого слоя. Клан – одна из форм защиты социального организма от агрессивного воздействия окружающей среды.
-
2. Происхождение клана основано на противоречии между функцией и статусом. Функции элиты заключаются в том, чтобы управлять различными ветвями общественной жизни, поглощать значительные ресурсы, что означает власть, в то время как элитный статус – быть слугой правительства или общества. В таких условиях клан был одной из форм защиты интересов элиты.
-
3. Наиболее острое противоречие между функцией и статусом происходит в демократическом обществе. Демократия по самой своей природе не дает привилегированного положения отдельным лицам или группам. Элитный клан в демократическом обществе – это не только средство самообороны элиты, но и механизм ее воспроизводства и выполнения социальных функций. Кланы в демократических обществах ведут себя иначе, чем в других. Деятельность клана не изолирована от демократических механизмов, а растворяется в них. Клан не возражает против властей, а лишь немного исправляет процесс, оставаясь в рамках демократических процедур.
-
4. Являясь наиболее стабильной частью социального организма, клан является гарантом стабильности общества в целом, гарантируя преемственность экономического и политического течения общества. И это особая социальная функция самого клана. Распавшаяся ситуация изменила тайную форму клана. Секретность действий клана достигается не за счет сохранения в секрете определенных структур, а за счет неспособности отличать естественные процессы и влияние клана на них.
-
5. Роспуск в рамках демократической процедуры дал кланам огромные дополнительные полномочия. Однако это также ограничивало власть клана.
-
6. Причиной появления протокланов стала революция 1990-х гг., во время которой западные общественные механизмы были навязаны советской государственной системе.
-
7. Клановая структура элиты – это не болезнь элиты, а ее нормальное состояние. Поэтому ликвидировать клановую структуру элиты невозможно. Но общество может минимизировать негативные последствия клановой структуры элиты. Для этого нужно сделать ряд шагов: создать как можно более прозрачную кадровую систему в органах государственной власти (конкурсная процедура); расширить число социальных лифтов и сделать эту процедуру как можно более публичной (конкурс «Лидеры России»); создать цивилизованный лоббизм.
Список литературы Политические кланы - антология развития, влияние на государственную стабильность
- Барзилов С.И., Чернышов А.Г. 2005. Безумство власти. Провинциальная Россия: двадцать лет реформ. М.: Ладомир. 296 с.
- Барыгин И.Н. 2004. Нестабильность элит и партийно-политический дискурс современной России. Властные элиты современной России. Ростов н/Д. 243 с.
- Гаман-Голутвина О.В. 2003. Политико-финансовые кланы и политические партии как селекторат в процессах парламентского представительства современной России. - Власть и элиты в современной России. СПб: Интерсоцис. С. 118-132.
- Гаман-Голутвина О.В. 2006. Политические элиты России: Вехи исторический эволюции. М.: РОССПЭН. 446 с.
- Кавелин К.Д. 1989. Наш умственный строй: статьи по философии русской истории и культуры. М.: Правда. 653 с.
- Лифанов А.И. 2007. Политическая элита либерально-демократического типа: структурно-функциональная модель. Новосибирск: Изд-во НГУ. 269 с.
- Сенченко Н.И., Гастинщиков В.Г. 2008. Энциклопедия тайных обществ. Киев, Книга Роду. 306 с.