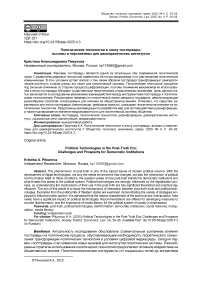Политические технологии в эпоху постправды: вызовы и перспективы для демократических институтов
Автор: Пикунова К.А.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
Феномен постправды является одной из актуальных тем современной политической науки. С развитием цифровых технологий изменилась не только медиасреда, но и сам механизм политической коммуникации. В этих условиях встает вопрос о том, каким образом постправда трансформирует демократические институты и какие угрозы это несет для политической системы. Политические технологии находятся под сильным влиянием со стороны процесса цифровизации, поэтому понимание механизмов их использования в эпоху постправды обладает существенным теоретическим и практическим значением. Цель данной статьи заключается в исследовании механизмов взаимодействия между инструментами постправды и политическими технологиями. Рассмотрены примеры из политической жизни западных государств, демонстрирующие разнообразие стратегий, используемых для влияния на общественное мнение. Отмечено, что средства, характерные для эпохи постправды (манипуляции, фейковые новости), оказывают значительное влияние на политические технологии. Предложены рекомендации по разработке мер для противодействия дезинформации, а также подчеркивается значение медиаграмотности для политической системы общества.
Постправда, политические технологии, дезинформация, демократические институты, социальные сети, манипуляция, медиаграмотность
Короткий адрес: https://sciup.org/149148081
IDR: 149148081 | УДК: 321 | DOI: 10.24158/pep.2025.4.3
Текст научной статьи Политические технологии в эпоху постправды: вызовы и перспективы для демократических институтов
машинного обучения) способны существенным образом изменять течение политических процессов в государстве. Особенностью медийной сферы сегодня становится то обстоятельство, что факты в новостном потоке все чаще подменяются эмоционально окрашенными нарративами, а дезинформация распространяется с высокой скоростью. Данная статья ставит целью исследовать, каким образом постправда трансформирует политические технологии и какие вызовы это создает для политической системы общества. Изучение политических технологий в контексте постправды приобретает особую актуальность, учитывая, что информационные потоки становятся все более эмоционально насыщенными. Постправда предполагает доминирование нарративов над объективными фактами, что создает благоприятную почву для манипуляции общественным мнением. Политические технологии усиливают эти тенденции, позволяя распространять дезинформацию с беспрецедентной скоростью. Понимание механизмов использования таких технологий необходимо для разработки эффективных стратегий противодействия фейкам и иным характерным проявлениям манипулятивной информации. Это исследование помогает выявить уязвимости современных политических систем и предложить средства для их укрепления в условиях информационной «турбулентности».
Материалы и методы исследования . Научная новизна статьи заключается в формулировке концепции «гиперпостправды» как следующего этапа эволюции политической коммуникации, где информационные симуляции становятся автономными и не поддаются верификации. Также в работе впервые рассмотрены политические технологии как медиаплатформенные алгоритмы, формирующие реалии в условиях цифрового суверенитета.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения выводов при разработке программ медиаграмотности, формировании государственной политики в сфере информационной безопасности, а также в деятельности по противодействию политической манипуляции в цифровом пространстве.
Методологическая база исследования включает междисциплинарный подход, сочетающий политическую философию, теорию цифрового общества и когнитивную лингвистику. Использованы методы контент-анализа, кейс-стади и сравнительно-политического анализа для выявления трансформации политических технологий в эпоху постправды.
Теоретическая основа опирается на положения современной политической теории, концепции цифрового общества и медиафилософии, включая идеи о трансформации публичной сферы, сетевой политике, а также феномене постправды как особом состоянии политического дискурса, в котором эмоционально окрашенные нарративы вытесняют рациональное осмысление действительности.
Результаты исследования и их обсуждение . Научные изыскания демонстрируют разнообразные подходы к изучению постправды как сложного феномена. Постправда как феномен сетевой политики является не просто инструментом дезинформации, а структурным элементом современной цифровой коммуникации. По мнению А.Г. Костырева, постправда «отражает глубинные аксиологические установки индивида» (Костырев, 2021: 64) и формируется под воздействием сетевых алгоритмов, которые усиливают эффект информационной перегрузки и способствуют доминированию эмоциональных нарративов над рациональными аргументами. В условиях цифровой политической борьбы успешность политических акторов определяется не столько достоверностью распространяемых сведений, сколько их способностью вызывать эмоциональный отклик у аудитории и поддерживать высокий уровень вовлеченности в сетевые коммуникации.
Исследование Е.В. Масланова показывает, что феномен постправды в политике имеет параллели в науке, где наблюдается несоизмеримость научных парадигм. Он отмечает, что «в рамках развития науки существует определенная несоизмеримость между теориями» (Масланов, 2023а: 75). Это затрудняет поиск единой истины и ведет к разделению научного сообщества на конкурирующие школы. В политике аналогичным образом взаимодействуют различные нарративы, которые не стремятся к компромиссу, а конкурируют за доминирующее положение в общественном сознании. Масланов предлагает использовать концепцию «торговых зон», заимствованную из науки, как механизм преодоления эффектов постправды, что может способствовать созданию пространства для диалога между носителями разных политических позиций.
Понятие «постправда» (от англ. – post-truth) вошло в широкий обиход в 2016 г., когда Оксфордский словарь назвал его «словом года». Этот термин был определен как обстоятельства, в которых объективные факты оказывают меньшее влияние на формирование общественного мнения, а доминирование получают апелляции к эмоциям и личным убеждениям. Недостоверная информация (пример – полуправда) существовала и раньше, однако лишь в течение последних нескольких лет информационное пространство стало более фрагментированным, что способствовало распространению конспирологических теорий. Термин «постправда» обрел новую актуальность в XXI веке в условиях внедрения алгоритмов персонализированного контента для массового распространения дезинформации. Эти технологии позволяют формировать «эхо-камеры», в которых пользователи сталкиваются в основном с информацией, подтверждающей их существующие взгляды. Такие герметично изолированные информационные среды усиливают поляризацию общества и подрывают доверие к традиционным источникам информации. Цифровое общество разделено на атомарные структуры, каждая из которых образована системой личных интересов, информационными предпочтениями и приятием только комфортной информации.
В условиях популистской политики постправда приобретает дополнительные черты, становясь инструментом борьбы с традиционными элитами. Как утверждает Е.В. Масланов, «популизм подвергает сомнению особую роль политической и научной элиты» и противопоставляет народ экспертному знанию, создавая альтернативные модели легитимации власти (Масланов, 2023б: 234). В таких условиях политические дискуссии смещаются в сторону эмоциональных аргументов, а научные концепции становятся объектом критики со стороны популистских движений. Это ведет к формированию «нового научного мифа», направленного на построение альтернативной картины политической и социальной реальности.
Постправда стала символом эпохи, в которой технологические изменения создают новые вызовы для политического дискурса. В условиях постправды эмоциональная составляющая политической коммуникации становится более важной, чем рациональные аргументы. Постправда является следствием не только технологических изменений, но и более глубоких социальных трансформаций.
В свою очередь, понятие «политические технологии» охватывает широкий спектр инструментов и стратегий, используемых для управления общественным мнением. Существует несколько подходов к определению этого термина.
С одной стороны, политические технологии рассматриваются как совокупность методов, направленных на оптимизацию политических процессов. При такой интерпретации они включают в себя анализ данных, маркетинговые стратегии и медиапланирование. Эти средства помогают политическим акторам эффективно взаимодействовать с целевыми аудиториями.
С другой стороны, политические технологии могут быть определены как инструменты, используемые для контроля над информационными потоками. Такая интерпретация предполагает распространение пропаганды, дезинформации и других форм манипулятивного контента. В этом смысле они служат средством для формирования общественного мнения в интересах определенных политических сил.
Наконец, существует подход, который рассматривает политические технологии через призму информационных технологий, что позволяет более отчетливо определить роль социальных сетей, алгоритмов и больших данных в современной политической коммуникации. Эти технологии дают возможность анализировать информацию о предпочтениях избирателей и создавать персонализированные сообщения. В совокупности все это максимизирует воздействие на целевые группы. Таким образом, политические технологии представляют собой сложный феномен, объединяющий традиционные и инновационные методы влияния на политическую сферу.
Постправда изменила само понятие политической реальности: манипуляция общественным мнением вышла на новый уровень, когда факт уступает место эмоциональному нарративу. В эпоху постправды эмоциональная составляющая политической коммуникации часто преобладает над объективными фактами. Политические технологии в условиях постправды можно разделить на три ключевых типа: массовую дезинформацию, персонализированную манипуляцию и постмодернистскую постправду. Если первый тип направлен на искажение объективной реальности, то второй использует когнитивные искажения пользователей, а третий размывает границы между правдой и вымыслом, превращая политику в перформанс.
Во-первых, это проявляется в увеличении роли аналитики больших данных и алгоритмов машинного обучения, которые позволяют точно настраивать сообщения под конкретные предпочтения аудиторий. Такие технологии помогают создавать персонализированные нарративы, которые резонируют с индивидуальными убеждениями. Погружение в информационный шум создает псевдознание, которое мало применимо на практике. В этих условиях демократическим институтам необходимо искать способы адаптации – либо через регулирование медиаплатформ, либо через повышение медиаграмотности общества.
Во-вторых, обратный эффект заключается в том, что постправда также стимулирует развитие технологий, направленных на борьбу с дезинформацией. Сегодня на рынке политических технологий появились системы автоматического обнаружения фейковых новостей. Однако эти технологии часто сталкиваются с проблемами адаптации методов распространения дезинформации. Г.С. Мельник и Б.Я. Мисонжников рассматривают постправду в контексте медиадискурса и информационных войн, подчеркивая, что «в условиях информационно-психологического противостояния большинство новостей в медиапространстве не отвечает критерию достоверности» (Мельник, Мисонжников, 2023: 165). Особенно остро этот феномен проявляется в период кризисов и военных конфликтов, когда дезинформация используется как инструмент управления общественным мнением. Авторы подчеркивают, что современные технологии позволяют значительно усложнить процесс проверки информации, создавая так называемый «провокативный медиадискурс», в рамках которого факты подменяются манипулятивными интерпретациями.
Алгоритмы машинного обучения помогают политикам адаптировать сообщения к аудитории, учитывая ее интересы. Они используют эмоционально насыщенный и провокационный контент, что способствует распространению дезинформации и фейковых новостей. Также использование ботов позволяет имитировать активность для усиления достоверности нарративов. Это создает иллюзию широкой поддержки или общественного консенсуса. Запоздалая реакция на вброс (отложенная на несколько часов или дней) «дает время фейку завладеть сознанием массовой аудитории и в нём укорениться» (Манойло, 2020: 102).
Визуальные материалы deepfake-технологий используются для создания убедительных, но ложных изображений, которые могут вводить в заблуждение даже самых бдительных наблюдателей. В совокупности эти технологии создают эволюционирующую среду для манипуляции, где факты становятся относительными понятиями, а эмоциональная составляющая играет решающую роль в формировании общественного мнения. Так, негативная реакция общественности на отдельные заявления политика при умелой обработке в СМИ с легкостью экстраполируется на всю его предвыборную программу.
Политические технологии постепенно адаптируются под новые условия эпохи постправды. Люди все чаще оказываются в изоляции от альтернативных точек зрения, что способствует формированию крайних позиций и нетерпимости к инакомыслию. Тема политических технологий в эпоху постправды вызывает острую реакцию со стороны консервативных политиков, которые обеспокоены тем, как эти технологии подрывают традиционные ценности. Многие из них видят в постправде и манипулятивных технологиях угрозу социальной стабильности, что заставляет их искать способы защиты консервативных идеалов в условиях быстро меняющегося информационного ландшафта1.
Дезинформация может быть использована для манипуляции общественным мнением, что также является вызовом для демократических государств. В ответ на эти угрозы в целом должны разрабатываться стратегии повышения медиаграмотности, укрепления институциональной прозрачности и разработки технологических решений для эффективного противодействия дезинформации. Например, в США политические технологии сыграли значительную роль в последних избирательных кампаниях. Одним из ярких примеров является использование социальных сетей и микротаргетирования для распространения дезинформации. В кампании 2016 г. и последующих выборах наблюдалось активное использование ботов и фейковых аккаунтов для усиления определенных нарративов. Алгоритмы социальных сетей способствуют распространению эмоционально окрашенного и провокационного контента. В ответ американские технологические компании и правительственные учреждения начали разрабатывать меры для противодействия дезинформации. Они внедрили алгоритмы модерации контента (Феофанов, 2023).
Другой пример из США связан с использованием технологий для мобилизации избирателей. В последние годы наблюдается рост использования аналитики больших данных для создания детальных профилей избирателей. Это включает в себя использование данных из социальных сетей, сведений о потребительском поведении для прогнозирования предпочтений и поведения избирателей. Однако это также вызывает опасения по поводу этичности использования личных данных в политических целях.
Во Франции примером использования политических технологий в контексте постправды может служить президентская кампания 2017 г. Тогда Э. Макрон столкнулся с массированной кампанией дезинформации. В преддверии выборов были зафиксированы многочисленные случаи распространения фейковых новостей, направленных на дискредитацию его партии «Вперед, Республика!». Эти кампании часто координировались через социальные сети и анонимные интернет-плат-формы и включали в себя распространение ложной информации о личной жизни Э. Макрона. В ответ французское правительство приняло меры для противодействия дезинформации, создав несколько специальных команд для удаления фейковых новостей из интернета. Сам Э. Макрон и его команда активно использовали технологии для мобилизации поддержки и общения с избирателями через цифровые платформы.
Согласно исследованию Reuters Institute, более 60 % пользователей социальных сетей хотя бы раз сталкивались с фейковыми новостями, а 35 % из них активно делились недостоверной информацией (Newman et al., 2023: 60–62). Это подтверждает гипотезу о том, что постправда не только изменяет восприятие политической реальности, но и становится социальным феноменом, поддерживаемым самой аудиторией.
Сегодня искусственный интеллект (далее – ИИ) и блокчейн-технологии предлагают новые возможности для противодействия постправде. ИИ используется в автоматизации процессов обнаружения и фильтрации фейковых новостей. Алгоритмы машинного обучения могут анализировать большие объемы данных, выявляя паттерны потенциально ложной информации. Эти системы способны быстро идентифицировать и маркировать подозрительный контент, помогая пользователям принимать более обоснованные решения при потреблении информации. ИИ может использоваться для анализа источников информации, что позволяет оценивать их надежность на основе истории публикаций. Выход из лабиринта «разрушения правды» видится в поисках использования возможностей, создаваемых новыми разработками, для «отстаивания фактов, сопротивления потоку дезинформации и субъективных оценок, опирающегося на культурное наследие, которое является необходимым условием существования общества» (Грачев, Евстифеев, 2020: 243).
О.А. Дмитриев и Д.Г. Евстафьев вводят понятие постреальности как следующего этапа эволюции постправды, отмечая, что «если ранее постправда фиксировала возможную равнозначность разных трактовок событий, то теперь она стала инструментом управления реальностью» (Дмитриев, Евстафьев, 2024: 112). Информационная сфера превращается в поле стратегической пропаганды, где побеждают не те, кто приближается к истине, а те, кто обладают большими возможностями для навязывания своей интерпретации фактов. Это приводит к тому, что политические процессы все больше зависят от информационного контроля и создания искусственных нарративов, полностью подчиненных интересам определенных групп влияния. Также необходимо повышать медиаграмотность населения, чтобы граждане могли критически оценивать получаемую информацию.
Развивая логику теории постправды и учитывая трансформацию политической реальности, можно предложить ее последовательную эволюцию в форму гиперпостправды – состояния, при котором информационные манипуляции выходят за рамки привычных механизмов дезинформации и приобретают автономный характер, существуя и воспроизводясь независимо от реальности. Гиперпостправда – это новый уровень информационной симуляции. Теперь реальность не просто подменяют. Ее переписывают заново, столько раз, сколько потребуется. Если постправда предполагает подмену фактов эмоциональными нарративами, опираясь на когнитивные искажения аудитории, то гиперпостправда выходит за пределы традиционной манипуляции: теперь даже понятие правды становится вопросом алгоритмического выбора.
Концепция постправды традиционно рассматривается как следствие увеличивающегося влияния эмоций и субъективных восприятий на политические процессы. Однако гиперпостправда выходит за эти рамки, формируя информационную среду, в которой ложные нарративы не просто конкурируют с истиной, а обретают статус независимой реальности.
Таким образом, гиперпостправда представляет собой не просто новую форму дезинформации. Это этап, где реальность становится настолько гибкой, что даже попытки верификации теряют смысл. Одним из центральных механизмов гиперпостправды становится генеративный искусственный интеллект, который способен производить не просто дезинформацию, а целостные альтернативные версии событий, которые невозможно отличить от реальных. Примеры этой трансформации включают deepfake-технологии, создающие фальшивые видеовыступления политиков, ИИ-журнализм, при котором генеративные модели новостей могут массово тиражировать нарративы без реального фактического основания.
Гиперпостправда – это тот момент, когда правда перестает быть чем-то объективным. Теперь она становится еще одним инструментом в руках тех, кто управляет алгоритмами. Гиперпостправда как новый этап эволюции информационного общества открывает несколько сценариев развития политической коммуникации:
-
1. Тотальная алгоритмическая реальность – правда становится исключительно программным кодом, формируемым цифровыми платформами и ИИ.
-
2. Гибридное государственное регулирование – правительства вводят жесткий контроль над алгоритмической модификацией политической информации.
-
3. Расцвет критического мышления – общество адаптируется и создает новые методы проверки информации, включая технологии блокчейна и децентрализованные механизмы фактчекинга.
Сегодня реальность больше не фиксирована – она постоянно модифицируется, перерабатывается, подстраивается под изменяющийся цифровой дискурс. Гиперпостправда – это качественно новый режим функционирования политического сознания, при котором аудитория становится частью алгоритмически сконструированной политической реальности. Традиционная теория постправды рассматривает этот феномен как эволюцию политической коммуникации. Однако данный подход упускает из виду важный фактор – технологическую детерминированность информационных потоков, обусловленную работой алгоритмов. Следовательно, необходим новый теоретический подход, учитывающий алгоритмическую селекцию информации.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. В эпоху постправды политические технологии становятся мощным инструментом влияния. Они предоставляют новые возможности для эффективного взаимодействия с гражданами. Аналитика больших данных и персонализированный контент позволяют политическим акторам более точно настраивать свои сообщения. С другой стороны, эти же технологии могут быть использованы для распространения дезинформации, что усиливает политическую поляризацию. В конечном итоге успешная навигация в эпоху постправды требует объединения усилий технологических компаний и гражданского общества для защиты политических институтов. Постправда – это динамическое явление, которое продолжает эволюционировать. В будущем важными направлениями исследования могут стать анализ влияния генеративного ИИ на политическое восприятие, сравнительный анализ регулирования цифровых платформ в разных странах и изучение восприятия политических нарративов поколением Z.
Список литературы Политические технологии в эпоху постправды: вызовы и перспективы для демократических институтов
- Грачев М.Н., Евстифеев Р.В. Концепт "разрушения правды" в условиях цифрового общества (аналитический обзор) // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. Т. 13, № 2. С. 229-248. DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-2-12 EDN: CKTGBY
- Дмитриев О.А., Евстафьев Д.Г. От постправды к постреальности // Россия в глобальной политике. 2024. Т. 22, № 4 (128). С. 110-121. DOI: 10.31278/1810-6439-2024-22-4-110-121 EDN: TRZGSS
- Костырев А.Г. Постполитика в сетях постправды // Полис. Политические исследования. 2021. № 2. С. 64-75. DOI: 10.17976/jpps/2021.02.05 EDN: TILEBW
- Манойло А.В. Цепные реакции каскадного типа в современных технологиях вирусного распространения "фейковых новостей" // Российский социально-гуманитарный журнал. 2020. № 3. С. 75-107. DOI: 10.18384/2224-0209-2020-3-1027 EDN: FDXQQD
- Масланов Е.В. Пост-правда и несоизмеримость: наука и политика в эпоху пост-правды // Вестник Томского государственного университета. 2023а. № 486. С. 74-82. DOI: 10.17223/15617793/486/8
- Масланов Е.В. Социальная эпистемология и вызовы популизма // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023б. № 74. С. 234-241. Х/74/20. DOI: 10.17223/1998863 EDN: OIETDJ
- Мельник Г.С., Мисонжников Б.Я. Постправда и концепт "война" в провокативном медиадискурсе // Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 4. С. 164-172. DOI: 10.21209/1996-7853-2023-18-4-164-172 EDN: AQRWFS
- Феофанов К.А. Постправда - фактор деградации социально-политического дискурса // Обозреватель. 2023. № 2 (397). С. 36-51. DOI: 10.48137/2074-2975_2023_2_36 EDN: XNDMUZ
- Digital News Report 2023 / N. Newman [et al.]. Oxford, 2023. 164 p.