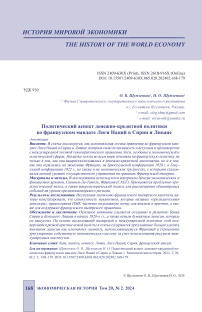Политический аспект денежно-кредитной политики во французском мандате Лиги наций в Сирии и Ливане
Автор: Щупленков О.В., Щупленков Н.О.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: История мировой экономики
Статья в выпуске: 2 (65) т.20, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье исследуется, как колониальная логика правления во французском мандате Лиги Наций в Сирии и Ливане потеряла свою позитивность и вступила в противоречие с международной логикой технократического правления Лиги, особенно в экономической и политической сферах. Нехватка золота во всем мире повлияла на французскую политику не только в том, как она выкристаллизовалась в денежно-кредитной дипломатии, но и в том, как она отразилась на экономике Франции, на Брюссельской конференции 1920 г. и Генуэзской конференции 1922 г., но также и на экономических трудностях, с которыми сталкивался низкий уровень государственного управления на границах Французской империи.
Банк, валюта, комитет, ливан, лига наций, сирия, французский мандат
Короткий адрес: https://sciup.org/147243843
IDR: 147243843 | УДК: 930 | DOI: 10.15507/2409-630X.065.020.202402.168-179
Текст научной статьи Политический аспект денежно-кредитной политики во французском мандате Лиги наций в Сирии и Ливане
Незаслуженно забытый историографией, французский мандат в Сирии и Ливане в последние годы пользуется повышенным интересом, в частности, благодаря открытию с конца 1980-х гг. исключительно богатых фондов Французского Управления Верховного комиссара в Бейруте. Основываясь на научных работах, как французских, так и англосаксонских, с тех пор посвященных этому малоизвестному эпизоду средиземноморской экспансии Франции, было сочтено полезным представить размышление о роли финансово-кредитной политики Франции в отношении Сирии и Ливана. Авторы подчеркивают необходимость выяснения значимости и результативности действия французского мандата в Сирии и Ливане в межвоенный период, и какую роль играла финансово-кредитная политика Франции в осуществлении геополитической экспансии в средиземноморском регионе.
Рим, февраль 1926 г.: Р. Де Кейс, французский делегат в Постоянном мандатном комитете Лиги Наций (ПМК), встает на защиту французской политики в сирийском вопросе. Сирия была мандатом Лиги Наций «А», управляемой Францией в течение ограниченного времени, чтобы предположительно способствовать ее развитию, поскольку регион Восточного Средиземноморья выходил из «сумерек» Османской империи [14, p. 156–162]. На восьмой внеочередной сессии ПМК рассматривался вопрос о жестоком французском контрнаступлении, проводившемся против Великого Сирийского восстания с середины 1925 г.
Сирийская кампания, одно из проявлений средиземноморской волны имперских репрессий в начале и середине 1920-х гг., оказалась чрезвычайно кровопролитной и агрессивной [11]. Кульминацией стал обстрел Дамаска – акт, осужденный во всем мире [15].
Р. Де Кейс был опытным французским дипломатом, который был экспертом в Сирии и имел корни во французской администрации марокканского протектората [9]. В качестве советника Верховного комиссара в Бейруте он сыграл решающую роль в создании системы дипломатии в Сирии. В качестве наблюдателя в 1926 г. был создан международный пресс-корпус, стремящийся использовать сценарий, предусмотренный Лигой [13]. Освещение деятельности пресс-корпуса было подхвачено сирийской прессой, которая перевела на арабский язык полные протоколы сессий ПМК, и передано читателям как на подмандатных территориях, так и в сирийско-ливанской диаспоре по всему миру, что дало материал для усиления реакции на французское господство [21].
Некоторые из вопросов, которые члены комиссии задали Р. Де Кейсу, оказались предсказуемыми: о действиях правоохранительных органов, ущербе имуществу или древним памятникам (ключевая проблема Лиги и международной прессы) и, хотя и в гораздо меньшей степени, о масштабах жертв среди гражданского населения. Как показала С. Педерсен, члены ПМК, несмотря на их тревогу по поводу скандала, не видели фундаментальной альтернативы мандатному правительству Франции; они были обеспокоены, предлагая обратное [14, р. 159–160]. Но протоколы заседания также включают серию обменов мнениями по, казалось бы, бесплодной теме Центрального банка, денежно-кредитной политики и предложения кредитов на территориях, подпадающих под действие Мандата. Р. Де Кейса спросили, например, почему только 1 000 из 8 000 акций недавно созданного при мандате Центрального банка, которые были выставлены на продажу в Бейруте, были подписаны [18].
Актуальность заданных вопросов прямо связывает институциональное управление капиталом с вопросами более широкой политики, которая мотивирует эту статью. Как действовала политика «мандатных денег» на территории мандата и за ее пределами? Почему члены ПМК сочли денежные вопросы столь важными для французского правительства и надзора Лиги за сирийским мандатом? Как эта денежная политика могла бы связать французскую мандатную систему с более широкой ролью Лиги Наций в посредничестве в экономической и финансовой динамике послевоенной международной системы?
Материалы и методы
В различных зарубежных источниках содержатся материалы, относящиеся к функционированию Банка Сирии и Великого Ливана (BSGL). Особое значение имеет эмиссия бумажных денег в сирийской лире, позволявшая Франции контролировать эту территорию. Методологическую основу исследования составил анализ научных работ зарубежных авторов разных лет. Были использованы общенаучные методы, а также метод сравнительного анализа и методы статистики.
Результаты исследования
Чтобы начать отвечать на эти вопросы, в статье исследуется, как колониальная логика правления во французском мандате соответствовала и противоречила международной логике технократического правления Лиги, особенно в экономической и денежнокредитной сфере. Обмен мнениями между Р. Де Кейсом и ПМК, на наш взгляд, демонстрирует, как денежная и кредитная практика в рамках французского Мандата стала основой, на которой французская имперская политика в мандате могла быть узаконена и оспорена, в том числе, хотя и не только, перед ПМК. «Человеческие деньги» предоставили ПМК знакомую технократическую и бюрократическую проблему, в которую можно было бы включить деликатную дипломатическую политику администрации президента. Для ПМК это было особенно полезно, когда речь шла о структурной на- пряженности в связи с приверженностью Лиги торговой политике «открытого доступа» в мандате и стремлением Франции контролировать экономическую сферу самой [7]. Французская юрисдикция в отношении эмиссионного банка была ограничена в соответствии с мандатом. В мандате, в котором была выпущена валюта, сирийско-ливанский фунт (SLP), или сирийская лира, привязанная к франку, явно «давался Франции льготный статус» [18, р. 72]. В то же время технический и многогранный вопрос о деньгах также служил «хорошей валютой» другого рода для ПMК. Он способствовал относительному продвижению технократических форм знаний в рамках сферы деятельности ПМК, помогая уполномоченным определять сферу и форму своей компетенции в более широком контексте становления технократии Лиги, например в Экономической и финансовой организации Лиги (OEF).
Мы исследуем эту область главным образом на примере Банка Сирии и Великого Ливана (BSGL). Это был «центральный банк» французской мандатной системы, выпустивший бумажные деньги в сирийской лире [8, р. 282].
Созданный в 1863 г. в результате акционерного соглашения между правительством Османской империи, британскими и французскими инвесторами, в том числе Национальным бюро скидок в Париже (CNEP), Имперский османский банк получил на 30 лет исключительную привилегию выпускать банкноты и ценные бумаги на территории Османской империи – своеобразный кредитный рычаг для освоения богатств страны и финансирования инфраструктуры, необходимой для ее модернизации. Османский имперский банк станет одним из основных источников финансирования железных дорог в империи.
В 1893 г., чтобы улучшить сообщение между Бейрутом и крупными сирийскими городами, Имперский банк Османской империи проявил интерес к строительству железнодорожной линии, соединя-ющей сначала Бейрут с Дамаском, а затем прод- ленной до Хомса, Хамы и Алеппо. Национальное бюро скидок в Париже и Банк Парижа и Нидерландов, банки-предшественники BNP Paribas, посредством различных финансовых операций, а затем вхождения последнего в капитал Османского банка в 1920 г. активно участвовали в строительстве железнодорожной линии Дамаск – Хама. Их роль стала еще более определяющей с созданием в 1919 г. Банка Сирии и Ливана (BSL), дочерней компании Османского банка.
В структурном отношении создание Центрального банка и новой валюты на французских территориях Сирии и Ливана после Первой мировой войны было прежде всего следствием военных требований и стремления Франции к политической легитимности в контексте длительного периода перемирия; но это также уходило корнями в довоенную систему европейского участия в государственном долге Османской империи. Наконец, институционально он был вдохновлен сочетанием «модельных» механизмов и давления, в значительной степени, хотя и не исключительно, со стороны французских имперских банков [3].
Между тем его эволюция в 1920-х гг. зависела от нескольких дополнительных ключевых факторов, поскольку укрепился геополитический конфликт, возникший между Мудросским перемирием 1918 г., Севрским договором 1920 г. и Лозаннским договором 1923 г. Важным фактором в этом контексте было соперничество между французскими министерствами финансов (МФ) и иностранных дел (МИД) в Париже. Министерство финансов, возглавляемое последовательно в период с 1918 по 1924 г. Луи-Люсьеном Клотцем, банкиром Ф. Франсуа-Марсалем, П. Думером и Ш. де Ластейри, сосредоточилось на рисках для франка и необходимости защищать его стоимость. В контексте политики, направленной на обеспечение репараций и, наконец, на защиту франка предлагалось ввести новые подоходные налоги и сбалансировать бюджеты [4]. Как заявил в 1925 г. управляющий Банком Франции Ж. Роби- но, «мы солдаты франка, и умрем в наших окопах за франк» [Цит. по: 10, р. 480–481]. Тем временем МИД последовательно возглавляли в этот период С. Пишон, А. Ми-льеран, Ж. Лейг, А. Бриан и Р. Поин-Каре; последний был гораздо более внимателен к негативному влиянию фиксированных обменных курсов между сирийской лирой и франком на экономическую жизнь и политическую оппозицию Франции [19]. Наконец, что важно для наших целей, форма суверенитета, опосредованная мандатной Лигой, придала BSGL опасный вид непостоянства в то время, когда Лига Наций развивала параллельную способность вмешиваться в финансы европейских государств-преемников, таких как Австрия [9].
Точка зрения, под которой французские официальные лица перешли к зарождающейся неортодоксальности Лиги/OEF, иллюстрирует аргументацию французского дипломатического отчета 1918 г. В нем утверждалось, что обсуждались также идея новой валюты и ее использование силами Антанты, сражавшимися в 1918 г., в разгар другого разрушающего кризиса, на Юге России. Кроме того, отчет заметно отличается от духа сотрудничества OEF в своих односторонних выводах: в нем указано, что «новая валюта должна... быть сирийским франком или сирийским пиастром, обеспеченным надежной гарантией, но без прямой гарантии со стороны французского правительства»1. Французское казначейство должно было быть защищено любой ценой, даже когда франк постоянно падал по отношению к фунту стерлингов и доллару, что привело к девальвации национальной валюты в 1926 г. Вопрос об ответственности BSGL сопровождал дипломатические разногласия между Бейрутом и Парижем в последующие годы, равно как и опасения по поводу способности BSGL как частного банка с коммерческим и валютно-эмиссионным портфелем извлекать выгоду из своих резервов, вложенных во Французский банк. Эти резервы также представляли бы интерес для ПМК: У. Рап-пард, получи-вший образование профессора государственных финансов, в 1926 г. в Риме поинтересовался, действительно ли существует резерв покрытия BSGL в Банке Франции2.
Беспокойство по поводу фискальной политики Французской империи и военные расходы оккупационных войск были непосредственными причинами введения новых денежных мер в мандате. Эти коррективы имели ограничения, особенно заметные в небольших масштабах: например, трудности, с которыми столкнулись французские войска, продвигавшиеся в Южную Анатолию, за пределы территории ограниченного хождения сирийской лиры, и, следовательно, вынужденные покупать фунты стерлингов, турецкие золотые монеты (GTP) или взятые взаймы у Имперского Османского банка (BIO), свидетельствуют о ценности и ограниченности сирийской лиры [2]. На валютных рынках в постосманском Алеппо чиновники французского военного казначейства изо всех сил пытались купить золото. Они столкнулись с рынками из политически враждебных и высокочувствительных местных столиц, что дает нам более локальный взгляд на практику «манипулирования денежными средствами» и направляет нашу точку зрения за пределы международной Женевы, имперского Парижа и Бейрута: «В Алеппо, где бушуют арабские и турецкие беспорядки, имеется значительный запас золота, но любая попытка французов в военной форме добыть там золото обречена на провал. Кроме того, в Алеппо нет войск, и платежный менеджер, возвращающийся с биржи, рискует быть ограбленным на улице. Кроме того, чтобы совершать прямые покупки, нужно владеть арабским и турецким языками, и, наконец, присутствие францу- за на бирже немедленно вызвало бы неблагоприятные колебания для французов»3.
Введение новой валюты, хотя и не было панацеей, явно оказалось полезным для французской имперской оккупации Сирии. Но, как и напряженная политическая ситуация на фондовой бирже Алеппо, более широкий набор денежно-кредитных практик во французском мандате имел предыдущую историю, которая сформировала BSGL. Османские легаты оказались особенно важными. В предложениях Франции тщательно подчеркивался физический формат новых банкнот и монет, который четко отражал бы форму и внешний вид денег османской эпохи4. Как и американские имперские чиновники на Филиппинах, французские официальные лица хорошо осознавали символическую силу новых банкнот и монет, которые лежали в карманах людей и использовались для повседневного обмена. Но французы также играли на руку османскому имперскому наследию, которое до 1914 г. уже было вовлечено во французские и британские имперские финансы [1]. Институционально BIO, частный банк, созданный в 1856 г. и поддерживаемый французским и британским капиталом, способствовал постепенному финансовому подчинению османского государства французским и британским капиталами. Это было особенно актуально после декрета Мухаррема в декабре 1881 г., который официально закрепил направление косвенных доходов османского государства держателям иностранных облигаций.
Фактически управляемый из Лондона в начале 1920-х гг., хотя и с существенным присутствием французского капитала, BIO пережил последствия войны. До декабря 1921 г. он официально не передавал свои права на печатание денег, управление казначейскими функциями и выполнение функций финансового агента и государственного инвестиционного банка Осман- ского государства в Сирии и за рубежом своему преемнику по Севрскому договору, BSGL. В апреле 1921 г. Де Фабри, финансовый советник Высшей комиссии в Бейруте, отметил, что BIO все еще сопротивляется переходу от своей традиционной роли «смешанной национальности» (британской, французской и османской) в османских финансах к новой эпохе франко-британского соперничества, опосредованное Лигой и территориальной сегментацией в Биладал-Шаме.
BIO придерживалось характера смешанной национальности, в частности в своих отделениях во внутренних районах Сирии. Предвосхищая постоянную обеспокоенность французских властей по поводу неспособности сирийской лиры вытеснить конкурирующие валюты в сельских районах, Фабри был обеспокоен тем, что «сохранение BIO там может быть истолковано как преднамеренный отказ от нашего влияния» [Цит. по: 5, р. 441–443].
Денежная масса была не только символом и катализатором политических изменений, но и источником деловых возможностей. Президент ПМК в Риме А. Теодоли, например, до войны входил в Совет по государственному долгу Османской империи в качестве представителя Италии, а также выступал в качестве неофициального лоббиста Банка Рима, членом совета директоров которого он был с 1902 по 1917 г. [18, р. 72]. Когда он утверждал в Риме в 1926 г., что «деградация французской валюты» через сирийскую лиру была коренной причиной Великого Сирийского восстания, его показания следует рассматривать как подтверждение итальянских имперских финансовых интересов в бывших османских владениях, а также как подтверждение необходимости использования ПМК в целях утверждения решений Лиги Наций в отношении мандата. Возобновленные в Риме переговоры нескольких членов ПМК, помимо
А. Теодоли, по вопросу об обесценивании сирийской лиры, ее привязке к франку и восприятии населением мандата на ее привязку к французской валюте говорят нам об эволюции BSGL и о затратах, которые она несет, и нежелательных последствиях для валюты, введенной французами [20, р. 181–183].
В течение 1923 и 1924 гг., когда Лига официально закрепила за Францией роль мандатария, а также с формальным учреждением Верховным комитетом государств Сирия и Ливан, BSGL более надежно укрепила свои позиции. Со штаб-квартирой в Париже и явно в соответствии с операционной моделью Банка Алжира в качестве банка-эмитента во французском протекторате Тунис он вел переговоры о соглашениях (за соблюдением которых внимательно следило Министерство иностранных дел) по предоставлению иностранной валюты, обменных курсов и кредитных услуг Большому Ливану и Федерации Сирии (разделенной французами на более мелкие административные единицы) в рамках пятнадцатилетней монопольной концессии, официально согласованной 24 января 1924 г. [12]. Как утверждал Х. Сафиеддин, это помогло вписать денежное пространство мандата в более широкую экономическую единицу Французской империи и, таким образом, способствовало формированию экономики мандата как разнородной (не идентичной их номинальным территориям)5. В состав руководящего совета BSGL входили видные деятели, в том числе президент и премьер-министр французской колониальной банковской фирмы, и известные ливанские христиане, базирующиеся в Бейруте. Среди последних выделяются патриархальные деятели, такие как ливанский финансист, политик и технократ М. Чиха, которые извлекли бы значительную выгоду из своего участия в BSGL (которая выплачивала своим акционерам обильные дивиденды) и использовали его в качестве плацдарма для своего господства над ливанским государством после обретения независимости в 1947 г. [17, р. 3–4]. В другой связи с ПМК Лиги А. Теодоли женился на М. Сурсок – представительнице одной из выдающихся олигархических семей, существовавших до этого в бейрутской среде [17, р. 7–8].
Однако BSGL больше не был французским колониальным банком. У него была относительно короткая концессия в 15 лет, в дополнение, например, к 25 годам, предоставленным алжирским банкам-эмитентам и другим лицам во французской колониальной системе. Это отражало как противоречия между правлением BSGL и MF, так и структурную нестабильность ориентированного на развитие режима мандата, номинально ограниченного по времени и контролируемого ПМК. Только в сентябре 1925 г., после создания BSGL, Совет Лиги официально поддержал предложение ПМК в целях стимулирования инвестиций о том, что «контракты и титулы, приобретенные в течение срока полномочий, были такими же действительными, как если бы территория обладала полным суверенитетом», и что «в целях стимулирования капиталовложений» «имущественные права и контракты будут сохранены за рамками мандата» [20, р. 182]. Несмотря на это, иностранные инвесторы, как правило, не соглашались с мандатом, предпочитая выделять капитал предприятиям, менее уязвимым перед риском национализации. Тем временем в Париже Министерство финансов было обеспокоено колебаниями курса сирийской лиры, в частности продолжающимся обращением золота и других валют на подмандатных территориях, особенно вдали от побережья и Бейрута, а также постепенным выводом французской армии и ее потенциала; все это выглядело как веские причины для ограничения срока действия концессии BSGL [13, р. 234–235]. Последний, со своей стороны, в ходе переговоров 1923 г., которые закрепили его роль, выяснил, что египетский эмиссионный банк, оплот могущества британского фунта стерлингов в регионе, имел концессию на покупку валюты, в то время как в марокканском протекторате, его эквиваленте, вы получаете концессию на 40 лет. Таким образом, BSGL стремилась учесть предыдущие средиземноморские колониальные условия, которые благоприятствовали бы их корпоративным интересам и могли бы способствовать более длительной концессии. Между тем Министерство иностранных дел хотело ограничить автономию BSGL по мере разработки новых соглашений в 1923 г., памятуя об особенностях, созданных надзором Лиги Наций, даже несмотря на то что МИД в целом сопротивлялся такому же надзору в своих отношениях с Женевой.
В 1921 г. сторонники мандата объявили, что сирийская лира – это валюта, используемая исключительно для государственных операций. Французские официальные лица с сожалением отметили, что «ситуация на валютных рынках в Сирии была следующей: существует законная валюта – сирийский фунт [сирийская лира]; три королевские валюты: сирийская бумажная [то есть снова сирийская лира], турецкий золотой фунт и меджидие [маджидия: разновидность остаточных османских монет малой стоимости, используемых для мелких сделок], и, наконец, есть одна валюта учета, турецкий золотой фунт»6. Столкнувшись с этим многообразием, Р. Де Кейс сказал ПМК, что французам пришлось признать де-факто законность мультивалютности при заключении контрактов, установлении цен и бухгалтерском учете, представив это признание как доказательство гибкой до-брожелательности7.
Еще в начале 1920-х гг. администрация BSGL в Бейруте предупредила о структурных проблемах сирийской лиры. Она последовательно лоббировала отмену запрета на экспорт золота с подмандатных территорий, указывая на фактическую и продолжающуюся интеграцию французского мандата в финансовые круги Восточного Средиземноморья, в которых доминировали Каир и Стамбул. Власти в Париже, которые смотрели на колониальную империю через призму обсуждаемой фискальной политики и политики правительства метрополии, были обеспокоены тем, что такой экспорт, если он станет массовым, подорвет стоимость сирийской лиры, а также резервных депозитов и депозитов контрагентов, которые BSGL предоставила в качестве резервов. Если смотреть со стороны Бейрута, французские власти, казалось, совершенно не осознавали, с какой легкостью золото пересекало границы французского мандата и вывозилось в Палестину и Турцию, и игнорировали то, что официальные лица BSGL изображали как реальность страны, где «практически все жители смотрят на валютные спекуляции как на средство получения прибыли, что давало постоянный прирост»8. Отметив, что между Бейрутом, Каиром и Стамбулом процветает валютный арбитраж, официальные лица BSGL указали, что с «Константинополя в период с ноября 1920 года по апрель 1921 года в Бейрут прибыло около полутора миллионов турецких фунтов золота (GTP)». Они добавили, что «запреты на экспорт, как правило, являются иллюзорной мерой. Изобретательность спекулянтов Востока придает старому экономическому курсу вседозволенность, которую, несомненно, было бы законно оспаривать в любом другом уголке мира. Было бы лучше разрешить регулировать такие операции с помощью банковского вектора, что, в свою очередь, позволило бы оценить фактические объемы и возможность контролировать последствия»9.
Однако запрет на экспорт золота был сохранен, в том числе за счет использования лиры Сирии и поощрения контрабанды, даже несмотря на то что критики правящего правительства пытались слить мандатное золото с помощью сирийской лиры, что вызывало в Сирии и Ливане еще более активную критику французской экономической политики10.
В 1926 г. в Риме Р. Де Кейс отрицал обвинения, отвечая на вопросы ПМК. В целом ответы обновили набор французских имперских стереотипов, которые помещали доминирование французской денежно-кредитной политики в более широкие рамки утверждений о культурном и расовом пре-восходстве11. Эта риторика хорошо вписывалась в Пакт Лиги, который воплощал расовые предпосылки вильсоновского интернационализма. В то же время, в отличие от многих других утверждений, которые Р. Де Кейс выдвигал в качестве аргументов в пользу превосходства, он подчеркивал необходимость соблюдения решений Ли-гии Наций в рамках поддержки Франции. Р. Де Кейс утверждал, что неприязнь сирийцев и ливанцев к экономической политике была вызвана непониманием акций как инвестиционной категории или же тем? что не считали доход в 8 % недостаточно выгодным. Он усилил эту ориенталистскую характеристику мандатариев, предварительно указав, во скольких «восточных странах» имеется Национальный банк Индии [6, р. 140].
Также он обозначил свою поддержку продвигаемым США принципам «открытых дверей», дающим теоретическое обоснование политической значимости мандатов и отчасти оправдывающих надзор Лиги Наций за этими процессами, в то же время дающим сирийцам и ливанцам «неформальное право» заключать договоры в других валютах. Впоследствии Р. Де Кейс отказался от антитурецкой позиции и утверждал, что любой ущерб, причиненный фиксированным курсом франка, компенсируется более широкими благами, предлагаемыми французской «защитой»12.
Речь Р. Де Кейса говорит нам о традиционном французском империалистическом ориентализме. Готовность передать свои ортодоксальные идеологические материалы ПМК демонстрирует уверенность в пристрастии комиссаров к колониальной идеологии. Бельгийский комиссар П. Орт, например, был рад поддержать французскую политику в отношении долгов Османского банка как «вмешательство опекуна в интересах подопечного»13.
Хотя речь Р. Де Кейса была искаженной, она не полностью дистанцировалась от развития денежно-кредитной политики на подмандатных территориях. Было правдой, например, что граждане страны могли заключать договоры и устанавливать цену своей торговли во множестве валют, если не экспортировать золото. А также то, что опытные банкиры в довоенной османской Сирии по привычке выступали посредниками между аванпостами европейских капиталистов в Бейруте и крестьянами в горах, где выращивали шелк, получая проценты, значительно превышающие 8 %. Прежде всего, период после заключения перемирия предоставил торговцам в Бейруте возможность воспользоваться бумом, который город пережил в 1920-х гг., несмотря на падение курса сирийской лиры, поскольку город занял прочное господство в регионе в целом14. Для таких деятелей, как М. Чиха, защита со стороны Франции была действительно серьезной, и изменение названия Банка Сирии в январе 1924 г. на Банк Сирии и Великого Ливана оказалось показательным в этом отношении, упрощая и без того непростую ситуацию.
Р. Де Кейс в Риме также затронул вопрос о предполагаемом вывозе золота, поднятый сирийскими националистами в Женеве, представив преследования контрабандистов на самолетах в качестве доказательства усилий Франции по предотвращению вывоза золота с подмандатных территорий. По поводу коллективных пошлин, наложенных на золото во время Великого Сирийского восстания (ливанская пресса в 1925 г. категорически осудила эту практику как предлог для избавления страны от золотых слитков), в Риме Р. Де Кейс подтвердил, что пошлины были наложены именно на золото, потому что «это больше соответствовало менталитету страны, и было более понятно жителям». Он добавил, что это были «военные штрафы», а не уголовные санкции, которые выплачивались бумажными деньгами [16]. Распространение действия авиации на надзор за режимом обязательной фиатной валюты и ее использование Р. Де Кейсом в качестве пропаганды технократического патернализма и патернализма в области развития мандатного правительства еще раз показывают нам, как тесно кредитно-денежная политика в мандате была связана с военнополитическим управлением и общими приоритетами ПМК15.
Обсуждение и заключение
Был рассмотрен политический аспект денежно-кредитной политики во французском мандате Лиги Наций в Сирии и Ливане, в частности на примере BSGL и сирийской лиры. Прослеживая становление BSGL и создание новой валюты, адаптированной к потребностям французской армии, наследию BIO и более широким практикам французского имперского капитала сопоставлена перспектива из Женевы с анализом на имперском и местном уровнях. Денежные вопросы были приспособлены к решению ограниченных технических вопросов, что позволяло осуществлять депо-литизированный надзор за президентом и укреплять его собственный, все более технократический, режим работы.
Кроме того, мандатные деньги воплощали и символизировали более широкие экономические предпосылки развития мандатного правительства, но так же четко раскрывали границы, недостатки и способы захвата частными и имперскими интересами, которым эти предпосылки подчинялись. В этом отношении сирийская лира, едва принятая, но официальная валюта, которая сосуществовала с другими денежными средствами и которая, будучи привязанной к франку, вызвала повсеместные трудности и страдания в период действия мандата, в то же время предлагая частные преимущества имперским чиновникам и небольшому числу граждан, является полезным символом более широкой экономической жизни французского мандата и его уменьшенной и отсроченной формы суверенитета.
На этом исследование не закончено. Историкам следует более тщательно проанализировать, как после Первой мировой войны Лига Наций опосредствовала и поддерживала сразу несколько форм ущербного суверенитета, предлагая своим различным агентствам гибкую политикоэкономическую грамматику как внутри Европы, так и за ее пределами. Рассматривая, например, Сирию – Ливан вместе с Австрией и ПМК вместе с ОЭФ, мы можем более четко увидеть, как логика колониального и международного миропорядка, сформировавшего послевоенный период, может быть как взаимозаменяемой, так и отличной друг от друга, унифицированной и разрозненной, как группа противоречий.
Список литературы Политический аспект денежно-кредитной политики во французском мандате Лиги наций в Сирии и Ливане
- Akiboh A. Pocket-Sized Imperialism: U. S. Designs on Colonial Currency // Diplomatic History. 2017. Vol. 41, no. 5. P. 874–902.
- Autheman A. La banque impériale ottomane, París, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1995. 294 р.
- Burkelli E. A Comparative View of French Native Policy in Morocco and Syria, 1912–1925 // Middle Eastern Studies. 1973. No. 9. Р. 175–186.
- Delalande N. Les batailles de l’impôt: consentement et résistances de 1789 à nos jours. París, Seuil, 2011. Cap. 10.
- Eldem E. Ottoman financial integration with Europe: Foreign loans, the Ottoman Bank and the Ottoman Public Debt // European Review. 2005. No. 13. P. 431–445.
- Gallois W. The destruction of the Islamic state of being, its replacement in the being of the state: Algeria, 1830–1847 // Settler Colonial Studies. 2017. No. 8. Р. 131–151.
- Gerard D. Khoury: La France et l’Orient Arabe. Naissance Du Liban Moderne, 1914–1920. París: A. Colin, 1993. 419 р.
- Himadeh S. Economic Organization of Syria. Beirut: American Press, 1936. 466 р.
- Marcus N. Austrian Reconstruction and the Collapse of Global Finance, 1921–1931. Cambridge: Harvard University Press, 2018. 560 р.
- Mouré K. Une Éventualité absolument exclue: French reluctance to devalue, 1933–1936 // French Historical Studies. 1988. No. 15. P. 479–505.
- Neeр D. Occupying Syria under the French Mandate: Insurgency, Space and State Formation. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 248 р.
- Patat J.-P. V., Lutfalla M. A monetary History of France in the 20th century. New York: St. Martins Press, 1990. 312 p.
- Pedersen S. Samoa on the World Stage: Petitions and Peoples before the Mandates Commission of the League of Nations // Journal of Imperial and Commonwealth History. 2012. No. 40. P. 231–261.
- Pedersen S. The Guardians: The League of Nations and the Crisis of Empire. Oxford: Oxford University Press, 2015. 592 p.
- Provence M. The Great Syrian Revolt and the Rise of Arab Nationalism. Austin: University of Texas Press, 2005. 209 р.
- Rosenberg E. S. Financial Missionaries to the World: The Politics and Culture of Dollar Diplomacy, 1900–1930. Cambridge: Harvard University Press, 1999. 352 р.
- Safieddine H. Banking on the State: The Financial Foundations of Lebanon. Stanford: Stanford Studies in Middle Eastern and Islamic Societies and Cultures, 2019. 272 p.
- Saul S. La Banque de Syrie et du Liban (1919–1970): banque française en Méditerranée orientale // Entreprises et histoire. 2002. Vol. 4, no. 31. P. 71–92.
- The Gold Standard Illusion: France, the Bank of France, and the International Gold Standard, 1914–1939. Oxford: Oxford University Press, 2002. 297 р.
- Tollardo E. Fascist Italy and the League of Nations, 1922–1935. London: Palgrave-Macmillan, 2016. 319 р.
- Wheatley N. Mandatory Interpretation: Legal Hermeneutics and the New International Order in Arab and Jewish Petitions to the League of Nations // Past & Present. 2015. No. 227. P. 205–248.