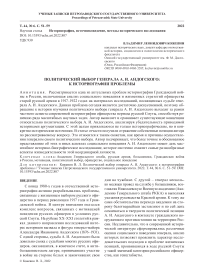Политический выбор генерала А. И. Андогского: к историографии проблемы
Автор: Кожевин Владимир Леонидович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается одна из актуальных проблем историографии Гражданской войны в России, включающая анализ социального поведения и жизненных стратегий офицерства старой русской армии в 1917-1922 годах на материалах исследований, посвященных судьбе генерала А. И. Андогского. Данная проблема сегодня является достаточно дискуссионной, поэтому обращение к истории изучения политического выбора генерала А. И. Андогского выходит за рамки частного аспекта современной историографии офицерства периода русской Смуты, способствуя решению ряда масштабных научных задач. Автор выявляет и сравнивает существующие концепции относительно политического выбора А. И. Андогского, анализируя убедительность приводимой историками аргументации. С этой целью привлекаются не только историографические, но и конкретно-исторические источники. В статье отчасти получили отражение собственные позиции автора по рассматриваемому вопросу. Это относится к таким сюжетам, как время и причины осуществления генералом своего политического выбора. Автор подчеркивает, что более точное и обоснованное представление об этих и иных аспектах социального поведения А. И. Андогского может дать масштабное историко-биографическое исследование, которое системно охватит самые разнообразные аспекты жизнедеятельности этой неординарной личности.
Академия генерального штаба, русская армия, большевики, гражданская война в России, мотивация, политический выбор, офицерство, социальное поведение
Короткий адрес: https://sciup.org/147238894
IDR: 147238894 | УДК: 930 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.807
Текст научной статьи Политический выбор генерала А. И. Андогского: к историографии проблемы
С конца 1980-х годов в отечественной историографии активно разрабатывались проблемы, связанные с жизненным выбором русского офицерства в период революции 1917 года и Гражданской войны. В центре внимания оказался комплекс вопросов, связанных с мотивацией поведения русских офицеров в условиях русской Смуты. На рубеже XX‒XXI столетий в рамках данного направления исследований интерес историков вызвала и фигура генерал-майора Александра Ивановича Андогского (1876–1931). С одной стороны, судьба А. И. Андогского была довольно схожа с судьбами многих русских офицеров, оказавшихся, в конечном счете, в антибольшевистском лагере, принимавших участие в войне на стороне белых и закончивших свои дни на чужбине. С другой ‒ генерал несколько месяцев провел на службе у большевиков, возглавляя Николаевскую Военную академию (Академию Генерального штаба РККА) и выполняя указания руководства Красной армии. К тому же сами обстоятельства перехода академии на сторону белогвардейцев заставляют и по сей день сомневаться в твердости политической позиции А. И. Андогского в контексте гражданского вооруженного противостояния на территории России. Неудивительно, что в современной исторической литературе сформировались различные оценки социального поведения генерала, анализ которых позволяет прояснить характер исследовательских подходов к проблеме жизненных позиций, проявившихся в ходе русской Смуты у такой значимой категории российского офицерства, как генштабисты.
ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОРЕВОЛЮЦИОННОЙ СУДЬБЫ
-
А. И. АНДОГСКОГО
Еще со времен Гражданской войны социальное поведение генштабистов как особой общественной группы стало предметом освещения в исторической литературе. К началу 2000-х годов в рамках расширения проблематики и усиления концептуализаии истории русского офицерства, а также набиравшей обороты популярности биографического подхода в фокусе исследовательского интереса оказалась фигура начальника Военной академии генерал-майора А. И. Андогского. При этом обозначились два важных направления в изучении жизнедеятельности генерала. Первое касалось вопросов, с одной стороны, об оценке самого факта службы А. И. Андогского в РККА, а с другой ‒ присоединения персонала и курсантов академии к лагерю антибольшевистских сил в Екатеринбурге и Казани в июле ‒ августе 1918 года. Второе направление акцентировало взимание на рефлексии генерала по поводу общей проблемы мотивации русских офицеров, поступавших на службу к большевикам, что собственно и произошло с самим А. И. Андогским. Данное направление фактически предопределило обращение к научному наследию А. И. Андогского как историка русской и Красной армии периода Гражданской войны.
В статье А. М. Лосунова освещались события периода правления на востоке России адмирала А. В. Колчака, связанные с расследованием «дела Андогского» как начальника Академии Генерального штаба, служившего большевистской власти на протяжении девяти месяцев [21]. Автор проводит тезис о том, что А. И. Андогский изначально прикладывал массу усилий для того, чтобы ослабить большевиков и максимально сосредоточиться на подпольном участии академии в борьбе с ними. Другое существенное заключение А. М. Лосунова состояло в том, что, несмотря на интриги недоброжелателей генерала в «белом» лагере, участники расследования не смогли найти оснований для серьезных обвинений против А. И. Андогского. Соответственно получается, что политический выбор генерала изначально был сделан в пользу антибольшевистских сил.
Ю. И. Кораблев (1918‒1996) в работе «Советская власть и военные специалисты», опубликованной посмертно, писал о «борьбе мотивов» среди офицерства в период Гражданской войны. Исследуя психологию офицерства, ученый опирался на выводы, сделанные генералом
А. И. Андогским в одной из его работ (1921 года), где тот выделил шесть групп русского офицерства, руководствовавшихся различными основаниями при переходе на службу к большевикам. Ю. И. Кораблев высоко оценил результаты размышлений «белого» генерала, подчеркивая преимущества его точки зрения по отношению к существовавшей в советской историографии упрощенной трактовке проблемы. «С примерной классификацией офицеров, данной Андогским, ‒ убежденно подчеркивал исследователь, ‒ можно согласиться» [20: 315]. Данное направление исследований получило продолжение гораздо позже, когда фигура и социальное поведение А. И. Андогского оказались в центре исследовательской дискуссии по поводу судеб и политического выбора представителей офицерства, принадлежавшего к Генеральному штабу в период Гражданской войны.
В 2010-х годах в исследовательской литературе фокус внимания к судьбе А. И. Андогс-кого сместился в сторону освещения отдельных значимых эпизодов его биографии, в частности деятельности в качестве начальника Военной академии, начиная с избрания на эту должность. Процедура выборов, проводившихся среди офицеров Генштаба, формально выглядела демократичной. Но последнее слово оставалось за военным министром, что позволяло А. Ф. Керенскому маневрировать. В итоге из двух ведущих по результатам выборов кандидатов – генерал-майора, профессора, начальника штаба Румынского фронта Н. Н. Головина (410 голосов) и полковника, управляющего делами академии А. И. Андогского (373 голоса) – во главе академии оказался менее популярный среди генштабистов, но более покладистый по отношению к власти человек. Сам по себе факт назначения 7 августа 1917 года А. И. Андогского, полковника, имевшего небольшой опыт командования на фронте, к тому же достаточно молодого 40-летнего кандидата, на столь значимый пост наиболее подробно осветил А. В. Ганин. Исследователь подчеркнул, что выборы начальника академии проходили в условиях политизации и даже раскола корпорации генштабистов, а А. Ф. Керенский, вероятно, опасался оппозиции со стороны академии, которую мог возглавить фронтовой генерал. А. В. Ганин справедливо указывает:
«С этой точки зрения, Андогский казался Керенскому более лояльным, чем представитель далекого Румынского фронта Головин. Определенные опасения могла вызвать и популярность Головина» [3: 74].
Эпизод с карьерным возвышением А. И. Ан-догского в августе 1917 года оказался существенным для понимания его социального поведения и дальнейшего жизненного пути, но отнюдь не главным для историков русского офицерства времен Гражданской войны. Важным сюжетом в историографии темы политического выбора офицеров в условиях масштабного военного противостояния различных политических сил, которое в течение нескольких лет вовлекало в свою орбиту миллионы людей, стало обращение к факту перехода Военной академии на сторону антибольшевистских сил после многомесячной службы в составе вооруженных сил Советской России. В советской исторической литературе и вплоть до современности переход большинства слушателей, а также всего преподавательского состава академии на сторону противников советской власти за редким исключением рассматривался как показатель, иллюстрировавший соответствующие политические настроения значительной части русского офицерства [1], [11]. В работе А. В. Ганина «Русский офицерский корпус в годы Гражданской войны. Противостояние командных кадров. 1917‒1922 гг.» особо подчеркивалось, что это был наиболее массовый случай подобного рода [9: 167].
Интерес к судьбе А. И. Андогского вызывался не просто потребностями масштабного изучения истории Военной академии, он был напрямую связан с проблемами социального поведения офицерства в 1917‒1922 годах. Политическая позиция генерала, проявившаяся в указанный момент его биографии, оказалась в центре исследовательской дискуссии. В специальной работе, посвященной жизненному пути генерала, В. В. Каминский подчеркнул противоречивость фигуры А. И. Андогского, его склонность к интригам и готовность в любых политических обстоятельствах всемерно отстаивать интересы Военной академии. Однако в основе социального поведения генерала, по мнению автора, все же лежало другое:
«Свойственные Андогскому “изворотливость” и “легкая приспособляемость к обстоятельствам” и даже его борьба за сохранение статуса Академии в “смутное время” конца 1917‒1918 годов в немалой степени были обусловлены социально-бытовыми, семейными (генералу приходилось содержать многочисленную семью. ‒ В. К. ) мотивами» [12: 93].
КОНТЕКСТ ИССЛЕДОВАНИЙ
В исследованиях, относившихся к истории офицеров-генштабистов, первоначально ока- завшихся на службе советской власти, а затем перешедших из РККА на сторону антибольшевистских сил, В. В. Каминский обосновывает существование устойчивой тенденции, которая характеризовала жизненные стратегии представителей этой социальной группы. Согласно концепции автора, социальное поведение генштабистов уже с момента падения монархии в России и на протяжении Гражданской войны было обусловлено прежде всего «материально-бытовой мотивацией», означавшей доминирование материальных устремлений и усилий, направленных не только на обеспечение жизненного достатка, безопасности семейств, но и особого, довольно высокого статуса в армейской среде. В первую очередь это относилось к периоду пребывания генштабистов в Красной армии, руководство которой (включая Л. Д. Троцкого) лояльно относилось к военным специалистам высокой квалификации [14], [15], [16], [18], [19]. Патриотическая мотивация (что характеризовало поведение офицеров, стремившихся защитить интересы Советской России в ходе противостояния с вооруженными силами Германии и Польши), а также идеологические основания данной категории офицерства, не принимавшего большевизм и политику его лидеров, оказывались, таким образом, вторичными по отношению к «материально-бытовой мотивации» генштабистов.
Отверг В. В. Каминский и выдвинутый в зарубежной историографии тезис о том, что генштабисты «служили в РККА в основном из профессиональных соображений», следуя своему «профессиональному долгу» и считая, что опыт и знание военного дела можно с успехом применить и при новой власти и даже восстановить статус корпуса офицеров Генштаба, равный дореволюционному. Полемизируя со сторонниками данного тезиса, историк утверждает:
«Все дело в том, однако, что восстановление собственного служебного положения в новой армии волновало выпускников Академии далеко не только (зачастую и не столько) как возможность профессионального продвижения, но прежде всего как средство разрешения многочисленных “социально-бытовых проблем”, как-то: получение более высоких окладов и более удобных должностей, обеспечение собственного здоровья и социального благополучия для своих семей» [17: 45].
В итоге, если, согласно мнению В. В. Каминского, служба в РККА соответствовала этим потребностям, присоединение персонала и слушателей Военной академии во главе с ее начальником к вооруженным формированиям Сибирской армии и Комуча в июле ‒ августе 1918 года при подобной интерпретации выгля- дит едва ли не случайностью, простым стечением обстоятельств, вынудивших генштабистов решиться на такой шаг. Подтверждая соответствующую трактовку событий, по крайней мере по отношению к единичным переходам генштабистов из РККА в ряды антибольшевистских сил, автор отмечал:
«Выбор конкретными генштабистами того или иного из противостоящих лагерей в 1918–1919 гг. был обусловлен прежде всего не политическими симпатиями, а стечением различных обстоятельств» [9: 123].
На данный историографический факт, а также иные доводы В. В. Каминского относительно жизненных стратегий русских генштабистов в начале 2000-х годов отреагировал А. В. Ганин, что собственно и стало одной из важных причин длительной и бескомпромиссной дискуссии между двумя исследователями. Полемика охватила очень широкий спектр проблем, связанных с изучением образцов социального поведения генштабистов в условиях революции 1917 года и Гражданской войны. В контексте рассматриваемой нами проблемы уже на начальном этапе дискуссии А. В. Ганин выдвинул и обосновал ряд существенных положений, противоречивших позиции В. В. Каминского. По мнению историка,
«офицеры Генштаба, принадлежавшие к элите русской армии, делали свой выбор вполне осознанно, как правило, исходя из своих нравственных ориентиров <…>. Причины поступления “лиц Генерального штаба” в РККА не сводятся к пресловутым социально-и материально-бытовым мотивам: они многообразны. В начале 1918 г. не последнюю роль играли и надежда продолжить борьбу с германцами, и опасения за судьбу своих близких в связи с принятой большевиками практикой заложничества, и желание проникнуть в руководство РККА, чтобы оказывать содействие единомышленникам за линией фронта, и ряд других» [7: 101, 108].
Со временем В. В. Каминский несколько скорректировал свою позицию, отмечая, что в тех или иных ситуациях при переходе к «белым» общая причина – «социально-бытовая мотивация» – уступала место другим основаниям. Речь идет о поиске офицерами своих родственников:
«…другие же, – пишет автор, – покидали РККА именно в тот период, когда положение большевиков на данном участке фронта казалось особенно безвыходным, и одновременно появлялась явная возможность без особых затруднений перейти в противоположный лагерь (опять-таки. – В. К .) с тем, чтобы там при новых “хозяевах” найти более-менее приемлемую для своего статуса должность» [14: 195].
ОБЪЯСНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЫБОРА
-
А. И. АНДОГСКОГО
По мнению А. В. Ганина, как служба генштабистов в РККА, так и их переходы к «белым» могли обусловливаться различными причинами. В своих трудах, опирающихся в том числе на соответствующие историко-публицистические и очерковые работы белогвардейских авторов, историк назвал около десятка таких причин, но без определения того, что все же доминировало в рамках данного процесса. Возвращаясь к перипетиям судьбы А. И. Андогского, отметим, что в различных работах А. В. Ганина биография генерала получила многостороннее освещение. Нас же в первую очередь интересует интерпретация проблемы политического выбора начальника Военной академии. В данном случае, однако, автор рассуждает крайне осторожно, чаще всего ограничиваясь цитированием документов современников генерала. Например, приводится данная А. И. Андогскому характеристика Г. Х. Эйхе – «смертельный враг Советской власти» [6: 526]. Вместе с тем историк отмечает: «…современники считали Андог-ского беспринципным оппортунистом» [4: 49]. И все же, несмотря на то, что «и красные, и белые считали Андогского двурушником и врагом», по мнению А. В. Ганина, переход генерала в лагерь противников большевиков вовсе не был случайным и произошел отнюдь не вопреки его политическим устремлениям [8: 56]. В современной исследовательской литературе данная точка зрения была высказана и более определенно. Как подчеркнули С. Ф. Фоминых и А. О. Степнов, А. И. Андогский «был обречен стать врагом большевиков, а потому и путь конфронтации с большевизмом был для генерала во многих отношениях предрешенным» [22: 87].
В построениях историков, полагающих, что А. И. Андогский в конечном счете не намеревался сохранять верность Советской России, до поры лишь создавая видимость добровольного сотрудничества с нею, а в действительности искренне симпатизируя противникам большевиков, есть несколько аспектов, остающихся непроясненными. Понятно, что взятие власти большевиками создало для генштабистов, да и для значительной части русского офицерства в целом, обстановку неопределенности и рисков, существенно замедлявших акт политического выбора. К тому же продолжалась мировая война, предстоял созыв Учредительного собрания и т. д. Характеризуя данную ситуацию, когда Военная академия, включая преподавателей, слушателей, обслуживающий персонал и материальную базу, достались большевикам в качестве наследства от предыдущего режима, А. В. Ганин подчеркивает, что учебное заведение просто не могло сколько-нибудь быстро «затормозить», дабы изменить цели и порядок своей работы.
«По инерции, ‒ пишет историк, ‒ учебный процесс продолжался и после смены власти, в результате чего Красная армия весной 1918 г. пополнилась выпускниками ускоренных курсов 2-й очереди» [5: 33].
В этой связи резонно поставить вопрос: до каких пор могла длиться эта инерция, не окажись Военная академия вместе с ее начальником вблизи фронта? Пример Николаевской инженерной и Михайловской артиллерийской академий показывает, что этот процесс привел к тому, что оба учебных заведения постоянно и исправно выполняли свое предназначение при новой власти в условиях относительной отдаленности от театра военных действий. Причем стремление руководства и преподавателей этих академий «сделать вид», что произошедшие политические перемены их не касаются, запереться в «башне из слоновой кости» было ничуть не меньшим, чем у персонала Военной академии. Так, начальник Главного управления высших учебных заведений РККА Д. А. Петровский в вышедшей еще в 1924 году книге «Военная школа в годы революции» констатировал: «О своей неприкосновенности и автономии особенно заботились Артиллерийская и Инженерная академии»1.
Таким образом, возникает следующий вопрос: к какому моменту биографии А. И. Андогско-го относится сам акт политического выбора? Этот вопрос довольно сложен, поэтому следует обратиться к началу революционных событий 1917 года, учитывая при этом особенности социального поведения и личностные черты генерала. Впервые российское офицерство как самостоятельная политическая сила сделало свой выбор в конце февраля ‒ первых числах марта 1917 года. Но это был выбор немногих. Его осуществила верхушка командования русской армии в лице командующих фронтами и начальника штаба Верховного главнокомандующего. Если отречение 2 марта 1917 года от престола Николая II формально освобождало армию от присяги императору, то отречение его брата Михаила фактически узаконивало в России либеральный порядок с последующим решением ее судеб Учредительным собранием. В данной ситуации практически весь офицерский корпус освобождался от прежних обязательств, связанных с присягой государю, и вынужден был принять новые реалии.
Соответственно многим офицерам неожиданно пришлось адаптироваться к сложившимся обстоятельствам. Что же происходит с А. И. Ан-догским?
В февральско-мартовские дни 1917 года управляющий делами Военной академии А. И. Андог-ский (тогда еще не ее начальник, но фактически, из-за слабых административных способностей руководителя академии и разговоров о его компрометирующей связи с Распутиным, – глава учреждения) моментально пытается разобраться в политической ситуации, выяснить, в чьих руках находится реальная власть, по крайней мере в сфере военного управления, черпая информацию из разных источников. Как вспоминал профессор академии М. А. Иностранцев, 27 февраля несколько слушателей академии «с разрешения Андогского, успели сходить к Государственной думе и рассказывали свои впечатления» [10: 14]. 2 марта полковник А. И. Андогский, пытаясь добиться от военных представителей новых властей вразумительного ответа относительно ситуации, складывавшейся в армии, писал:
«Какие меры принимаются для того, чтобы одновременно с приказами Временного правительства, обязательными для всех, – не появлялись и не распространялись приказы отдельных лиц и организаций, не являющихся Временным правительством? Прошу заверения письменного от депутата Караулова, что это за приказ № 1 по гарнизону…»2.
А. И. Андогский оказался в составе комиссии по реформированию армии и флота генерала А. А. Поливанова, члены которой были назначены военным министром А. И. Гучковым. Согласно журналу № 1 заседания комиссии от 4 марта 1917 года, среди нескольких генералов, высших офицеров флота и штатских лиц здесь присутствовало десять полковников Генерального штаба, в числе которых был и управляющий делами Военной академии3. Уже в первые дни революции 1917 года А. И. Андогский мог составить для себя более или менее точную картину ситуации, складывавшейся в стране и в армии. Знакомство с А. И. Гучковым и благожелательное отношение А. Ф. Керенского несомненно способствовали его усилиям по организации деятельности академии, как и карьерному росту.
После победы Октябрьского вооруженного восстания казалось, что положение академии достаточно устойчиво, а интенсивные контакты с политическим и военным руководством большевиков по-прежнему обеспечивали генералу широкий доступ к информации. Как отмечает А. В. Ганин,
«начальник академии был самым информированным о текущем положении дел в РККА и в Советской России военспецом. Вероятно, высокая степень информированности и позволила А. И. Андогскому принимать в сложной ситуации наиболее верные для академии решения» [9: 188].
Характерное для работ А. В. Ганина акцентирование внимания читателя на постоянной заботе генерала об интересах Военной академии, заботе, граничившей с самоотречением, определенным образом сближает позицию автора с точкой зрения тех историков, которые усматривали в «военном профессионализме», базировавшемся на представлении многих генштабистов о том, что главной жизненной ценностью, а соответственно, и стержнем их жизненных стратегий является прежде всего верность военному делу, как науке или искусству. Следовательно, иными основаниями социальной активности на службе у большевиков можно было бы пренебречь, установив некий компромисс с новой властью ради поддержания давно устоявшегося порядка существования генштабистов.
Данная точка зрения, в частности, получила отражение в книге М. Майзеля, посвященной истории русских генштабистов в условиях революции 1917 года. Автор подчеркивал, что многие офицеры Генерального штаба питали надежды на такой благополучный исход, указав даже временной отрезок ‒ с апреля по июнь 1918 года, когда они были особенно сильны. «Мы уже знаем, однако, ‒ заключил М. Майзель, ‒ что Гражданская война положила конец таким надеждам» [24: 225]. Предложенная автором периодизация как будто соответствует и времени перехода Военной академии во главе с ее начальником на сторону большевиков. Но дело было не только в эскалации Гражданской войны. Сам факт того, что в стране установился новый режим, кардинально отличавшийся от предыдущего, обусловил утрату старой русской армией своей легитимности в роли особого государственного института. Альтернативой полному подчинению и принятию устанавливаемых новой властью правил, по многим причинам неприемлемых для корпуса генштабистов, могло быть только выступление на стороне антибольшевистских сил. В данной связи справедливым представляется предложение А. В. Ганина, указавшего на практику трансформации, а не слома большевиками структур старой армии, ввести понятие «инерционный период».
«В зависимости от сроков реорганизации того или иного штаба или учреждения старой армии, ‒ под- черкивает автор, ‒ период охватывает события с 25 октября 1917 по осень 1918 г.» [22: 93].
Именно в этом временном промежутке, на наш взгляд, и был сделан политический выбор генерала А. И. Андогского, который осознал, что, оставаясь в армии красных, рано или поздно по мере утверждения новых правил и форм военной службы ему придется принять и идеологию новой власти. В итоге политический выбор был сделан в пользу ее противников к моменту, когда уже возникли антибольшевистские государственные образования (Комуч и Временное Сибирское правительство).
ПОНИМАНИЕ МОТИВАЦИИ СЛУЖБЫ В КРАСНОЙ АРМИИ
Ответ на вопрос, каким образом генерал (для себя и не только) интерпретировал свое временное пребывание в РККА, отчасти содержится в его работе «Как создавалась Красная Армия Советской России. (Уроки недавнего прошлого). Критико-исторический очерк», изданной во Владивостоке в 1921 году. А. В. Ганин установил, что А. И. Андогский при объяснении причин службы офицеров старой армии у большевиков фактически воспользовался текстом статьи генерала А. Л. Носовича, опубликованной под псевдонимом А. Черноморцев в белогвардейском еженедельнике «Донская волна» еще весной 1919 года, но изменил смысл характеристики лишь шестой группы мотивов в классификации А. Л. Носовича, сделав ее, по мнению историка, «более привлекательной для белых» [2: 118]. Действительно, сравнение двух работ показывает, что А. И. Андогский местами дословно, местами близко к тексту, местами сокращая использованный им материал, изложил соображения, заимствованные у другого автора, а оценивая шестую по счету категорию офицерства, кардинально поменял акценты. Если у А. Л. Носовича первые три группы офицеров (не будем вдаваться в подробности рассуждений этого генерала) достойны снисхождения и даже оправдания, «для них необходима особая мерка», то остальные откровенно осуждаются, причем о шестой категории офицеров автор отозвался так: «люди, которые намеренно и обдуманно изменили своему долгу» [23: 492–493].
А. И. Андогский предложил в данном случае иной вариант. Сделал он это, как представляется, не столько потому, что хотел угодить «белым», сколько из стремления определить свое место среди различных групп офицеров, служивших в стане большевиков. Не обнаружив соответ- ствующего описания мотивов у А. Л. Носовича, он сформулировал собственное определение:
«Группа шестая – офицеры, служащие в советских войсках из сознания долга содействовать образованию военной силы России и отнюдь не связанные с большевиками никакими идейными политическими принципами <…>. Они не мирятся с засильем иностранцев и разрушением России и, будучи против большевиков и веря в их неизбежный крах в ближайшем, ‒ работают над укреплением военной мощи России <…>»4.
По всей видимости, генерал и сам был убежден в соответствии данной интерпретации своему реальному поведению, но более точный и обоснованный ответ на этот и другие вопросы, связанные с проблемой политического выбора А. И. Андогского в 1917‒1922 годах, наверняка позволит дать специальное масштабное историко-биографическое исследование, которое системно охватит самые разнообразные аспекты жизнедеятельности этой неординарной личности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в историографии социального поведения офицерства старой русской армии периода Гражданской войны в России перипетии судьбы и деятельность начальника Николаевской Военной академии генерал-майора А. И. Андогского вызвали существенный интерес исследователей и привели к формированию двух взаимосвязанных направлений, заключающихся в изучении политического выбора генерала после революции 1917 года, а также его историко-публицистической рефлексии по поводу жизненных стратегий офицеров, оказавшихся на службе у большевиков. В рамках первого направления возникло несколько подходов к объяснению мотивации поведения генерала во время его пребывания в РККА и причин последующего перехода в «белый» лагерь. Сторонники одного из подходов полагают, что А. И. Андогский изначально, но до поры скрытно, выступал против советской власти и переход в стан ее противников был лишь делом времени. Согласно другой концепции, для генерала главным являлось удовлетворение собственных материальных потребностей и обеспечение безопасности семьи, а остальное не имело определяющего значения. Третий подход отображает политический выбор А. И. Андогского как сложный процесс с учетом его постоянного стремления защитить интересы Военной академии и по мере возможности сохранить устоявшиеся в ней порядки. Все три подхода, однако, оставляют недостаточно проясненными вопросы о времени и иерархии мотивов начальника академии во время осуществления его политического выбора. Анализ очерка А. И. Андогского, посвященного истории РККА, отчасти проливает свет на последний из названных вопросов, но в целом проблема политического выбора генерала А. И. Андогско-го в условиях революции и Гражданской войны еще требует приложения дополнительных исследовательских усилий, сохраняя простор для ее новых научных интерпретаций.
Список литературы Политический выбор генерала А. И. Андогского: к историографии проблемы
- Войнов В. Г. Офицерский корпус белых армий на востоке страны (1918-1920 гг.) // Отечественная история. 1994. № 6. С. 51-64.
- Ганин А. В. «Россию погубили офицеры Генерального штаба.»? Выпускники Николаевской Военной академии между красным, белым и национальным лагерями в годы Гражданской войны 1917-1922 гг. // Николаевская академия Генерального штаба (1832-1918). СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. С. 87-146.
- Ганин А. В. Генштаб и предвыборные технологии. Как выбирали начальника Военной академии летом 1917 года // Родина. 2014. № 11. С. 70-74.
- Ганин А. В. Закат Николаевской военной академии 1914-1922. М.: Книжница, 2014. 768 с.
- Ганин А. В. Кадры Генерального штаба в период Гражданской войны в России: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 2013. 47 с.
- Ганин А. В. О книге В. В. Каминского «Выпускники Николаевской Академии Генерального Штаба на службе в Красной Армии» // Русский сборник. Исследования по истории России. Т. 11. М., 2012. С. 514-536.
- Ганин А. В. О роли офицеров Генерального штаба в гражданской войне // Вопросы истории. 2004. № 6. С. 98-111.
- Ганин А. В. Переход военной академии на сторону антибольшевистских сил в Екатеринбурге и Казани (июль - август 1918 г.) // Известия Лаборатории древних технологий. 2014. № 2 (11). С. 54-80.
- Ганин А. В. Русский офицерский корпус в годы Гражданской войны. Противостояние командных кадров. 1917-1922 гг. М.: Центрполиграф, 2019. 318 с.
- Иностранцев М. А. Воспоминания. Конец империи, революция и начало большевизма. М.: Кучково поле: Издательский центр «Воевода», 2017. 928 с.
- Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917-1920 гг. М.: Наука, 1988. 278 с.
- Каминский В. В. А. И. Андогский в дни «русской смуты» в 1917-1919 гг. // Вопросы истории. 2008. № 11. С. 91-100.
- Каминский В. В. Брат против брата: офицеры-генштабисты в 1917-1918 годах // Вопросы истории. 2003. № 11. С. 115-126.
- Каминский В. В. Выпускники Николаевской Академии Генерального Штаба на службе в Красной Армии. СПб.: Алетейя, 2011. 736 с.
- Каминский В. В. Двойные «перевертыши» в Корпусе Генерального Штаба Красной Армии: подполковник А. Д. Сыромятников и его служебная карьера // Новейшая история России. 2016. № 1. С. 69-82.
- Каминский В. В. Некоторые обстоятельства «путешествия» Николаевской Академии Генерального Штаба из Екатеринбурга в Казань 23-24 июля 1918 г. // Новейшая история России. 2012. № 1. С. 116-131; 2012. № 3. С. 26-61.
- Каминский В. В. Русские генштабисты в 1917-1920 годах. Итоги изучения // Вопросы истории. 2002. № 12. С. 40-51.
- Каминский В. В. Русский «генштабист», дважды спасенный Л. Д. Троцким: Генерального штаба генерал-майор С. И. Одинцов // Новейшая история России. 2017. № 4. С. 45-55;
- Каминский В. В. Социально-бытовая мотивация в конкретных судьбах: Генерального штаба подполковник Виктор Иванович Оберюхтин - «слуга двух господ» поочередно (1918-1938 гг.) // Новейшая история России. 2013. № 1. С. 66-80.
- Кораблев Ю. И. Советская власть и военные специалисты (1918-1941 гг.) // Гражданская война в России: события, мнения, оценки. Памяти Юрия Ивановича Кораблева. М.: Раритет, 2002. 696 с.
- Лосунов А. М. «Дело» генерала А. И. Андогского // Известия Омского историко-краеведческого музея. 1999. № 7. С. 193-200.
- Фоминых С. Ф., Степнов А. О. События гражданской войны на юго-западе России в военных сводках и публицистике начальника Николаевской академии Генерального штаба профессора А. И. Ан-догского // Русин. 2018. № 53. С. 82-96.
- Черноморцев А. Бывшие офицеры // Носович А. Л. Белый агент в Красной армии: Воспоминания, документы, статьи. М.; СПб.: Нестор-История, 2021. С. 489-493.
- Mayzel M . Generals and revolutionaries. The Russian General Staff during the Revolution. A study in the transformation of military elite. Osnabrück: Biblio Verlag, 1979. 322 p