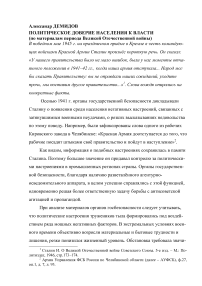Политическое доверие населения к власти (по материалам периода Великой Отечественной войны)
Автор: Демидов Александр Михайлович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1, 2009 года.
Бесплатный доступ
В победном мае 1945 г. на праздничном приёме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии Сталин произнёс короткую речь. Он сказал: «У нашего правительства было не мало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-42 гг., когда наша армия отступала... Народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство...». Слова вождя опирались на конкретные факты.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164563
IDR: 170164563
Текст научной статьи Политическое доверие населения к власти (по материалам периода Великой Отечественной войны)
Осенью 1941 г. органы государственной безопасности докладывали Сталину о появлении среди населения негативных настроений, связанных с затянувшимися военными неудачами, о резких высказываниях недовольства по этому поводу. Например, были зафиксированы слова одного из рабочих Кировского завода в Челябинске: «Красная Армия доотступается до того, что рабочие посадят штыками своё правительство и пойдут в наступление»2.
Как видим, информация о подобных настроениях сохранилась в памяти Сталина. Поэтому большое значение он придавал контролю за политическими настроениями в промышленных регионах страны. Органы государственной безопасности, благодаря наличию разветвлённого агентурноосведомительного аппарата, в целом успешно справлялись с этой функцией, одновременно решая более ответственную задачу борьбы с антисоветской агитацией и пропагандой.
При анализе материалов органов госбезопасности следует учитывать, что политические настроения тружеников тыла формировались под воздействием ряда мощных негативных факторов. В экстремальных условиях военного времени объективно возросли материальные и бытовые трудности и лишения, резко понизился жизненный уровень. Обстановка требовала значи- тельного увеличения производства продукции для фронта. Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» стал непреложным законом работы в тылу. Результаты политического контроля почтовой переписки в начале 1943 г. отражают вопросы, в наибольшей степени волновавшие тогда трудящихся. Среди зафиксированных «отрицательных сообщений» подавляющее большинство (74,4%) занимали письма о продовольственных затруднениях и высоких ценах на продукты. В связи с этим обеспечение рабочих и служащих продуктами питания в военное время заслуживает более подробного анализа.
До 1 февраля 1942 г. в глубокий тыл СССР было перевезено 12,4 млн чел., во время второй волны эвакуации летом 1942 г. – ещё восемь млн. Но для их нормированного снабжения на местах не было в достаточном количестве ни запасов продовольствия, ни источников их пополнения. Существенной помощи не смог оказать и колхозный рынок. Местные власти начали активно ограничивать вывоз колхозниками продуктов питания на продажу. Под угрозой репрессий в конце 1941 г. ввели категорические запреты торговых сделок между сельским населением и лицами, не проживающими на территории сельского совета. И без того маломощный колхозный рынок в скором времени оказался почти полностью парализованным. Естественно, цены на продукты питания вне сферы государственной торговли стремительно росли.
Цены на продукты растениеводства на колхозных рынках в 1943 г. по сравнению с уровнем 1940 г. увеличились в 12,6 раз, на продукты животноводства – в 13,2 раза1. Если принять во внимание, что заработная плата наиболее квалифицированных рабочих доходила лишь до 500 рублей, то следует сделать вывод, что продукты с рынка даже им были недоступны. К лету 1942 г. продовольственные затруднения стали ощутимы не только в городах, но и в сельской местности тех областей, где было размещено большое количество эвакуированных. Это являлось дополнительным фактором социальной напряжённости.
Положение усугублялось бесхозяйственностью и хищениями. Десятки пудов зерна исчезали – порой бесследно – с пунктов заготовки и хранения, сотни тонн хлеба в ряде областей расходились помимо официальных каналов реализации. Перерасход хлеба был тесно связан с преступными махинациями, так называемым «самоснабжением» должностных лиц и спекуляцией. Всё это сокращало и без того скудные запасы продуктов, оставляемых в тылу на собственные нужды после обязательного выполнения государственных поставок. Как результат – перебои снабжения хлебом, произвольное сокращение местными властями хлебных норм в полтора-два раза1, что вызывало негативную реакцию в трудовых коллективах. Причинно-следственную связь между заботой о рабочих, их политической позицией и производительностью труда подчеркнул начальник экономического отдела УНКВД по Горьковской области Гусев: «Рабочий класс, не получая пайка, даёт этому контрреволюционные толкования. И вполне естественно: в этом месяце не дай пайка, в следующем месяце не дай пайка рабочему – это всё отражается на выполнении производственного плана и на его политическом настроении»2.
Даже практически единственный доступный источник физического существования рабочих и служащих – заводская столовая – не был гарантированным. В мае 1942 г. службой политического контроля почтовых отправлений Управления НКВД по Свердловской обл. было зафиксировано характерное письмо одного из рабочих г. Невьянска: «Я бываю день сыт, а два дня голоден. Работать больше сил не хватает. Ноги не ходят, стоять не могу. Голова кружится. Не столько работаем, сколько сидим. Не знаю, как я переживу...»3. Дело в том, что к заводским столовым прикреплялись лица, к заводам никакого отношения не имеющие, обмеры и обвесы чередовались с исчезновением сотен килограммов мяса, масла, жиров, сахара, хлеба и других продук- тов. Поэтому порции произвольно сокращали, и порой часть рабочих возвращалась в цеха вообще ничего не получив в столовой. Подобные факты вызывали наиболее острое недовольство трудящихся.
Заметное влияние на политические настроения оказывало и отсутствие нормальных жилищно-бытовых условий в промышленных городах, население которых после размещения эвакуированных резко увеличилось. Так, к концу 1941 г. в Челябинскую обл. прибыло 365 159 чел., население г. Златоуста возросло на 40%. Такое положение было практически во всех промышленных областях Урала и Поволжья. «За пустой угол или даже кладовую, коридор» цены оказались взвинчены настолько, что платить за постой ни эвакуированные, ни беженцы были не в состоянии. В феврале 1942 г. из Куйбышева в СНК РСФСР докладывали, что большинство прибывших размещены в неприспособленных для жилья помещениях, но платить даже за такие «квартиры» приходилось от 50 до 150 рублей1. Под жильё срочно приспосабливали всё, что можно, возводили бараки, сооружали полуземлянки, рыли землянки.
К этому следует прибавить бытовую неустроенность: отсутствие одежды, обуви, топлива, неудовлетворительную работу бань, прачечных и других предприятий бытового обслуживания, плохое водоснабжение, отсутствие канализации. Грязь, холод и сырость в землянках, отсутствие мусорных ящиков, помойных ям и туалетов, клопы и завшивленность – всё это являлось неотъемлемой частью быта. Физическое истощение, предельные нагрузки на работе, антисанитария и тяжёлые бытовые условия приводили к повышенной заболеваемости населения, вспышкам дизентерии, эпидемиям сыпного и брюшного тифа. В декабре 1941 г. в Саратове было зарегистрировано 24 случая сыпного тифа, за 26 дней января 1942 г. – 88. В Свердловске в ноябре 1941 г. сыпным тифом заболело 26 чел., а в декабре – 1222 .
Трудности и лишения военного времени подавляющее большинство трудящихся переносило мужественно и терпеливо. Об этом отчасти говорит тот факт, что в начале 1943 г. в личной почтовой переписке только 5,4% корреспондентов из Свердловской обл. допустили отрицательные суждения об окружающей действительности. Проявления недовольства рабочих и служащих были бы абсолютно незначительными, если бы не сказывались некоторые важные факторы. Прежде всего, многочисленные случаи бездушного отношения к согражданам со стороны государственных и партийных чиновников. Особенно негативно воспринимались трудящимися действия должностных лиц, формально носившие законный характер. В таких случаях недовольство переносилось с конкретного бюрократа на всю социальнополитическую систему.
В деятельности районных, городских и областных исполкомов Вологодской, Куйбышевской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Челябинской, Чкаловской областей и некоторых автономных образований РСФСР вскрылись грубейшие нарушения законов при назначении пособий и льгот семьям красноармейцев. Необоснованные отказы в ходатайствах, волокита, занижение размеров пособий для одних и завышение для других, не предоставление льгот по налогам, госпоставкам и квартплате, применение незаконных санкций – вот далеко не полный перечень поводов для жалоб и предпосылок антисоветских проявлений. Злоупотребления должностных лиц воспринимались трудящимися поначалу как извращения политики партии и правительства, и в совокупности с резким обострением материальной нужды вызывали «значительное возрастание количества писем на фронт... с жалобами на эти извращения и на представителей местной власти»1. О масштабах нарушений законодательства в отношении семей военнослужащих можно судить по следующему факту: в Куйбышевской обл. с 5 февраля по 5 марта 1942 г. в потоке почтовой корреспонденции было зафиксировано и конфисковано 231 письмо родственникам-красноармейцам с жалобами на не предоставление льгот и пособий. Официальные обращения к властям также были малополезными для заявителей: из центральных инстанций жалобы, как правило, возвращались на места к тем, на кого жаловались. Проверка, естественно, заканчивалась неподтверждением фактов или частичными мерами для отписки наверх. Положение по существу не менялось, а в ряде случаев становилось даже хуже прежнего. Значительная часть жалоб не рассматривалась вовсе. Так, в Куйбышевском облисполкоме депутатов трудящихся рассматривалось только 30% поступивших жалоб, из них более половины – с грубейшими нарушениями сроков.
Произвол местных властей проявлялся и в решении хозяйственных задач. Широко практиковались разного рода мобилизации и дополнительные виды трудовой повинности, у населения нередко изымали строительные материалы без всякого документального оформления, отбирали домашнюю живность в счёт уплаты государственных налогов и поставок и т.п. Делалось всё это на основании постановлений исполкомов местных советов, которые произвольно вводили ответственность «по законам военного времени» за неисполнение своих незаконных нормативных актов. Противоправными действиями провоцировались антисоветские проявления. 10 августа 1942 г. СНК СССР был вынужден принять специальное постановление о порядке привлечения граждан к трудовой повинности, в соответствии с которым в местностях, не объявленных на военном положении, она могла вводиться только по постановлению СНК СССР.
Соблюдение законов в труднейших условиях военного времени позволило бы снять политическую окраску недовольства и предотвратить некоторые негативные процессы в трудовых коллективах. Однако далеко не все власть имущие это осознавали. Более того, злоупотребления служебным положением доходили порой до цинизма, что особенно проявлялось при распределении продовольствия и промышленных товаров. Не в силах ограничить незаконное получение продуктов руководящими работниками районного и областного ранга, секретари обкомов ВКП(б) пытались организовать их снабжение через централизованные фонды. Появились закрытые распределители для снабжения руководящих работников. Вскоре в обкомы партии из управлений НКВД пошла информация о негативных политических настроениях среди населения, вызванных социальной несправедливостью. Так, в октябре 1941 г. начальник УНКВД по Челябинской обл. Булкин доложил секретарю ОК ВКП(б) Сапрыкину, что в одном из ларьков-распределителей для советско-партийного актива всем прикреплённым хлеб ежедневно выдавался на 25% больше норм, установленных государством. Это стало достоянием трудящихся, и возникли «политически нездоровые» настроения. «Начальство живёт – войны не чувствует... Кругом неправда и это... очень действует морально: для одних военное время, а для других его нет»1. Эти слова работницы куйбышевского завода вошли в справку УНКВД (на десяти листах машинописного текста с другими подобными высказываниями) о настроениях среди эвакуированных рабочих для секретаря ОК ВКП(б) Никитина.
Несмотря на ужесточение законодательства, должностные преступления носили массовый характер. Органы государственной безопасности вскрывали многочисленные факты злоупотреблений служебным положением и информировали о них местные комитеты ВКП(б). Семейственность, пьянство, моральное разложение, грубость, поборы, косвенное и прямое участие в преступных махинациях, хищениях и спекуляции – убедительные свидетельства того, что перерождение номенклатурных кадров, о котором впервые решились открыто сказать лишь на январском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС, имеет свою, пока ещё малоизученную, историю и произошло задолго до Великой Отечественной войны, а в её ходе лишь проявилось со всей очевидностью.
Обобщая материалы по антисоветской агитации и пропаганде, следует особо подчеркнуть, что в ходе Великой Отечественной войны органами госбезопасности фиксировался переход на патриотические позиции значительной части лиц, которые находились в поле зрения органов госбезопасности как антисоветские элементы. В связи с этим почти во всех органах госбезо- пасности имело место прекращение агентурных разработок. Зафиксированы не единичные случаи, когда объекты этих разработок, перешедшие на патриотические позиции, в дальнейшем проявляли себя только положительно и за свой самоотверженный труд награждались орденами и медалями1.
Разгром немецких захватчиков в Великой Отечественной войне во многом был предопределён высоким уровнем морально-патриотического потенциала советского тыла. Политическое доверие граждан к высшему руководству страны в условиях крайнего напряжения физических и духовных сил являлось существенным фактором производительного труда, сформировавшего материальную базу Победы.
ДЕМИДОВ Александр Михайлович – к.ю.н., доцент, первый секретарь посольства РФ в Киргизии