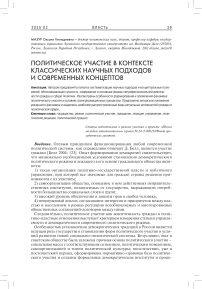Политическое участие в контексте классических научных подходов и современных концептов
Автор: Мазур О.Г.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Материалы конференции школы молодых этнополитологов
Статья в выпуске: 2 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Автором предпринята попытка систематизации научных подходов и концептуальных положений, обосновывающих сущность, содержание и основные формы непрофессиональной деятельности граждан в сфере политики. Рассмотрены особенности формирования и проявления феномена политического участия в условиях трансформационных процессов. Предложено авторское понимание указанного феномена и выделены наиболее распространенные виды актуальных активностей граждан в политической сфере.
Государство, режим, политическое участие, гражданин, позиция, управление, политические решения, политический процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/170210337
IDR: 170210337 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-2-39-47
Текст научной статьи Политическое участие в контексте классических научных подходов и современных концептов
Введение. Осевым принципом функционирования любой современной политической системы, как справедливо отмечает Д. Белл, является участие граждан [Белл 2004: 123]. Опыт формирования демократий свидетельствует, что минимально необходимыми условиями становления демократического политического режима и лежащего в его основе гражданского общества являются:
-
1) такая организация политико-государственной власти и публичного управления, при которой все значимые для граждан страны решения принимаются с их участием;
-
2) самоорганизация общества, появление в нем действенных неправительственных институтов, независимых от государства, выражающих потребности большинства социальных слоев и групп;
-
3) высокий уровень обеспечения и защиты прав и свобод человека;
-
4) непрерывный диалог, согласование интересов и приоритетов между властью и населением в рамках регулярно возобновляемых и многоуровневых общественных соглашений-договоров между ними.
Следовательно, политическое участие как вовлеченность граждан в политико-властные отношения выступает критерием измерения степени управляемости и демократичности современного политического режима.
Особенностью установления демократических традиций в России является ведущая роль государства в становлении форм политического участия и условий развития новой социально-политической системы. Безусловно, еще в советском обществе была заложена прочная основа политического участия – социальная масса с соответствующим сознанием, политическим поведением, самоорганизацией и типом политической культуры; впоследствии, уже в постсоветский период, сформирована нормативно-правовая база политического участия и созданы формальные демократические институты и проце- дуры. Вместе с тем в отечественной политической науке ощущается недостаток теоретико-методологического анализа феномена политического участия, не разработаны методологические подходы к его измерению. В данной статье будет предпринята попытка систематизации методологических подходов в изучении феномена политического участия.
Теоретическая база исследования . На сегодняшний день наиболее широкую теоретическую базу для изучения проблемы политического участия представляют работы западных, в т.ч. американских, политологов и социологов. В зарубежной литературе разработаны и обобщены способы и методы этого изучения, высказаны прогнозы о характере проявлений политического участия в разных социально-политических условиях. Категории политического участия как деятельности группы лиц, руководствующихся политическими интересами, посвящены работы Г. Алмонда, М. Гоэла, Р. Даля, Р. Кловарда, М. Конвея, Л. Милбрайта, Ч.Р. Миллса, С. Липсета, Ф.И. Гринстайна, Л. Пая, Ф. Пивена и др. Эти исследования включают в себя анализ широкого спектра различных способов участия субъекта в политике как на индивидуальном уровне, так и посредством социальных институтов и опираются на мощную эмпирическую базу. В целом феномен политического участия получил в современной мировой литературе достаточно всестороннюю разработку с точки зрения структуры, форм, уровней, методов, идеологических и социальных аспектов, законообеспеченности, эффективности, т.е. как формальных, так и содержательных сторон явления.
Проблемам определения места и роли политического участия в политическом процессе посвятили свои исследования такие зарубежные ученые, как Р. Брубейкер, Т. Жиро, Г. Лассуэл, А. Лейн, Дж.М. Миллер, Д. Нагель, Р. Патнэм, Л. Санистебан. Специфику политического участия в советской и постсоветской системах, исследование факторов электорального выбора, анализ стимулов и традиций политической активности электората и т.д. осуществили В. Римский, М. Холмская, Ю. Шевченко и др. Комплексный подход к разработке теории политической роли демонстрируется в монографиях Д. Гончарова и И. Гоптаревой.
Результаты исследования. Одним из условий стабильности и эффективности политической системы исследователь модернизационных процессов в постиндустриальных странах С. Хантингтон называет «сильные, гибкие, крепкие социальные институты», которые представляются эффективной бюрократией, хорошо организованными политическими партиями, высокой степенью народного участия в общественных делах и гражданского контроля над военными. По его словам, «политический порядок зависит от соотношения между развитием политических институтов и мобилизацией новых общественных сил в политику» [Хантингтон 2004: 19].
Многие современные исследователи демократических режимов констатируют постиндустриальный характер общества. Политическую сущность постиндустриального общества Д. Белл, основатель теории постиндустриализма, видит в его коммунальном характере, при котором «многие группы стремятся утвердить свои социальные права, свои требования к обществу через политический порядок» [Белл 2004: 503]. Таким образом, современный государственный строй отличается от традиционного развитостью политического сознания и уровнем политической активности населения.
Современный политический процесс отличается явлением «гуманизации», сущность которого отражает модель взаимной корреляции и взаимовлияния всех субъектов политического процесса «государство – гражданин», предло- женная политологом Г. Дашутиным [Дашутин 2002]. Это означает, что общепринятая интерпретация современного политического процесса как детерминированного государством влияния на общество и граждан не отражает реальную политическую действительность. Уместным здесь будет привести точку зрения Д. Бринкерхоффа, который обращает внимание на то, что игнорирование политического участия как санкционированного правовыми нормами влияния граждан и их объединений на государственную власть путем их формирования приводит к постоянному повышению властных дифференциалов (т.е. между государственной властью и суверенной властью общества) и усилению государственно-властной экспансии [Мухаев 2025: 85].
Современное развитое государство, как убедительно доказано в работе С. Хантингтона «Политический порядок в изменяющихся обществах», отличается от традиционного государства характером политических институтов. Так, функция институтов традиционного общества ограничена задачей структуризации политической активности небольшого сегмента общества, тогда как на институтах современного общества лежит задача организации политической активности широких масс населения. Следовательно, ключевым институциональным отличием между этими двумя типами обществ является появление в последнем организаций для структуризации участия масс в политической жизни.
В западной науке место и роль политического участия в социально-политических действиях расценивается неоднозначно. Существующие теоретические подходы можно разделить на два направления, исходя из оценки роли участия в обществе. Первое из этих направлений – конструктивное, представлено теориями, в которых политическое участие наделяется весомым конструктивным действием на состояние общества. Сторонники этого подхода считают, что расширение демократического участия является надежным путем легитимации политической власти, решения политических проблем несиловыми методами и надежным средством установления соответствующих границ конкурирующих политических партий. Ко второму – критическому – направлению относят теоретические конструкты, согласно которым политическое участие является элементом социально-политической бутафории, что демонстрирует расхождение между заявленной значимостью и реальным номинальным влиянием в политическом процессе.
Примечательно, что к первой группе можно отнести теоретических оппонентов: структурный функционализм и теорию конфликта. Обе теории, хотя и с разных позиций, обосновывают важность феномена политического участия в социально-политической жизни. Политика, по мнению Т. Парсонса, – это одна из четырех подсистем социальной системы, функция которой – целеориентирование, а политическое участие – один из элементов этой подсистемы, обеспечивающий занятие политическими видами деятельности для реализации этой функции [Parsons 1966]. Для Р. Мертона политическое участие – один из механизмов «политической машины» [Мертон 1996: 451]. С помощью этого механизма, как отмечает и С. Липсет, обеспечивается демократия, «связанная с предоставлением максимально широкого доступа к структуре принятия решений для разных групп» [Липсет 1994: 213]. Именно политическое участие, конкретизирует Б. Барбер, является мощным рычагом для того, чтобы «уравновешивать влияние высших социальных классов, а иногда и брать над ними верх» [Барбер 1972: 237]. Таким образом, главная функция политического участия – обеспечение социальной стабильности (равновесия) через реализацию политической демократии.
Их оппоненты утверждают, что чрезмерное расширение политического участия следует существенно сузить, сохраняя орудия принятия решений для лучше информированных и более эффективно действующих граждан. Наиболее последовательно этот подход представлен в интеграционизме П. Сорокина. Участие в политике – проявление рекламного духа демократии, «демократические уловки»: «свободный гражданин имеет в политике “нулевое значение”... Власть правит его именем и за счет его авторитета», – констатирует П. Сорокин [Сорокин 1992: 343]. Интересной в этом смысле оказывается позиция С. Хантингтона, отмечающего, что «расширение участия населения в политике приводит к подрыву традиционных политических институтов и создает трудности на пути формирования современных политических институтов. Модернизация и социальная мобилизация, таким образом, становятся факторами политического упадка, если не принимаются меры по ограничению влияния этих процессов на политическое сознание и активность» [Хантингтон 2004: 94]. Этот феномен отмечает и исследователь политических действий в постиндустриальном обществе Д. Белл. Так, он пишет: чем больше становится число групп, каждая из которых борется за достижение собственных целей, тем выше вероятность того, что они начнут накладывать вето на интересы друг друга, и такая ситуация может вызвать лишь озлобленность и безвластие [Белл 2004: 31].
В целом же исследования феномена политического участия в условиях трансформации политических режимов современных государств доказывают комплексный характер этого политического явления. В частности, отечественный исследователь Д. Гончаров утверждает, что институт политического участия является чрезвычайно сложным социокультурным явлением, и его концептуализация требует создания комплексной теории, охватывающей в некотором цельном анализе множество аспектов социально-политической динамики современного общества. Ученый рассматривает участие в качестве инструментальной активности, реализуемой гражданами с целью влияния на правительство, чтобы оно действовало желаемым для них образом [Гончаров, Гоптарева 1996: 146]. К действиям, которые относятся к политическому участию, он относит голосование, участие в демонстрациях, митингах, пикетах, внесение денежных взносов, написание писем, петиций, вступление в личные контакты с политиками и должностными лицами, членство в различных организациях, выдвижение общественных инициатив на местном уровне и др. Политическое участие рассматривается как факт влияния на процесс принятия политических решений, с одной стороны, а с другой – как действие на характер и ход реализации той практической программы, которая принимается органом государственного управления.
При этом Д. Гончаров разделяет «политический» и «инструментальный» аспекты участия, где «политический» означает проявление более или менее стихийной активности, которая не всегда поддается инструментальной интерпретации, а «инструментальный» аспект является характеристикой действий, соблюдающих процедуры социально-политической активности, носят инструментальный характер и эффективно осуществляются в демократическом ценностном контексте [Гончаров, Гоптарева 1996: 146-148]. Выбор тех или иных конкретных форм участия обусловлен, таким образом, традиционным социокультурным контекстом этого общества, а также характером институционализации участия в процессах планирования и принятия решений [Гончаров, Гоптарева 1996: 180].
Политолог В. Бортников посвятил комплексному изучению политического участия как определяющего фактора демократической трансформации общества монографию «Политическое участие и демократия: украинские реалии». Анализ многочисленных научных исследований по проблеме политического участия позволил автору прийти к выводу об ошибочности трактовки понятия «политическое участие» только в контексте публично-властных отношений, поскольку в условиях демократической трансформации содержательная сущность этого феномена существенно обогащается. Принимая во внимание существование социальной составляющей демократии, правомерным будет, на его взгляд, рассматривать политическое участие как деятельность, направленную на удовлетворение жизненных потребностей и распределение ресурсов в их широком понимании [Бортников 2007].
Следует отметить, что ни отечественная, ни зарубежная современная политическая наука не дают однозначного толкования этого феномена. В современном российском политологическом дискурсе для выделения этого понятия прибегают к сравнению с ним таких категорий, как политическое функционирование, политическая деятельность, общественное участие. Так, Е. Афонин, Л. Гонюкова и Р. Войтович в исследовании «Общественное участие в создании и осуществлении государственной политики» отмечают, что «политическое участие закономерно осуществляется путем голосования», а при использовании понятия «общественное участие» голосование считается одной из наиболее действенных форм участия общества в политическом процессе в целом [Афонин, Гонюкова, Войтович 2006: 16]. Исследователь Р. Мацкевич определяет политическое участие как один из двух основных векторов политического процесса, реализуемого посредством влияния граждан и общества на функционирование органов государства. Причем это влияние, по словам ученого, означает прямые и опосредованные «способы и механизмы влияния граждан на политическую власть» [Мацкевич 2010: 43-49]. Несколько иной содержательный аспект категории политического участия освещает доктор политических наук П. Кузьмин. Политическое участие, с точки зрения ученого, может выступать в двойной роли: с одной стороны, как этап в политическом развитии индивида, социальной группы, предшествующий политической деятельности, с другой – как составная часть политической жизни общества, которая может влиять на политику и политическую деятельность путем восприятия или невосприятия, поддержки или непод-держки, выражения несогласия с ней, реализации противодействий [Кузьмин 2010]. Как четко объясняет профессор Н. Ротар, «если политическое участие характеризует действия граждан вне служебных обязанностей, то политическая деятельность характеризует действия профессиональных политиков» [Ротар 2010: 82]. Вполне уместна в этом смысле точка зрения исследователя А. Левченко, что политическое участие является первым, низшим уровнем политической деятельности, предшествующей ее второму, высшему уровню – политическому функционированию [Левченко 2000: 136].
Интересным для наших научных изысканий видится определение феномена политического участия американским политологом Дж. Нагелем, согласно которому политическое участие – это действия, посредством которых рядовые члены любой политической системы влияют или пытаются влиять на результаты ее деятельности [Холмская 1999: 171]. И как уточняет профессор В. Кузьмин, политическим участием могут быть признаны только целенаправленные практические действия индивида, т.е. те действия, которые совершаются сознательно в политическом пространстве.
Один из самых ярких представителей коммунитарной теории Х. Ларди считает категорию политического участия стержневой в процессе создания устойчивого политического сообщества. По его мнению, именно с помощью политического участия происходит процесс самопознания и осознания индивидуальными акторами собственных политических интересов, осуществляется их социализация и реализация в определенной политической системе, согласно ее нормам и правилам [Lardy 1997: 79]. «Демократия, – пишет А. Пшеворский, – легитимна в том смысле, что люди готовы признавать решения, содержание которых еще не определено, уже постольку, поскольку эти решения являются результатом применения общепринятых правил. Люди согласны с итогами демократического взаимодействия, даже когда они им не нравятся, поскольку это результат применения на практике правил, на которые мы все согласились... В таком случае ключом к демократической стабильности является “культура участия”» [Пшеворский 1993: 55].
Таким образом, политическое участие может рассматриваться как привлечение членов определенного социально-политического сообщества к процессу политико-властных отношений, влияние общественности на ход существующих социально-политических процессов в обществе и на формирование властных политических структур.
Современный дискурс по проблемам политического участия демонстрирует множество классификаций его видов и форм, однако ввиду разнообразия переменных факторов, определяющих данный феномен, не существует единая классификация политических действий. Так, понимая под категорией политического участия прежде всего взаимодействие участников политического пространства, политологи С. Верба и Л. Най ранжируют формы непрофессиональной политической деятельности граждан по степени активности субъекта: пассивная форма политического поведения, участие только в выборах органов власти или решении местных проблем, деятельность политических активистов. Другую классификацию форм политического участия предлагает американский ученый Л. Милбрайт, выделяя два вида его осуществления. Так, к конвенционному участию он относит электоральное голосование, участие в деятельности политических партий и политических кампаниях, участие в жизни общества, например в общих собраниях, контакты с официальными лицами на разных уровнях. Неконвенционные формы политического участия состоят из публичных уличных акций – митингов, демонстраций – с нарушением закона, политический протест против действий власти, отказ подчиняться законам. К крайним неконвенционным формам участия исследователь относит экстремизм и терроризм.
Дж. Нагель предлагает типологию форм политического участия в зависимости от характера стимулов – внешних и внутренних, побуждающих к политическим действиям. По этому критерию ученый выделяет автономное участие, в основе которого лежат внутренние мотивы – интересы и потребности, и мобилизационное участие, происходящее под влиянием внешнего давления – административного принуждения, ограничения прав и т.п. [Negel 1987: 53-54].
Учитывая специфику нашего исследования, научный интерес представляет точка зрения ведущих американских политологов С. Хантингтона, С. Липсета и Дж. Нельсона, которая заключается в том, что тип политического участия в значительной степени определяется характером политического режима. С учетом этого обстоятельства демократическому устройству общества отвечает автономное, добровольное участие в политической жизни.
Мобилизационное участие присуще тоталитарным режимам, имитирующим широкую общественную поддержку власти.
В условиях же политической трансформации качественные характеристики политического участия претерпевают специфические изменения, а в отдельных случаях демонстрируют прямо противоположные ожиданиям качества, такие как:
– необъяснимое снижение активности граждан в политической сфере (вопреки ожиданиям, при расширении возможностей проявления собственной позиции и реализации политических прав в посткоммунистических обществах уже с начала 1990-х гг. проявился существенный спад политической активности [Хантингтон 2004: 211]);
– стабильно низкий уровень протестных настроений, несмотря на кризисные состояния социальной и экономической сферы практически во всех государствах, где происходили политические трансформации;
– рост поддержки левых (социалистических и коммунистических) политических сил, несмотря на структуризацию социальных интересов и групп, непосредственно участвующих в собственности и конкурентном рынке [Куценко 2006: 94].
Обобщая изложенное выше с учетом представленных научных подходов и концептуального видения феномена политического участия, мы можем определить его как действия членов социально-политических сообществ с целью влияния на процесс принятия политических решений, воплощения государственной политики или выбора политических лидеров на всех уровнях власти – местном, региональном, общенациональном.
Актуальные тенденции развития технологической составляющей современного мира, к которым следует отнести новации в сфере информационнокоммуникационных решений, использование искусственного интеллекта в интернет-сервисах, применение цифровых технологий в обработке и передаче информации, рост числа участников интернет-сообществ и популярности виртуального пространства как места, где с минимальными усилиями можно осуществить общение, получить консультацию, поучаствовать в каком-либо проекте или опросе, развитие фиджитал-форматов участия граждан в политическом процессе, вносят значительные изменения в само содержание феномена и открывают перспективы для его дальнейшего изучения.
Систематизация подходов и концептуальных положений относительно сути и функциональных признаков политического участия дает возможность выделить следующие формы активности гражданина в политической жизни: голосование как центральный и наиболее массовый аспект политического участия в демократических системах; участие в обсуждении законопроектов и политического курса страны; личные контакты с политиками; отправка писем в органы государственной власти и местного самоуправления; участие в массовых действиях (митинги, демонстрации, забастовки, пикетирование); участие в кампаниях по сбору подписей сторонников или противников определенной политической линии; участие в деятельности политических партий, профсоюзов, общественных организаций; создание политико-информационного контента в интернет-пространстве.