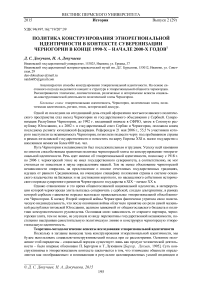Политика конструирования этнорегиональной идентичности в контексте суверенизации Черногории в конце 1990-х - начале 2000-х годов
Автор: Докучаев Д.С., Докучаева Н.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Политическая история современности
Статья в выпуске: 2 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
Анализируются способы конструирования этнорегиональной идентичности. На основе системного подхода выделяются концепт и структура в этнорегиональной общности черногорцев. Рассматриваются этнические, лингвистические, религиозные и исторические аспекты социально-конструктивистской деятельности политической элиты Черногории.
Этнорегиональная идентичность, черногория, политическая элита, политическая идентичность, регион, этнос, исторический дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/147203879
IDR: 147203879 | УДК: 94(497.16):"19/20":39
Текст научной статьи Политика конструирования этнорегиональной идентичности в контексте суверенизации Черногории в конце 1990-х - начале 2000-х годов
Одной из последних на сегодняшний день стадий оформления постъюгославского политического пространства стал выход Черногории из государственного объединения с Сербией. Суверенизация Республики Черногории, до 1992 г. входившей вначале в СФРЮ, затем в Союзную республику Югославию, а с 2002 г. в государственный союз Сербии и Черногории, положила конец последнему реликту югославской федерации. Референдум 21 мая 2006 г., 55,5 % участников которого выступили за независимость Черногории, позволили подвести черту под пребыванием страны в рамках югославской государственности и поместить на карту Европы XXI в. малое государство с населением немногим более 600 тыс. чел.
Путь Черногории к независимости был последовательным и трудным. Успеху всей кампании во многом способствовала грамотная политика черногорской элиты по конструированию этнореги-ональной идентичности. Речь идет именно об этнорегиональной идентичности, поскольку с 1918 г. по 2006 г. черногорский этнос не имел государственного суверенитета, а соответственно, не мог считаться по известным в науке определениям нацией. Тем не менее обоснование черногорской независимости опиралось на представление о вполне отчетливых государственных традициях, идущих от раннего Средневековья, на очевидную специфику положения страны в системе османского владычества на Балканах и на достижения короткого, но насыщенного событиями исторического периода суверенного развития Черногорского государства в XIX – начале ХХ в.
Однако становление в это время общеюгославской национальной идеологии, в интерпретации которой черногорская элита пыталась соперничать с сербской, создало альтернативу, в рамках которой сербское главенство нередко выглядело привлекательнее этнорегиональной обособленности Черногории. К началу Второй мировой войны Черногория фактически утратила свою политическую индивидуальность, что после окончания войны облегчило принятие ею роли самой маленькой республики титовской Югославии, целиком зависимой от общеюгославского бюджета и политики коммунистического руководства. Осознавая свою зависимость от старшего партнера, черногорская элита, тем не менее, не упускала из виду перспективы государственной независимости, постепенно выстраивая самостоятельную политическую линию и конструируя черногорскую этноре-гиональную идентичность.
Теоретико-методологические аспекты исследования этнорегиональной идентичности
Поскольку в заглавие вынесена тема конструирования этнорегиональной идентичности, мы будем использовать социально-конструктивистский подход при ее рассмотрении. Основное положение этой парадигмы – социальный порядок существует лишь как продукт человеческой деятельности – было впервые обосновано П. Бергером и Т. Лукманом [ Бергер, Лукман, 1995]. Суть конструктивизма в этнорегиональном контексте заключается в том, что этнические общности определяются как «воображаемые» и возникающие в результате целенаправленных усилий индивидов и
создаваемых ими институтов, поэтому этничность понимается как социальный конструкт.
Методологию социального конструктивизма следует дополнить системным подходом в интерпретации А.И. Уемова [Уемов, 1978], адаптированным к анализу неформализованных систем И.В. Дмитревской [Дмитревская, 1992]. В работах этих авторов понятие «система» определяется как вещь (или множество вещей), обладающая отношением с заранее фиксированными свойствами. Любая система имеет три уровня организации: концептуальный (уровень системообразующего свойства), структурный (уровень системообразующего отношения), субстратный (уровень элементов системы). Специфика системы определяется концептом и структурой, а субстрат играет подчиненную роль. Концепт и структура системы, являясь системообразующими компонентами, доминируют над субстратом.
Таким образом, рассматривать особенности конструирования этнорегиональной идентичности в Черногории мы будем на основе социально-конструктивистского и системного подходов.
Теперь необходимо уточнить некоторые используемые нами понятия, а именно «этнос», «регион», «региональная идентичность», «этнорегиональная идентичность».
Этнос . Одно из первых в отечественной науке определений этому понятию дал в 1923 г. С.М. Широкогоров. В частности, он писал, что этнос есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традицией и отличаемых ею от таковых других групп [ Широкогоров, 1923]. Несмотря на многочисленные споры вокруг толкования этого понятия, мы понимаем под этносом исторически сложившуюся на определенной территории устойчивую совокупность людей, обладающую общими чертами и стабильными особенностями культуры и психического склада, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований .
Регион. В науке до сих пор идут споры относительного того, какую именно территорию считать регионом. В теоретическом и исследовательском плане под регионом часто понимается часть пространства, являющаяся гомогенной в заданных критериях и отличающаяся по этим критериям от других частей пространства в рамках определенного целого . Когда мы связываем между собой территорию и идентичность, то должны расширить это понимание. Под регионом как пространством коллективной идентичности человека нами понимается часть социально освоенной территории, выделяемая на основании социально обусловленных отличий от других частей пространства и выступающая объектом отождествления (сопоставления) смысложизненного мира человека с ней и с социальной общностью, локализованной в этом пространстве (см. подробнее [Докучаев 2012]). Существование региональных сообществ является результатом, с одной стороны, объективации, конструирования и поддержания или подчеркивания различий в рамках социальных практик, а с другой – целенаправленного распространения идеи единства с целью гомогенизации сообщества.
Региональная идентичность - это прежде всего представления человека о себе в сопоставлении с общностью, локализованной в части социально освоенного пространства Мира. Она может проявляться и как «внешняя», и как «внутренняя». Онтологический статус региона как аналога «особого мира» определяет сущностную характеристику региональной идентичности, которая в широком смысле может быть сведена к осознанию человеком своей принадлежности к части Мира – региону. Эта сущностная характеристика проявляется в соотнесении смысложизненного центра человека с социальным целым – региональным сообществом («внешняя» идентичность) – и с genius loci региона: интеллектуальными, духовными, эмоциональными явлениями и их материальной средой («внутренняя» идентичность). Региональную идентичность следует рассматривать в качестве системы, элементы которой взаимосвязаны. Концептом такой системы является дихотомическая идея территориального сходства и территориального различия, которая реализуется в рамках оппозиции «Свои» – «Чужие». Реализация концепта «Свои» – «Чужие» не только способствует соотнесению смысложизненного центра человека с региональным сообществом, но и формирует у человека представления о тождественности и целостности самого регионального сообщества. К анализу структуры региональной идентичности можно применить подход О.В. Рябова, в рамках которого в содержательной интерпретации структуры идентичности выделяются три компонента: пространственно-временное отношение, отношение со «Своими» (образ «Мы»), отношения с «Чужими» (образ «Они») [ Рябов, 2000].
Этнорегиональная идентичность – это подвид региональной идентичности, олицетворя- ющий смещение структуры идентичности в сторону этнических компонентов. Определяя это понятие, следует иметь в виду тот факт, что этнорегиональная идентичность представляет собой комплекс способов самоопределения (самовосприятия и репрезентации) человека на основе сочетания территориального и группового (этнокультурного) принципов [Ямалнеев, 2005, с.12]. Характеризуя в дальнейшем эту категорию применительно к черногорскому обществу, мы будем уделять особое внимание тому факту, что этнорегиональная идентичность является частью проектирования политической идентичности со стороны элит.
Политика конструирования этнорегиональной идентичности в современной Черногории
Черногорию, как и все пространство Балкан, характеризует сплав идентичностей, состав и соотношение элементов которого менялись в ходе исторического развития, а также под влиянием политических процессов в регионе. Можно сказать, что идентичность черногорца в целом представляет собой мозаику из индивидуальных и групповых самоидентификаций. По мнению ряда исследователей (см., например [ Wilmer ]), вооруженные конфликты на пространстве Югославии в первой половине 1990-х гг. были основаны именно на проблемах идентичности, а различные идентичности, противостоявшие югославской, использовались по крайней мере в качестве лозунгов для разжигания конфликтов.
Концептом черногорской этнорегиональной идентичности выступает дихотомическая идея территориального сходства и территориального различия, реализуемая в рамках оппозиции «Свой» – «Чужой».
Структура идентичности – это системообразующие отношения. Их тоже необходимо выделить. Мы полагаем, что в структуре черногорской этнорегиональной идентичности четко проявляются этнические, лингвистические, исторические, религиозные и социальные отношения . Все эти отношения конструируются в рамках оппозиции «Свой» – «Чужой», таким образом, концепт системы поддерживает структуру.
Сложный исторический путь Черногории обусловил не менее сложную судьбу черногорской этнорегиональной идентичности. Конструирование ее в Черногории происходило с использованием таких идентификационных координат, как история, язык, конфессия, которые в основном являлись общими с сербскими. Сам черногорский этнос долгое время считался субэтносом сербского. Поэтому процесс формирования этнорегиональной идентичности не мог не инициироваться политическими элитами. Изначально он был направлен на достижение политических целей и составил существенную часть процесса окончательного оформления современного независимого государства Черногории. Важно подчеркнуть, что как образование государства и титульной нации, так и конструирование черногорской идентичности проходило в конце XX в. в Черногории с учетом перспектив интеграции ее в общеевропейское пространство.
В течение длительного исторического периода Черногория воспринималась многими исследователями и до некоторого времени самими жителями Черногории как часть Сербии или «разновидность сербской государственности» [ Пономарева, 2010, с.205]. В XIX в. коренное население Черногории исходило из того, что они составляют с сербами языковую и этническую общность, но при этом являются «лучшими из сербов». Так, в переписи 1909 г. 95% черногорцев назвали родным языком сербский [ Пописи у Црной Гори од 1909 до 2003 ]. Вместе с тем описывая черногорцев в XIX – начале ХХ в., многие авторы отличали их от сербов, акцентируя их геройский дух, любовь к свободе, трепетное отношение к родине, уважение к старшим и к своим традициям, а также воинственность и мстительность (см., например [Черногория и ее жители, 1849]). Черногорский народ, по мнению историков и писателей, испокон веков успешно боролся за свою свободу и независимость, соединяя приверженность православию с верностью России (см., например, [ Жители области Монтенегро или черногорцы , 1805]). Характерно, что мистификация П. Мериме («Guzla») [ Mé-rimée , 1926, p.160‒161], выданная им за фольклор черногорцев, была переведена на русский язык А.С. Пушкиным («Песни западных славян»), отразив эти общие стереотипы:
«"Черногорцы? Что такое? ‒ Бонапарте вопросил. – Правда ль: это племя злое, Не боится наших сил?» [Бонапарт и черногорцы].
Формирование черногорской этнорегиональной идентичности в ХХ в. было связано прежде всего с национально-освободительной войной 1941‒1945 гг., в ходе которой восстановление государственности Черногории в форме одной из республик социалистической федерации стало одной из целей освободительного движения во главе с Тито. Ключевым моментом этого процесса часто называется 1 мая 1945 г., когда в югославской коммунистической газете «Борьба» была опубликована статья Милована Джиласа «О черногорском национальном вопросе». Объединение Сербии и Черногории он называл «мошенничеством», подчеркивая роль Черногории в обретении свободы «новой Югославией», а также отмечая, что, несмотря на общую судьбу, «пути развития были у Черногории и Сербии различными» [Vlahović, 2006]. После Второй мировой войны согласно первой переписи населения (1948 г.) более 90% населения образованной в 1945 г. республики причислили себя к черногорцам. В дальнейшем численность тех, кто указывал в качестве этнонима «черногорец», постоянно снижалась (68,5% в 1981 и 61,9% в 1991 г.) и достигла наименьшего показателя в 2003 г., коррелируя с числом тех, кто считал себя «сербами». В переписи 2003 г. «черногорцами» назвали себя 43% населения страны, «сербами» – 32%, «бошняками» – 8%, «албанцами» – 5% [Crna Gora u brojkama, 2010].
Если в начале 90-х гг. ХХ в. снижение доли населения, признавшего себя черногорцами, не противоречило общим задачам образованной после распада СФРЮ «малой Югославии», то при курсе черногорской политической элиты на независимость государства в конце 1990-х – начале 2000-х гг. оно превратилось в серьезную проблему для легитимации этого курса и проведения его в жизнь. Кроме того, отделение (и отдаление) от Сербии и сближение с Европейским союзом требовали согласования двух мало сочетаемых парадигм – этнонациональной и общегражданской. По этим причинам самое пристальное внимание в рамках внутриполитического курса руководства республики с конца 90-х гг. ХХ в. стало уделяться конструированию этнорегиональной идентичности.
Исторический «фундамент» этнорегиональной идентичности выстраивался на уточнении отношений «Свой» – «Чужой». «Своими» были черногорцы, а «Чужими» – сербы. В процессе конструирования идентичности происходило отрицание «сербскости» и подчеркивание «черногорско-сти» на фоне прославления прежде всего военных подвигов черногорцев в деле освобождения южных славян от различных захватчиков. Особый упор делался на длительное сопротивление Черногории установлению османского владычества, а также на героическую борьбу черногорцев против итальянской и германской оккупации в 1941–1945 гг. Эта выборка событий поддерживала и утверждала стереотип, согласно которому черногорцы – гордый и воинственный народ, который единственным на Балканах никогда не был подчинен полностью иностранными завоевателями.
Следует отметить, что выстраивание новых координат идентичности и проведение границы между черногорцами как «Своими» и сербами как «Чужими» было весьма проблематичным процессом, поскольку общая историческая судьба черногорцев и сербов в ходе войн и конфликтов XIX–ХХ вв., православное вероисповедание, общий литературный и государственный язык на определенном историческом этапе оправдывали сосуществование Сербии и Черногории в рамках одного государства как в глазах черногорцев и сербов, так и в представлениях большинства внешних наблюдателей, включая политиков и исследователей. Однако фактор «родства» с Сербией являлся определенным препятствием для реализации курса на сближение с ЕС, поэтому одним из направлений внутренней политики части черногорской элиты стало «прививание» титульному населению Черногории новой этнорегиональной идентичности.
Как мы уже отметили, длительное время сербов и черногорцев объединял общий литературный язык. Поэтому изначально в структуре черногорской этнорегиональной идентичности эти внутрисистемные отношения отсутствовали. Лингвистические структуры пришлось конструировать. Ряд исследователей приписывают языку на пространстве Балкан признаки «флага», с помощью которого народы отстаивают свою независимость и суверенитет. Яркими примерами этого были события в Боснии, Хорватии и Сербии. «Мнения бошняков, хорватов, черногорцев и сербов долгое время расходились по базовым вопросам: говорят ли они на одном языке или на разных, какие диалекты должны иметь статус официальных, какие алфавиты и системы письма наиболее подходят для их нужд?» [ Greenberg, 2004, p.9]. События 1990-х гг., когда необходимость определяться с языковыми предпочтениями возникла в рамках независимых государств, обозначили главный тренд – отход от лексического состава, стилистики, орфографии и даже грамматики сербского инварианта общего для большинства югославян языка.
Уже в Конституции Республики Черногория 1974 г. была закреплена черногорская лингвистическая норма как подвариант общего с сербами и хорватами языка. В 1990-е гг. в Черногории, находящейся еще в составе единого с Сербией государства, нарастали опасения по поводу ущемления особенностей «неоштокавского екавского диалекта» и настроения в пользу преимущественного использования латиницы. К тому моменту сербохорватский язык de facto уже перестал существовать в результате войн в Боснии и Хорватии, приведших к выделению из него боснийского, хорватского и сербского языков.
Обострение языковой проблемы продолжилось с началом политической эпохи М. Джукано-вича и движения страны к независимости. Для обоснования выделения черногорского языка как особого использовались его отличия прежде всего от сербского языка. В 1994 г. черногорская организация ПЕН-Центр (P.E.N. – Poetry, Essays, Novels) провозгласила, что язык, на котором говорят в Черногории, является черногорским [ Декларация P.E.N. центра ]. В 1990-е гг. активизировались национально-культурные организации, например, Черногорская Матица, целью которой была защита культурной и исторической идентичности Черногории. Они выражали взгляды, оппозиционные как по отношению к терявшей свою актуальность парадигме «сербско-хорватского языка», так и к активно продвигавшейся и выражавшей великосербскую национальную идеологию Сербской академии наук. По всей вероятности, именно усилиями Матицы вопрос о языке приобрел в Черногории особую остроту, а сам черногорский язык стал официальным и в независимой Черногории был закреплен как нормативный в конституции страны [Ustav Crne Gore]. События 1999 г., связанные с военной операцией НАТО против Югославии, ускорили отделение черногорского языка от сербского. Таким образом, конструирование отношений «Свой» – «Чужой» в лингвистическом компоненте структуры идентичности было обусловлено политической конъюнктурой.
Еще один структурный элемент черногорской этнорегиональной идентичности – религия . Но в случае Черногории речь идет не столько о религии, сколько об институте церкви. Большинство населения Черногории, как черногорцы, так и сербы, исповедуют православие, но вопрос о церковной организации представляет собой еще одну дилемму, основанную на противопоставлении общесербскому. Стоит отметить, что до середины XIX в. именно церковные владыки – митрополиты – обладали полнотой власти в Черногории. Однако если авторы начала XIX в. отмечали, что «черногорцы прилежны к Богу, вера их проста и искренна, они не пропускают праздника, чтоб не быть в церкви, не предпринимают никакого дела, не перекрестившись, и хотя не многие знают читать "Отче наш", но слепо исполняют долг христианина» [ Броневский , 1818, с. 58–59], то в конце XIX в. Павел Ровинский писал: «Как ни любит черногорец свою церковь, а посещать ее он не любит…, у черногорца религиозность, как бы ни была глубока, или вовсе не выражалась во внешней форме и обрядности, или же выражалась слишком просто и даже грубо» [ Ровинскiй, 1897, с. 407]. В 1903 г. под влиянием опыта России черногорская церковь получила синодальное управление и автокефальный статус, но с образованием Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев утратила самостоятельность, войдя в Сербскую православную церковь.
В 1990-е гг. дебаты о независимом статусе Черногории охватили и вопрос о черногорской церкви. В 1993 г. оформилась не зависимая от Сербской православной церкви неканоническая Черногорская церковь, которая стала одним из атрибутов черногорского суверенитета. Как пишет один из «официальных» историков Черногория, Ж. Андрияшевич, церковный вопрос в регионе обострился в 90-е гг. XX в. под воздействием политических факторов, а черногорская церковь «еще до появления первых школ и СМИ <…> была не только важнейшим вместилищем духа, но и эффективной службой идеологического инжиниринга» [ Andrijašević, 2008, p. 209]. Церковь играла роль института, обладающего «мягкой силой», способной внести свой вклад в становление черногорского суверенитета.
На таком фоне проявились и утвердились этнические аспекты идентификации. Противопоставление одного этноса другому или общей идее югославянства явилось одной из основных черт балканского кризиса 1990-х гг., поскольку «этническая идентичность наиболее часто ассоциируется с вопросом границ» [ Nagel, 1994, p. 152‒176].
Наиболее распространенным и «сильным» в мотивационном плане структурным элементом этнорегиональной идентичности выступают отношения, связанные с историческим дискурсом. Подчеркнем, что именно история оказывается наиболее «действенным» и «весомым» элементом с точки зрения конструирования идентичности, поскольку позволяет создавать коллективную идентичность как в положительном (кто мы есть), так и в негативном (кем мы не являемся) понимании; проецировать самосознание в сторону «героев» и «врагов», порождать необходимость для индиви- да идентифицировать себя с неким масштабным проектом, большим, чем только его личность [Wilmer, p. 6].
Активное использование исторического дискурса для конструирования черногорской этно-региональной идентичности началось в 1990-е гг., когда были написаны новые работы по истории Черногории, в которых авторы давали обоснование необходимости обретения суверенитета и к которым стали обращаться с целью укрепления общей государственной идеи, черногорской идентичности, а косвенно – и в целях поддержки курса на сближение с Западом. Одним из противоречивых рупоров черногорской независимости стала организация черногорских интеллектуалов «Дуклян-ская академия наук и искусств» (DANU), созданная в 1997 г. в противовес Черногорской академии наук и искусств, которую члены первой организации считали слишком просербской.
Основополагающей идеей новой версии истории Черногории являлось прослеживание уникальности черногорского пути начиная с древнейших времен. При этом, как уже отмечалось, делался упор на военные успехи Черногории и в целом на стремление Черногории отстаивать свою независимость в борьбе против иноземных захватчиков, в частности, против Османской империи. Центральное место в концепции истории занимало отрицание общей с Сербией судьбы и представление этапов совместного существования как негативной страницы черногорской истории. Черногорские историки, формируя этнонациональный нарратив, выстроили концепцию черногорской «уникальности» от самых истоков черногорской истории. С их точки зрения, еще с древних времен предки черногорцев – дукляне – выделились в особую этническую группу подобно сербам и хорватам. По утверждению Ж. Андрияшевича, «бесспорным является тот факт, что им [дуклянам] удалось, в отличие от всех (курсив наш. – Д.Д., Н. Д. ) других [соседних] племен, выстроить свою историческую структуру, выраженную в создании государства, в установлении династии и в осознании своей политической специфики» [ Андрияшевич, Растодер , 2010, с.10]. Подчеркивалось особое положение, которое занимала Черногория, находясь под властью турок (судебная автономия, особые условия выплаты налогов, привилегия не участвовать в военных походах за границами Черногории).
Касаясь истории ХХ в., современные черногорские авторы настойчиво утверждают о насильственном присоединении Черногории к Сербии в 1918 г. Так, Ш. Растодер выделяет тот факт, что черногорское правительство и король Никола находились в эмиграции, а все решения по объединению Сербии и Черногории принимались Временным Центральным исполнительным советом, сформированным с подачи и при поддержке сербского правительства. С созданием же Королевства СХС пришел «конец многовековому черногорскому государству» [ Андрияшевич, Растодер , 2010, c. 163].
Конструирование этнорегиональной идентичности при помощи исторического дискурса происходило и в системе образования. В этой сфере в Черногории со второй половины 90-х гг. ХХ в. насаждались изменения, которые четко вписываются в политические усилия по конструированию идентичности. Этому способствовали нововведения в преподавании истории и издание новых учебников по этому предмету, в которых исторические факты излагались с позиций исторического права Черногории на независимость . В качестве конституирующего «Чужого» в историческом образовании выступали Сербия и те этапы истории Черногории, которые были связаны с ней. Такая образовательная политика вызвала среди населения страны полярные реакции, что еще более углубило раскол черногорского общества по признаку идентичности и не могло не сказаться на его отношении к независимой государственности.
В свою очередь, сербские историки, в частности С. Терзич, отнесли идеологические корни новой черногорской историографии к «наци-фашистским проектам по разрушению Югославии и сербского этнического единства – по насаждению в Черногории принципиально новой культурной и духовной идентичности посредством идеологической пропаганды, образовательных программ, культурных институтов, искусства, научной работы и множества подобных действий» [Терзић]. И многие умеренно настроенные черногорские интеллектуалы не признают националистических взглядов своих коллег и демонстрируют негативное отношение к их способу толкования истории. Так, в 2007 г. вышла в свет книга А. Стамановича «Антисербство в черногорских учебниках истории» [Стамановиħ, 2007]. Автор счел, что целью современной черногорской истории является идеологическая обработка новых поколений граждан страны. Использование истории, подобно тому, как это делается в современной Черногории, нужно лишь правящей элите, для того чтобы со- хранить раскол в обществе и таким образом обеспечивать достаточную поддержку своего политического курса.
Конструирование этнорегиональной идентичности с помощью исторического дискурса помимо раскола общества и углубления черногорско-сербских противоречий имело и другие негативные последствия. По мнению многих критиков, новые черногорские учебники «оттесняют на второй план фигуры мировой значимости с целью сфокусировать внимание на Черногории» и тем самым формируют провинциализм и ограниченность [ Gregory, 2008].
***
Безусловно, конструирование этнорегиональности как особой формы социальности во многом было связано с деятельностью политических элит Черногории. Оно обосновывалось стремлением руководства страны включить население этого небольшого балканского региона в «европейскую семью». В этой работе все средства оказывались хороши: от незначительного подчеркивания этнических различий между сербами и черногорцами до конструирования «образа врага» (опять же в отдельной риторике относительно сербов).
В заключение хотелось бы отметить, что рассмотренные аспекты конструирования этнореги-ональной черногорской идентичности не исчерпывают весь спектр этнических отношений в этом регионе (см. подробнее [ Докучаева, 2012 ]), поскольку деление на черногорцев и сербов – только одна черта сложного этнического состава страны. Около 30% населения Черногории принадлежит к этническим меньшинствам (албанцам, мусульманам, бошнякам и пр.). Их роль в конструировании этнорегиональной идентичности современной Черногории не так очевидна, как в сербочерногорской дихотомии, однако место Черногории в современном политическом поле достаточно велико. Если до проведения референдума 2006 г. национальные меньшинства, прежде всего мусульмане и албанцы, в основном выступали в поддержку независимости, то в суверенной Черногории подчеркивание этнической (а теперь и национальной) идентичности черногорцев уже идет вразрез с продвигаемой европейскими структурами гражданской идентичностью.
Список литературы Политика конструирования этнорегиональной идентичности в контексте суверенизации Черногории в конце 1990-х - начале 2000-х годов
- Андрияшевич Ж.М., Растодер Ш. История Черногории с древнейших времен до 2006 г. М., 2010. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М. 1995
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М. 1995
- Бонапарт и черногорцы//Пушкин А.С. Песни западных славян. URL: http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/poetry/pu0712.htm (дата обращения: 02.12.14)
- Броневский В.Б. Описание Черногории//Сын отечества. 1818. Ч. 46, № 28
- Декларация P.E.N. центра. URL: http://montenet.com/language/pen-decl.htm (дата обращения: 11.01.2012)
- Дмитревская И.В. Мировоззрение как система//Сознание и теория мировоззрения: История и современность. Иваново. 1992
- Докучаев Д.С. Региональная идентичность: понятие, структура, функции//Философия и культура. 2012. №12
- Докучаева Н.А. Этнические измерения общества и национальная политика Черногории в начале XXI в.//Изв. высших учебных заведений. Сер.: Гуманитарные науки. 2012. Т. 3, № 3
- Жители области Монтенегро или черногорцы//Вестник Европы. 1805. Ч. 20, № 7. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Serbien/XIX/1800-1820/Murgard/text.phtml?id=8959/(дата обращения: 02.12.14)
- Малахов В.С. «Неудобства с идентичностью». URL:http://www.intellectuals.ru/malakhov/izbran/8ident.htm (дата обращения: 02.12.14)
- Миллер А. Россия: власть и история. 2009. URL:http://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_ 3.2009_all_screen.pdf (дата обращения: 05.12.14)
- Пономарева Е.Г. Новые государства на Балканах. М., 2010
- Ровинскй П. Черногорiя въ ея прошломъ и настоящемъ. СПб., 1897. Т. 2, ч. 1
- Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978
- Черногория и ее жители//Журнал для чтения воспитанниками военно-учебных заведений. 1849. Т. 81, № 323. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Serbien/XIX/1840-1860/Cernog_i_ee_ziteli/text1.phtml?id=9069 (дата обращения: 22.12.14)
- Широкогоров С.М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Шанхай. 1923. URL: http://www.kunstkamera.ru:8081/siberia/Texts/ShirokogorovEthnos/Chapter01.pdf (дата обращения: 04.11.14)
- Ямалнеев И.М. Этнорегиональная идентичность как политический проект (на примере Республики Татарстан): автореф. дис.... канд. полит. наук. Казань. 2005
- Пописи у Црной Гори од 1909. до 2003. URL: http://njegos.org/census/princip.jpg (дата обращения: 02.12.13)
- Стамановип А. Антисрпство у упбеници ма исторще у Црюу Гори. Подгорица, 2007
- Терзип С. Идеолошки корени црногорске нацще и црногорского сепаратизма. URL: http://njegos.org/past/idroots.htm (дата обращения: 27.04.2011)
- Andrijasevic Z.M. Crnogorska crkva 1852-1918. Niksic, 2008
- Crna Gora u brojkama. Podgorica, 2010
- Greenberg R. Language and identity in the Balkans. Oxford University Press, 2004
- Gregory A. Montenegro: getting its story straight//Transitions online. 2008. 3 March. URL: http://www.ceeol.com (дата обращения: 04.11.14)
- Merimee P. La Guzlaouchoix de poesies illyriques. Recueilliesdans de la Dalmatie, la Bosnie, la Croati-eetl'Herzegowine. Strasbourg, 1926. URL: http://archive.org/stream/laguzlaouchoixde00mruoft #page/160/mode/2up (дата обращения: 04.11.14)
- Nagel J. Constructing ethnicity: creating ethnic identity and culture//Social problems, 1994. Vol. 41, No.1, Febr
- Popis stanovnistva, domacinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine. Crna Gora. Zavod za statistiku, broj 83. Podgorica. 2011
- Vlahovic D. «Dan kada je rodena Crnogorska nacija 1. maj 1945. Mestorodenja Borbaorgan KPJ».URL: http://www.srpskapolitika.com/Tekstovi/Komentari/2006/034.html (дата обращения: 23.04.2012)
- Ustav Crne Gore. Podgorica, 22.oktobra 2007. godine. Clan 13
- Wilmer F. Identity, culture, and historicity. The social construction of ethnicity in the Balkans.URL: http://www.jstor.org/stable/20672505 (дата обращения: 13.04.2012)
- Рябов О.В. Национальная идентичность: гендерный аспект (на материале русской историософии): автореф. дис.... докт. филос. наук. Иваново. 2000