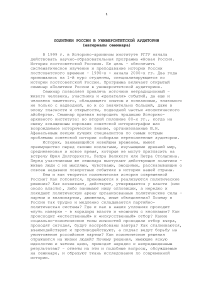Политики России в университетской аудитории (материалы семинара)
Автор: Елисеева Наталья Викторовна, Шейнис Виктор Леонидович, Писаревская Яна Львовна
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: В помощь изучающему отечественную историю
Статья в выпуске: 8, 2002 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14913221
IDR: 14913221
Текст статьи Политики России в университетской аудитории (материалы семинара)
(Доктор исторических наук, академик РАЕН, ректор Российского государственного гуманитарного университета; в 1989 - 1991 гг. - народный депутат СССР, сопредседатель
Межрегиональной депутатской группы)
23 октября, 20 декабря 2000 г.
…Я перед вами как некий объект изучения, и эта роль накладывает некоторый отпечаток специфики на того, кто в этой роли выступает. Прежде всего, я не должен предстать перед вами в одностороннем виде, то есть категорически показаться вам хорошим, а должен продемонстрировать, что я умею к себе относиться критически. Иначе, если даже мне удастся предстать перед вами в самом лучшем свете, если я эту задачу выполню, то я другую задачу угроблю, то есть - как предмет изучения я окажусь не очень хорошим. Я должен был бы показать, что не оставался и не остаюсь всегда равным самому себе. Потому что такого, как мне кажется, с нормальным человеком быть не может, тем более с человеком, который имеет какое-то отношение к политике. Человек вообще и человек в политике - он изменяется.
Уж кто в какую сторону и кто в какой мере - об этом судить тем, кто наблюдает за этим человеком. Но то, что такие люди, как правило, неизменными не бывают - это, с моей точки зрения, совершенный факт. Уметь усмотреть в себе то, в какую сторону ты эволюционируешь, - это задача, смею вас заверить, не из самых простых. Кроме того, человек в такой роли должен показать самого себя через отношение к другому. Он должен продемонстрировать, как он относился к поступкам, действиям, публикациям тех, кто его окружал. И вообще как этот человек способен формировать свое отношение к другому...
Не только вам, но и тем, кто пойдет за вами, будет интересно проследить эволюцию взглядов, не только политических, но эволюцию взглядов на какой-то исторический предмет, на какую-то тему, и, самое главное, - понять: если эти взгляды менялись, то почему, под воздействием каких сил и факторов они менялись. То ли они объясняются какими-то конъюнктурными соображениями…
Вот, например, я иду на выборы. Я учел горький опыт предшествующих выборов и начинаю говорить не то, что говорил тогда, а то, что должен говорить сегодня с целью совпасть в большей мере с настроениями и ожиданиями тех, кто будет за меня голосовать. Ради такого совпадения, как видят все и как видит Бог, некоторые очень сильно меняются. Причем особенно большое искушение - совпасть с большинством. А большинство в России (и не только в России) - не некая константа, а категория изменяющаяся. Причем очень сильно изменяющаяся. Я сейчас работаю над книгой, которая будет называться «Опасная Россия». И в этой книге я говорю, что Путин в современной своей политике очень старается опираться именно на большинство в России. И, казалось бы, на что еще должен опираться президент? Он и должен опираться на большинство. В этом, собственно говоря, как некоторым представляется, и есть искусство политика – выражать настроения и устремления большинства. Я пытаюсь доказать, что это, по меньшей мере, спорный вопрос…
Спорность этого стремления (опираться на большинство) можно продемонстрировать, опираясь в рассуждениях своих по аналогии. Самая страшная аналогия – Гитлер, когда он шел к власти. Он тоже опирался на большинство. Он, и будучи у власти, продолжал учитывать мнение большинства немецкого общества. Допустимо ли политику, учитывая то, как большинство настроено, к чему оно стремится, учитывая сугубо прагматически то, что ожидают от тебя, допустимо ли политику идти вразрез с устремлениями большинства? Вот этот вопрос – вам на размышление. И что это за политик такой, который продемонстрировал несколько раз вот это осознанное стремление противоречить этому самому большинству. Я действовал таким образом очень часто.
Причем большинство я понимаю и в более узком смысле. Например, большинство на съезде народных депутатов, или большинство в институте Всеобщей истории, или большинство в редакции журнала «Коммунист». Это тоже большинство. И в какой мере допустимо выступать не только против большинства в узком смысле слова, а против большинства, если говорить о России. Не об этом сейчас лекция у нас. Это я ставлю как проблему, как вопрос.
Я пытался поступать таким образом независимо от того, шло ли это на пользу мне. Но есть еще вопрос: а идет ли это на пользу политике, в которой ты принимаешь участие? Или:
соответствует ли это политическому настроению данного времени?
Я придерживаюсь той точки зрения, что даже в том случае, если политик поступает вопреки мнению и намерениям большинства, но четко, аргументированно, взвешенно обосновывает свою позицию и доказывает, почему он выступает против этого большинства, – в таком случае надо, с моей точки зрения, идти вразрез, противопоставлять себя мнению этого большинства, даже ценой потери той должности, которую ты занимаешь в политике. Даже если речь идет о должности президента России. Потому что подпевать, подстраиваться во всем без исключения сегодня, например, под мнение большинства - значит, поступать аморально. Потому что мнение большинства вполне может быть безнравственно, вполне может быть аморально…
Следующий вопрос или тема – надо ли быть так откровенным политику в тех случаях, когда ты знаешь заведомо, что эта откровенность тебе обойдется дорого. В лучшем случае тебя не поймут. В худшем – ты вылетишь с этой должности. А если ты не будешь откровенным - тебя же за язык никто не тянет, - с какой же стати ты эдакое вербальное недержание тут демонстрируешь?
Помолчи, в конце концов, подержи язык за зубами, тебя же не заставляют говорить то, что ты думаешь в данный момент. Ты взвешивай существующие принятые нормы и говори только то, что на пользу другим и на пользу тебе. А все остальное, что ты думаешь, что не выгодно ни тебе, ни другим, ни делу, - оставь при себе. Это как бы тоже некоторая норма политика, которой надо вроде придерживаться. Признаюсь, что я действовал вопреки этой норме™
Секретариата, была просто ЦК КПСС, а потом шли разные уровни номенклатуры республиканской, областной и так далее. Самым высоким был уровень номенклатуры Политбюро ЦК КПСС. Это была номенклатура людей, которые были допущены к «кормушке». А
«кормушка» - это не только спецмагазин-распределитель на Грановского, это не только Первая поликлиника, это еще сеть санаториев, домов отдыха и так далее. Целый список можно здесь привести. Вот куда судьба меня забросила, на какой высокий уровень. До этого я работал в Институте всеобщей истории.
За все время работы в «Коммунисте» я написал единственную статью, которая называлась «Прошлое и мы». И я подготовил к печати 25 статей, из них было 5 моих и 20 статей других авторов. Так вот, подготовленные к печати статьи ни разу не выносились даже на редколлегию, потому что как только была опубликована (а опубликована она была каким-то чудом, видно, не разобрались, хотя редколлегия была квалифицированная и опытная) статья «Прошлое и мы», на нее сразу последовал протест. Да какой! Из Президиума Академии наук в лице академика-секретаря Тихвинского в Политбюро ЦК КПСС была написана длинная записка в 20 страниц с обоснованием, что этого человека надо немедленно с работы снять и отстранить от всех видов деятельности.
Вы наверняка с современных позиций скажете: а что тут особенного? Во-первых, поклоны в начале статьи и в конце по поводу марксистско-ленинских ценностей, то есть поклоны в адрес учения, которое в то время было почти религией, эти поклоны там есть. То есть никакой демонстрации неверности, даже сомнения по поводу вот этой господствующей идеологии - даже намека там на это нет. Наоборот, аргументы приводились такие: во имя правильного прочтения, во имя того, чтобы ленинские глубины мысли присутствовали, - вот во имя этого надо… И дальше я говорю о том, чего надо. Я думаю, многие из вас скажут: эка невидаль, что ж тут особенного, за что такое ратует этот человек, в результате чего вот такая реакция?
На самом деле, если вдуматься, статья была крамольная, и крамольность заключалась в том, что в ней прочитывалась неудовлетворенность состоянием исторической науки, а если в более широком плане говорить - и обществоведения в целом. А с другой стороны, просматривался некоторый отход от ортодоксальности в том смысле, что назывались вещи совершенно простые: что, к примеру, смысл исторических построений должен соответствовать логике, фактам, убеждениям и внутренней свободе самого историка. Ан нет. Ведь это же крамола: как это можно допустить, чтобы интерпретации подчинялись логике и фактам, а не марксизму-ленинизму, не заданной схеме. Вот откуда эта реакция. Это тоже говорит о большинстве и небольшинстве.
Таким образом, статьи мои не идут на редколлегию, статьи моих авторов, которые я готовлю, тоже не идут на редколлегию.
Я как раз застал то время, когда Косолапов уходил, а на его место пришел Фролов - философ, доктор, академик, он считал себя свободолюбцем даже. Он считал, что мы там в «Коммунисте» погрязли в махровости и ортодоксальности, а он - свежая мысль.
Он пришел с таким настроением и предложил некоторые вещи, против каждой из которых я выступаю в свою очередь. Кроме того, это был человек такой своеобразный (таких много тогда было): он очень любил рассказывать про себя, про свою семью, и про свою сестру и тещу в частности. Это на редколлегии. И как только он в очередной раз начинал рассказывать, какая у него сестра, в это время я демонстративно садился вот так (Ю.Н.
Афанасьев отворачивается. - Сост .), и просиживал иногда до 40
минут, пока он рассказывал, и я голову к нему ни разу не поворачивал. Когда до дела доходило, я поворачивал к нему голову и в свою очередь о чем-то выступал. Вот до таких мелочей.
Мне ясно было, что меня выгонят из этого журнала. Я сам к нему пришел и сказал, что вы меня выгоните отсюда, но только чтобы упростить вам задачу, я обращаюсь к вам с просьбой: не говорите все то плохое, что вы обо мне думаете, когда спросят что-нибудь про меня. Потому что если вы скажете, какой я, с вашей точки зрения, негодяй, то меня же никто не возьмет. А я сам не уйду. У вас будут проблемы. Ну, мы, вроде, таким образом договорились.
А в редколлегии я выступил с таким предложением: я своих взглядов не скрываю, ну, не поняли меня в этой статье «Прошлое и мы», давайте сделаем так (а у нас тогда еще политучеба была, вы об этом, слава Богу, не знаете): на учебе давайте я вам расскажу, что такое западное обществоведение и что я об этом думаю. Не история только, но и социология, политология, культурология и так далее. Но только, говорю, имейте в виду:
за один присест я этого сделать не смогу, поэтому мне надо как минимум три занятия. И они согласились. И вся редколлегия, все сотрудники журнала «Коммунист», а это человек 80, приходили меня слушать. Я доказывал, в сущности, одну и ту же идею: что западное обществоведение - это наука, имеющая свои результаты и наработки, свою эволюцию, без знания и применения которых в принципе общественная мысль и ее развитие невозможны. Где бы эта общественная жизнь ни протекала, даже в Советском Союзе… В две недели раз я рассказывал им, что такое западное обществоведение: авторы, книги, замыслы, реализация и так далее. Слушали. Вопросов было очень немного. Но я каждый раз думал, что вот на следующем занятии мне устроят такую «баню», что мне будет уже не до откровений. Что вы думаете - никакой «бани» не было, и ничего такого не последовало. В конце концов я из этой редакции ушел, то есть по заявлению, и, слава тебе, Господи, что я оттуда ушел, потому что ушел сюда, ректором Историко-архивного института.
...И еще один вопрос. Когда мы говорим о политиках моего поколения, его надо сформулировать с особой ясностью и четкостью. Собственно, в чем была персональная драма политиков или обществоведов моего поколения, в чем коллизия, собственно говоря, была, от чего и к чему мы шли? И что мы преодолевали в себе и вокруг себя? Как я это понимаю, мы преодолевали в себе советскость, советскость во всем. И тут я должен перед вами признаться, что я сам замечен был в этой советскости очень основательно. И мне ее из себя вытравлять, преодолевать было невероятно сложно. Я даже скажу, что я совсем не уверен, что я сегодня стою перед вами в этом смысле обновленный, преображенный и такой чистенький и уже совершенно несоветский. Ничего подобного. Я себя ловлю то на слове, то на мысли, то в поступках каких-то конкретных на этой самой советскости.
В свое время на меня произвел впечатление разорвавшейся бомбы доклад Хрущева на ХХ съезде… Это же было то время, когда я учился на последнем курсе МГУ на Историческом факультете. И, слава Богу, что я учился на последнем курсе, потому что этот эффект разорвавшейся бомбы для студенческой аудитории МГУ образца 56-го года имел последствия. Потому что ребята молодые, пытливые, любознательные. Как только они узнали содержание доклада, у них сразу появились вопросы. Культ личности Сталина - что это такое? Это только то плохое, что было в личности Сталина и что воплотилось в жестокость и бесчеловечность и так далее, или культ личности - это проявление некоего состояния общественного устройства?
Были люди (группа Краснопевцева, например), с которыми я учился вместе, которые додумались до того, что такое советскость, что такое советский склад ума, мысли и убеждений, раньше меня. Такие люди были. Но я не верю, что много было людей в Советском Союзе, которые стороной пропустили и не вобрали в себя эту советскость. Она вошла и входила к нам не только со всем образом жизни… Я ведь был отличником, сталинским стипендиатом, учил «Краткий курс», изучил все эти учебники. Мало того, что я их изучил, - я их повторял. И мало того, что я их повторял, - но я повторял их и воспроизводил их убежденно. Все это было. Советскость входила через мозги, через эмоции (потому что мы пели советские песни, смотрели фильмы) и, если вам кто-то скажет: «Да я был, да, я грешен, но я не был убежден», - вот здесь тоже вопрос о том, как изменилась эта убежденность. Я вам признаюсь, что был убежден, и самое страшное для меня заключалось в том, чтобы преодолевать в себе знания и убеждения уже во взрослом состоянии. Впервые, когда это у меня получилось… Я это говорю, не боясь выглядеть перед вами с худшей стороны.
Довольно поздно, когда мне было уже за тридцать, у меня оказалась возможность ехать на стажировку во Францию, в Париж, в Сорбонну. Я изучал французскую историографию, писал кандидатскую и докторскую. И вот там, в Париже, уже после того, как я написал кандидатскую диссертацию, у меня появился вопрос™ То есть я сначала обнаружил, что никто из наиболее известных французских, и не только французских, а вообще зарубежных, историков не занимается историей Октябрьской революции. То есть для них эта тема даже не то чтобы не актуальная, а эта тема напрочь отсутствует в поле внимания наиболее крупных и авторитетных историков. Я задумался: почему? Вроде такое событие, которому я чуть ли не собрался посвятить всю жизнь, и вдруг… Или мельком указано о том, что такая революция была, или какие-то сравнения делают, но никто не взял историю Октябрьской революции в качестве предмета своих профессиональных изысканий. Вот такой, как кому-то покажется, пустяковый вопрос. Но я решил посмотреть: а чем же они, собственно говоря, занимаются? И начал читать. Начал читать Блока, Февра, Броделя - всех подряд без какой-либо определенной цели. С этим чтением и приходило ко мне понимание того, что вся наша история написана не с профессиональных позиций, а как некая апологетика того, что происходит в Советском Союзе.
И вот тут началась, конечно, драма. Она заключалась в том, что если бы я все то, что я вам сказал, так бы и написал, мне бы пришлось, наверное, нелегко. До того, что вся наша история - это не история, я додумался где-то в 80-м году.
Тогда, когда я защитил докторскую диссертацию. Но в докторской диссертации этого я не написал. Я этого не написал. И вы, по своей молодости, темпераменту и еще «незацикленности» умов, могли бы мне предъявить претензию: ты не искренен, ты сам себе противоречишь; с одной стороны, по тому, что ты говорил в начале, ты должен был быть откровенным во всем, а тут, в данном случае, был не откровенным… Да, это действительно так.
Но я точно знал, что если я не защищаю докторскую диссертацию, значит, я схожу с этой дистанции в принципе, вообще. И поэтому я писал о другом. Я писал о взглядах Блока, Февра, Броделя и так далее, оставляя то, что я знал и думал, несколько на потом. Это «несколько на потом» наступило вскоре.
С 83-го года я начал говорить и писать, а в 85-м году уже опубликовал довольно широко все, что я думаю об истории вообще. Вот этот временной зазор между актом прозрения и актом опубликования результатов этого прозрения в моей биографии все-таки имел место™
Хотелось бы затронуть такие темы, как, например, Первый съезд народных депутатов. Там проблема меры советскости проявилась очень сильно. Когда мы организовывали
Межрегиональную депутатскую группу, там были такие люди, как
Сахаров, Ельцин, Попов, Пальм и я. И, надо сказать, что все сопредседатели были очень разными людьми… И нас всех тогда идейно, в плане гражданского и политического мужества, «тащил» за собой Сахаров. Сахаров первым произнес тогда слова о том, что Межрегиональная депутатская группа должна быть открытой политической оппозицией Политбюро ЦК КПСС. Ни у кого язык не поворачивался вслух сказать эти слова. Больше того, когда многие услышали из уст Сахарова о такой межрегиональной группе и ее открытой политической оппозиции, все очень засомневались.
И, собственно говоря, с этого времени и началась драма этой
Межрегиональной депутатской группы. Потому что верных этому убеждению было очень немного.
В группу записались 400 человек, а активно участвовали в ее работе всего 100 человек. К концу Первого съезда народных депутатов в этой группе осталось всего порядка 30 человек. Что раскололо группу, что как бы предопределило ее финал? Точки зрения, которой придерживался Сахаров, придерживался и я, также придерживался ее последовательно Пальм. Еще было несколько человек. А многие другие, то есть почти все, решили уже тогда, что Межрегиональная группа для них - это трамплин в большую политику. Иначе говоря, трамплин во власть. Все, собственно говоря, и продемонстрировали способность перетекания из этой Межрегиональной группы во власть. И что с ними стало потом^ То время, о котором я рассказываю, - это время, когда замешивалось то тесто, из которого мы начинаем сейчас… кто пирожки, кто блины выпекать. …И чтобы разобраться в том, как этот замес происходил, мне кажется, можно будет об этом поговорить.
…Я сделаю небольшую оговорку относительно того, что вы то, что я говорю, не воспринимайте как последнюю истину. Наоборот, старайтесь усомниться: истинно, правильно ли то, что я сказал. Например, я пытаюсь подвергнуть сомнению идею о том, что Россия в ХХ веке в интеллектуальном смысле и в смысле совершенствования общественной структуры развивается по восходящей. Мой тезис: ее динамика в этом смысле скорее со знаком минус, чем со знаком плюс.
Что касается Межрегиональной группы, здесь я имею в виду тот интеллектуальный фундамент, с которым мы пытаемся оценить происходящее в России на конец 89-го года и начало 90-х годов.
То есть, если вы припомните, это было то время, когда решались базовые проблемы. Быть ли Советскому Союзу? Что есть социализм, в котором мы пребывали в то время, как общественное устройство, как набор ценностей, некая совокупность жизненных помыслов и устремлений людей? Тогда уже задумывались, что есть
Россия как страна, общество? В то же время, мы думали о степени разгосударствления общества, экономики. Эти вопросы такие, что и сегодня не на каждый из них найден ответ. А тогда, собственно, они встали.
А с каким багажом, на основе какого интеллектуального уровня совокупная мысль Межрегиональной группы пыталась подойти к формулировке этих проблем и способам их решения? Вот такой вопрос. Тут, конечно, я беру себя. Я там был все-таки не последний человек, я был сопредседателем, сделал почти все основные доклады на общих собраниях Межрегиональной группы. Я должен, вам про себя говоря, иметь в виду уровень своего образования и в какой-то мере развития. Сами понимаете, получается что-то вроде высшего пилотажа и, наоборот, что-то вроде интеллектуального психологического стриптиза, который я должен вам продемонстрировать одной постановкой такого вопроса. В то же время я считаю, что иногда кто-то должен задаваться подобными вопросами. И тут возникает такая проблема.
Я в 52-м году поступаю в Московский университет на Исторический факультет. Я заканчиваю этот университет. За все пять лет учебы у меня была одна «четверка» (остальные были «пятерки»), то есть я совершенно четко освоил программу истфака МГУ на сто процентов. Не было никаких ни провалов, ни частных случаев, чтобы я что-то такое не знал. И тем не менее что же я знал, закончив этот истфак МГУ? Вернее, чего я не знал? Так вот я (может быть, стыдно в этом признаваться, но могу сказать), я, к примеру, совсем не знал истории русской мысли — как эта история формировалась и как она сформировалась. То есть я, конечно, знал какие-то эпизоды из этой истории или какие-то ее разделы, то есть в объеме программы истфака МГУ, так как мы учили историю русской революционно-демократической мысли. Это я, конечно, знал. Читали мы Герцена, Чернышевского, народников, и, конечно, Ленина. Но чего мы, собственно говоря, не проходили, и чего мы не читали, и чего я не знал, уже будучи довольно взрослым человеком, а потом уже кандидатом и доктором? Я не знал русских религиозных философов, например. И всех этих дискуссий, которые шли вокруг русской дореволюционной мысли. А это такие имена, как Чаадаев, Хомяков, Трубецкой, Соловьев, Данилевский. Те имена, которые я вам назвал, на сегодняшний день — высшие точки развития русской общественной и философской мысли. Но нам их не только не дано было знать. В сущности, нам запрещено их было знать. Поэтому, естественно, они остались вне поля моего зрения.
Но и более того, даже русскую литературу классическую мы знали очень выборочно. В то время, когда я учился, Достоевского не то чтобы не рекомендовали - он был по существу под запретом. То есть его, конечно, можно было найти и прочитать. Но этот термин - «достоевщина» - он был в сознании многих людей, укоренился там очень и очень глубоко, очень и очень основательно… Также за пределами наших знаний осталась религиозная мысль. Я не имею в виду теологию, но те случаи, когда представители русской религиозной мысли размышляли и писали о культуре, истории России, истории православия, соотношении православия и католичества. Весь этот огромный пласт остался для нас неизвестным.
Не знал я по окончании университета и литературу, которую можно было назвать эмигрантской русской литературой. В частности, тот всплеск, который был в 20-х годах -евразийство. Это в основном интеллигентская общественная и философская реакция на сам факт победы Октябрьской революции и на сам феномен большевизма, попытка осмыслить его и ответить на вопрос: откуда это, почему и как все это произошло. Но не только евразийство, а все, что ушло с русской эмиграцией. Я имею в виду Бердяева, который стал занимать во франкоговорящих странах заметное место в социологии, в философии. Но были еще такие люди, как, например, Жорж Гурвич. Не знаю, знакома ли вам эта фамилия, но Жорж Гурвич возглавил социологию начала ХХ века во франкоговорящих странах. И такую же роль в англоязычных странах играл Питирим Сорокин. Это тоже то, что называется, наше. Когда я учился в университете, эти имена вообще не были на слуху. В отличие от Владимира Соловьева, или
Михайловского, или Чаадаева, имена которых все же иногда проскальзывали то в каких-то книгах, то в лекциях, то в разоблачениях.
Строго говоря, ушел тот слой литературы, который отплыл из России на «философском пароходе» еще при жизни Ленина. Нам было недоступно богатство литературы, которое связано с именами Ахматовой или Цветаевой. То есть сами эти имена были известны, но большая часть их творчества была для нас, для меня в данном случае, недоступна. Опять же, когда я говорю
«для меня» - это не значит, что для всех это было недоступно.
Потому что были люди, которые соответственно воспитывались. Я жил в общежитии в студенческие годы, а были такие мальчики и девочки, которые жили в семьях и имели родителей, у которых были библиотеки. А к ним еще приходили знакомые родителей, которые знали какие-то имена и названия книг, и были какие-то тексты. Я, к примеру, много общался и общаюсь до сих пор с
Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, и он мне рассказывал часто, как к нему попадали те или иные тексты, кто ему и что рекомендовал. Среди студентов моего поколения были люди разные, а потом-то уж тем более. И поэтому, может быть, для таких людей ХХ съезд не был громом среди ясного неба. Но думаю, что большинство было все-таки таких, как я, и для нас это именно так прозвучало - громом среди ясного неба.
…Так вот, не зная по существу истории русской общественной мысли, русской религиозно-философской мысли, будучи оторванными от западной мысли, мы пытались осмыслить проблемы, которые встали перед Россией на излете социализма в России. Когда я сейчас задаюсь вопросом: а можно ли было нам в интеллектуальном смысле быть на уровне тех проблем, которые встали тогда перед российским обществом? - я отвечаю на этот вопрос: нет. Мы были не способны.
Причем имейте в виду еще вот что^ Я, например, к 80-му году не с университетским багажом остался. Я к тому времени еще два или три университета прошел, потому что уже побывал на стажировке во Франции, написал кандидатскую и докторскую диссертации по французской школе «Анналов». А эта школа была своеобразной в том смысле, что вокруг нее объединялись и экономисты, и психологи, и социологи. То есть я был вынужден, когда мне было уже за 30, пройти еще один или, может быть, два раза, университет, изучив западную средневековую историю, историю нового времени. Не в том объеме, конечно, в котором мне хотелось, но, осваивая историю этой французской исторической школы, я вынужден был изучать то, что было до нее, то есть историческую мысль XIX века, и изучать то, что ее сопровождало, какие у нее были «спутники». То есть не просто сама школа «Анналов», но в некоем интеллектуальном окружении.
Что значит себя вам показать? Это еще и показать, как я относился к другому, как воспринимал другого, кто был рядом со мной? Так вот рядом со мной был Сахаров Андрей Дмитриевич. Я в то время и потом пытался ответить на вопрос: а он что знал,
Сахаров, из истории общественной мысли, из наук об обществе вообще? Одна из самых нашумевших статей Сахарова – статья о конвергенции. О том, что мир социализма и капитализма должны сблизиться, переплестись, все ценности, которые там, должны быть внедрены у нас и наоборот. Конвергенция. Но к тому времени, когда Андрей Дмитриевич написал эту статью, на Западе-то уже была огромная литература, были теории не только созданные, разработанные, но к тому времени уже и раскритикованные… Андрей Дмитриевич пытался писать о том, что есть советская действительность, он на этот вопрос отвечал. Но на эти вопросы пытались ответить и отвечали по-своему и
Ясперс, и Поппер, и многие другие. Это - теория строения, структуры общества. И, насколько я убедился, Андрей Дмитриевич не знал ничего этого или, если он это знал, то знал хуже, чем я это знаю. Он знал это понаслышке. Никогда он не штудировал всю эту литературу…
Все время, когда был Сахаров, он вел негласный диалог с Солженицыным. Он с ним не соглашался по всем основным вопросам, что касается России, ее настоящего и будущего. Единственное, в чем они сходились, – это неприятие советской действительности, советского социализма. Тут они были единомышленниками, то есть единомышленниками они были на той стадии, на которой надо было что-то отрицать, на том уровне, на котором надо было с чем-то не соглашаться. Все же, что касается дальнейшего, – здесь их точки зрения расходились. Я не стану сейчас даже пытаться заглянуть в библиотеку
Александра Исаевича… Но если возьмете всю жизнь Солженицына - юношеские годы, войну, лагеря, его писательство, - если вы начнете с «Одного дня Ивана Денисовича», - мне кажется, не трудно представить себе ту атмосферу, в которой жил всю жизнь Александр Исаевич. Можно кое-что предположить, особенно, когда я его сейчас уже стал читать внимательнее…
Двоих я не назвал еще. Попов Гавриил Харитонович, который пытался ответить на вопросы, которые я перечислил, имея в виду проблемы экономические. Но Попов – это университетский человек, это преподаватель. Я думаю, что относительно истории экономических учений он был неплохо подготовлен.
И, наконец, Борис Николаевич Ельцин. Вы можете себе представить его диапазон и широту познаний в области истории русской общественной религиозной мысли, или западноевропейской теории общественного развития и так далее… Все это, конечно, довольно просто. Но вот так уж получилось...
Иногда я думаю, почему же нам так и не удалось разработать что-то вроде убедительной программы экономической реформы (а нам это не удалось). Вернее, мы представили на нескольких страничках проект о том, как вместо союзного государства сделать союз государств. Об этом мы много спорили и кое-что делали. Но я сейчас смотрю на все эти документы, свои же собственные речи перечитываю, и у меня такое сложилось представление: тот трагический путь, который проделал Ельцин в России, он был предопределен, запрограммирован многими факторами и обстоятельствами, в том числе и по причине падения общего интеллектуального уровня людей, которые оказались вершителями судеб Советского Союза и России в 80-е годы.
Подобно средневековью, которое было явным падением, просто каким-то провалом по сравнению с теми высотами, до которых дожила античность, в России в ХХ веке в сравнении с веком XIX произошел явный провал.
Я пытаюсь анализировать причины этого провала и пытаюсь какими-то эпизодами и примерами показать этот провал, в том числе и на себе самом, и на тех, кто был рядом со мной. У вас, наверное, возникнет вопрос: а как теперь? Ведь те вопросы, которые вставали перед нами в 80-е годы - о соотношении власти и общества, о способе приватизации, разгосударствления, о гражданских институтах и структурах советского общества, о духовных основах русского общества, - сегодня остались нерешенными. Сегодня-то у нас хватает интеллектуального уровня, если взять лучшие прорывы в этом смысле, для того, чтобы на эти вопросы-вызовы ответить достойным образом. В каком смысле достойным? Ну, хотя бы увидеть все эти проблемы в подлинном их объеме и значении: как они возникали, вызревали в истории России. А уже потом надо задавать вопрос: а что же делать?...
Еще один пример. Сейчас всплеск национальной и эмоциональной активности по поводу символов: гимна, герба, флага… И почему это вдруг? Почему это всколыхнуло всю Россию, такие вещи, от которых ни тепло, ни холодно, ни сытно, ни голодно? А, оказывается, это та сфера, которая касается духовных оснований российского общества. И в этом надрыве эмоциональном в принципе можно усмотреть то, что называется
«расщеплением русского духа». Это слова Франка, который является, на мой взгляд, величайшим философом и который написал несколько книг о духовных основаниях русского общества. Если мы не в курсе дела (я имею в виду журналистов, историков, философов), если мы не знаем, как формировалась наша русская история, одним из основных понятий которой стал раскол или это самое «расщепление духа», если мы этого не будем знать, нам всегда будут казаться странными эти страсти и эмоции по поводу национальных символов. То есть во всем этом проявляется традиционно устоявшаяся русская привычка русское общество воспринимать, как глину, из которой можно лепить все, что ты захочешь и по заранее разработанному плану. Так эту
Россию и лепили - от Ивана Грозного через Петра™ Даже лучшие, образованнейшие люди, как Александр II, они в основном так же воспринимали это общество.
По поводу возвращения советского гимна™ Ну, я как-то привык к этому гимну в свое время. Я его слушал каждый день, иногда по несколько раз. Но сейчас какого-то физического отвращения к нему я не испытываю, меня ни в дрожь, ни в холод не бросает. То есть я возвращение гимна Александрова воспринимаю сугубо рационально - не душой, не эмоциями.
Интеллектуально я отвергаю это решение. Ни одной дверочки там не остается для того, чтобы осмысливать это явление, событие позитивно. Это - символ сползания Путина и власти в целом в ту советскость, которую воспринимают не как историю, а как память. Есть разница между памятью и историей. Мне кажется, что господин Путин до сих пор живет памятью, а не историей о прошлом. И он воспринимает ее на обывательском уровне. Я извиняюсь, так, как воспринимают не утруждающие себя особыми размышлениями и не способные, может быть, размышлять по поводу того, в чем разница между памятью и историей, люди. Мне кажется, что на уровне человека у власти рассуждать по поводу того, что ведь исполняли же гимн раньше и ассоциируется же он не только со злом, но и с каким-то добром™ А было ли добро? - спросит кто-нибудь. Ну, а как же без этого? Действительно, были восходы и закаты, женитьба, рождение детей и так далее - это все из категории добра. Но такого добра переживалось очень и очень много. Такая вот не рассуждающая позиция, которую занимают очень многие. Они ощущают свою беспечность каждодневную, ощущают себя при этом совсем неплохо, но это и есть восприятие на уровне памяти, психологии, на уровне эмоционального, а не рационального восприятия того, что было в прошлом™
Один из волнующих меня вопросов: а сегодня, по сравнению с концом 80-х годов, изменилась ли существенно ситуация, способны ли мы адекватно мыслить и в соответствии с адекватным этим мышлением решать вопросы о соотношении доли государства и общества, характера их взаимоотношений и формирования этих взаимоотношений? Я отвечаю на этот вопрос отрицательно. И, если вы проанализируете всю программу Грефа, которую называли либеральной, прогрессивной и так далее, вы того, о чем я говорю, там тоже не усмотрите™
Я решил показать вам одну проблему, чтобы вы задумались и покопались в своих знаниях, что-то, может быть, пересмотрели™ Когда я закончил университет, думал: все, со всем этим делом, которое называется учебой, я покончил, я свободен. Позже, слава Богу, я в этом усомнился. Так я легкомысленно прожил много лет… Я понимаю сегодня, что мой университет продолжается. Более того, мне понятно, что основные университетские годы - впереди. Я не уверен, что мне их придется пройти, но то, что эти университетские годы мои еще впереди, - я это ощущаю теперь как очевидное. Это - ощущение нормального человека, ничего необычного здесь нет. А вот не совсем обычно - измерить глубину того провала, в котором оказалось российское общество в плане интеллектуальных потерь ХХ века.
Г.А. Явлинский
(Руководитель парламентского блока «Яблоко» в Государственной Думе РФ, лидер партии «Яблоко»)
5 марта 2001 г.
…Когда говорят о Сталине, чаще всего говорят о том, что наложило основной отпечаток на нашу историю: репрессии, массовое уничтожение людей, введение классической по своей жесткости и по методам действий тоталитарной системы, установление жесточайшей диктатуры и многие другие важнейшие характеристики системы, которую постепенно сложил советский строй под непосредственным руководством Сталина. Но оставляют в стороне главные движущие механизмы, главные инструменты той системы, которая была тогда создана. И если эти главные движущие механизмы, логику этой системы, ее главные исходные посылки проанализировать, то окажется, что мы сильно забегаем вперед, говоря, что система, созданная при Сталине, ушла в прошлое, что ее больше не существует и мы можем только обсуждать ее как исторический феномен.
…Здесь бы я не согласился и предложил бы для обсуждения такой вопрос. Я хотел бы вам сказать, что многие механизмы, заложенные тогда в нашу государственную и политическую систему, они сохраняются - не только как фактические механизмы, но они сохраняются как логика поведения и как мировоззрение. Ну, например. Очень типичным для Сталина и его системы был постулат, который стал важным элементом всех систем, которые существовали в России после этого и существуют до сих пор - это элемент деления всех на «своих» и «чужих». Если вы вдумаетесь в это, то поймете, что придуманное именно тогда и введенное тогда с чрезвычайной ожесточенностью, так и осталось практически до сих пор. Любые политические партии, течения, собственно государственная политика в России, собственно поведение высших должностных лиц, вся политика, которая проводилась при Борисе Николаевиче Ельцине, все подходы, которые окружение наших президентов реализует и проводит, - все в значительной степени построено именно на такой формуле: «свои» и «чужие». Это очень важная точка отсчета. Это делается и во внутренней политике, и на уровне формирования того же правительства, формирования высших органов государственной власти, это проявляется и во внешней политике, а сейчас это становится по внешней политике все более и более часто употребляемым принципом.
Могу привести вам более широкий пример, который тоже заслуживает нашего с вами обсуждения. Одной из особенностей последних лет является все большее и большее проявление, теперь уже до такой степени, что об этом можно говорить с достаточной степенью уверенности и даже делать соответствующее обобщение, - появление в нашей стране системы, которую я бы назвал корпоративной системой. Ее особенность заключается в том, что эта система, которая не уничтожает демократические механизмы, а подстраивает их под себя, подчиняет их своей дисциплине, своим целям и задачам, сохраняя внешнюю форму. Так вот, в самом изначальном развитом виде (не современном, но развитом) эта система была создана при Сталине. У нас была Конституция, которая на тот период считалась весьма демократической конституцией, были прописаны все права трудящихся, у нас проводились выборы, у нас обсуждали критику и самокритику, говорили о политической системе, о Верховном Совете - то есть все инструменты, все формальные необходимые ячейки существовали, и это позволяло этой системе пользоваться уважением в мире. И многие люди, такие, например, как Ромен Роллан, совсем не самые последние и глупые, приезжали сюда, знакомились со всем, что здесь происходит, не понимая сути и содержания того политического режима, который здесь был создан.
Вот это желание встроить в свою корпоративную систему все существующие механизмы на сегодня процветает в нашей стране. Если нужно - мы можем создать партию за два месяца до выборов и избрать ее. Не нравится нам Союз журналистов - можно создать другой медиа-союз. Не нравится этот владелец независимого телевизионного канала - мы его даже не будем делать государственным, зачем же нарушать правила, мы его сохраним как частный и отдадим другому владельцу. То же можно сделать с различными газетами. Мы можем назначить уполномоченного по правам человека в Чечне, например, мы можем какую-нибудь комиссию создать по рассмотрению и расследованию всех событий, которые происходят в Чечне. Примеры такого рода бесконечны...
Поскольку передо мной не стоит сегодня такая задача - проанализировать это все в полном объеме (хотя это того заслуживает), то я хотел бы предложить вам подумать над тем, какие из этих принципиальных встроенных механизмов сохранились. В качестве рабочей гипотезы я хочу высказать вам такую мысль: очень многие, если не все. Они существуют по сегодняшний день. И поэтому многие события, которые происходят в нашей стране - они происходят примерно по тем же самым сценариям.
И если перейти к вопросу о том, могла ли перестройка начаться после смерти Сталина - то я могу вам сказать... Слово
«перестройка» - это условное выражение такое, просто оно условно что-то характеризует. Но на самом деле тогда и началась перестройка: то, что делал Хрущев - это и была перестройка, это самая настоящая была перестройка. Потому что
«перестройка» – это слово, которое отражает только то, что можно объяснить на русском языке, ни на одном языке мира оно ничего такого не обозначает (оно переводится как reconstruction). Перестройка – это когда третий ряд становится первым, а первый ряд становится пятым, а шестой – восьмым, а восьмой – десятым, а десятый - третьим. Там колонна идет в том же направлении, состав точно тот же, просто все построились немножко по-другому. Они стояли, условно говоря, по росту, а теперь построились по полу. А в следующий раз они перестроятся по возрасту, потом они перестроятся по алфавиту, по году рождения или по месяцам рождения. Но состав доблестного отряда останется тот же. Ну, некоторых, самых нерадивых, вроде Лаврентия Павловича, быстренько отстрельнули и кем-то заменили – и все.
Если говорить совсем серьезно, то хочу высказать вам гипотезу о перестройке: то, что мы получили последние 15 лет – это и есть перестройка. На самом деле, Михаил Сергеевич был абсолютно прав. Он затевал перестройку (я, правда, не знаю, что он, собственно, сам затевал), но закончилось все настоящей перестройкой – те же самые люди перестроились и шагают в той же колонне. Ну, иногда они настолько довольны тем, что перестройка состоялась тем самым образом, что они и гимн запевают тот же самый, и знамя поднимают кое-где то же самое
(чтобы не было иллюзий) – вот она и есть перестройка.
Перестройку в этом смысле и начал Никита Сергеевич. Потом долго был Леонид Ильич, который никого не перестраивал. А потом снова решили перестроиться. На самом деле, у нас ведь что произошло в 90-м году?
У вас есть ко мне такой вопрос: «Почему процесс демократических преобразований в России идет медленнее, чем в странах Восточной Европы?». Тут все просто. На самом деле в странах Восточной Европы в 89-м – 90-м годах произошла демократическая революция, смысл которой заключался в том, что не только изменилась политическая система, и даже не столько изменилась, потому что, еще раз повторю, основные механизмы
(во всех этих странах были парламенты, в Польше была многопартийная система, там не одна ПОРП была, там были и крестьянская, и католическая партии). Но самое главное, что произошло, – не только изменилась политическая система, но люди пришли другие, просто принципиально другие люди. Настолько принципиально другие, насколько в одном обществе в одно время могут вообще находиться соотечественники принципиально другие.
А что у нас произошло? У нас в этом смысле ничего не произошло. У нас те же самые люди. Не только у нас, а во всем
СНГ – осталось все то же самое. Иначе говоря, к власти пришли люди, которые поменяли портреты у себя на стене и вместо слов
«пятилетка, социализм, Ленин», стали произносить слова «реформы, демократия, приватизация». Некоторые из них научились говорить по-английски, чтобы из лучше понимали иностранные журналисты, назвали себя реформаторами. Если вы посмотрите, что в России за последние 10 лет было 7 - 8
премьеров, то увидите, что все эти люди были членами ЦК КПСС или выходцами из такой родственной структуры, как КГБ - ФСБ. За исключением Кириенко, который был секретарем обкома комсомола, но он и пробыл три месяца как «маленький».
Мне важен вопрос: насколько мы далеко ушли от этой системы? Я в качестве рабочей гипотезы говорю, что система не изменилась принципиально, она осовременилась. Но если она внутри себя сохранила эти механизмы (а я один из них назвал -
«свои - чужие»), второй механизм - всех встраивать и подчинять общей корпоративной дисциплине. Третий механизм - отторжение всякой серьезной критики, которая может на что-то влиять. Собственно, критика может быть, но просто дальше за ней ничего не следует... Монополизация - тоже часть этой системы: монополизировать СМИ, монопольное положение в экономике, идеологии, монопольное положение небольших групп в определенных областях.
И еще одна придумка того времени: для чего нужны органы государственной безопасности? Комитет государственной безопасности устроен таким образом, чтобы защищать государство от собственного народа. Потому что предполагается, что собственный народ может не понять или не сильно любить это государство, вообще у него могут быть к нему какие-то претензии. Поэтому нужно сделать такую систему, чтобы не позволять ему сильно не любить. Или, если даже он сильно не любит, чтобы он ничего не мог с этим поделать.
С самого «верха» нам звучит фраза такая: вот эти средства массовой информации антигосударственные, они проводят политику, не соответствующую интересам государства. Минуточку, а государство - это кто? Отличие построения нашего государства от всех других государств Западной Европы заключается в том, что идея государства, которая заложена там, заключается в том, что государство - это инструмент, с помощью которого люди решают свои задачи. Наше же государство защищает небольшую группу людей, которая представляет себя государством, от всех тех жителей, которые в этом государстве живут. Это - тоже встроенный туда механизм.
Короче, этот ряд можно дальше продолжать. Но суть заключается в следующем. До тех пор, пока наша политическая система использует в значительной степени вот эти механизмы, которые были задуманы и сделаны еще тогда, до тех пор мы не можем выйти из этого тупика, в котором мы оказались после 17
го года. В 17-м году что случилось? Небольшая группа людей пришла к власти насильственным путем и потом создавала систему, охранительную для себя. Она очень боялась, что ее когда-нибудь могут убрать, потому что она пришла к власти незаконным путем. Сколько она существовала - столько создавала механизмы, которые могли бы ее защищать. Она на генетическом уровне чувствовала большие проблемы, потому что таков был приход к власти. И все механизмы были устроены точно таким же образом. Во многом эти механизмы сохранились, вплоть до того, что сохранились сами институты - те, которые были созданы в то время. И они продолжают работать, они действуют. Мы с вами оказываемся в ситуации, в которой очень важно понимать, что многие механизмы, созданные при Сталине, - они сохранились, действуют, что мы видим по результатам, последствиям, которые существуют.
Это не повод для того, чтобы ругаться или взывать на митингах что-нибудь разрушить, но это повод для того, чтобы понять: до тех пор, пока это не будет ликвидировано, нельзя будет здесь сделать практически ничего.
Одна из важных точек отсчета: что является здесь системообразующим элементом. Если системообразующим является то, что написано в нашей Конституции, где сказано, что права, достоинство и свобода человека, который живет в Российской
Федерации, являются самым главным и вокруг этого строится вся политическая система, тогда это принципиально другая политическая система. А если то, что у нас нигде не написано, но считается у нас самым главным - защита неких абстрактных интересов того, что называется «государством», не очень даже задумываясь над тем, кто является представителем этого «государства», - тогда мы продолжаем действовать в рамках той системы, которая была раньше.
Ваш вопрос относительно сравнения Сталина и Горбачева - ответить не берусь. Если Сталин - человек с очень большим знаком «минус», то Горбачев дал людям свободу. Если тот думал о том, как отобрать свободу и подчинить себе людей, тот этот, неизвестно, думая или не думая, сделал так, что люди стали свободными, стали говорить и жить так, как они могут и хотят.
Это люди совершенно разные. Собственно, оценка Горбачева будет дана только историей, сейчас трудно об этом говорить.
Но один принципиальный вопрос Михаил Сергеевич все-таки решил. Однажды Горбачев решил, что за то, что человек думает и говорит иначе - его не надо за это сажать в тюрьму и уничтожать. Все. С моей точки зрения, это было главное и единственное, что, собственно, произошло. После этого все события начали нарастать лавинообразно. Система была устроена таким образом, что, как только человек осмеливался говорить то, что он думает (как, например, ректор вашего университета
Афанасьев), - последствия этого для системы были абсолютно негативными. Она была несовместима с такими вещами. Но
Горбачев, генеральный секретарь, почему-то (надо еще выяснить почему), решил, что можно говорить то, что думаешь, и за это ничего не будет - вот это главная исходная точка всего того, что произошло.
Чем объяснить появление на наших улицах молодых людей с портретами Сталина - это еще один ваш вопрос. Ну, собственно говоря, можно объяснить. Дело в том, что есть определенные
«герои» у времени Сталина. Во-первых, это победа в Великой Отечественной войне. Это уж вам предстоит разобраться во всяких версиях: кто начал войну, почему она протекала таким образом. Долгое время считалось, что в войне победил вождь, а не народ. Я с большим уважением отношусь к достижениям советского народа и с огромным уважением отношусь к тому, что сделал наш народ. Наш народ все это сделал не благодаря, а вопреки. Огромные достижения: и ликвидация безграмотности, и индустриализация страны, и победа в войне, и возможность выйти в космос - это огромные достижения и гордость. Это сделали мои соотечественники, мои родители, люди, среди которых я вырос, вопреки и несмотря на ту систему, которая существовала. Войну выиграл советский народ, а немцев под Москву пустили наши нерадивые генералы того времени и наше близорукое Политбюро во главе со Сталиным, который неправильно оценил угрозы, позволил немцам практически подойти к самым стенам нашей столицы.
Поэтому, когда у меня идет дискуссия с представителями компартии, я всегда выделяю тезис, что вопреки руководящей роли люди нашей страны добились немалого.
Вопрос: «Является ли КПРФ партией ленинско-сталинского типа, верно ли утверждение, что она эволюционирует в социал-демократию?». Я не очень большой знаток того, что там происходит внутри, но то, что это - партия, которая по сегодняшний день считает своими идейными вождями Ленина и Сталина, - это бесспорно. Вот если бы они от них отреклись, тогда встал бы вопрос о том, являются ли они партией именно этого типа. Такого вопроса просто не существует. Что касается социал-демократии - это совсем другая история, я не вижу признаков. Главным признаком я бы посчитал полный отказ от тех методов и принципов, которые были заложены в ленинско-сталинской идеологии.
Коснувшись этого вопроса, я хотел бы вам сказать, что на самом деле отказ от тех механизмов и принципов, которые существуют по сегодняшний день и временами будут больше или меньше снова проявляться, - это прекратится только тогда, когда произойдет внутренний отказ общества от всего того, что было, пока общество не выработает понимания того, что с ним сделали в 30-е, 40-е и 50-е годы, пока оно само все это не оценит и не отречется от этого. Без такого отречения ничего не изменится.
Ведь что произошло в нацистской Германии после Второй мировой войны? Отказ от идеологии нацизма. До тех пор, пока общество не откажется от этой механики, от принципов этой идеологии, - оно будет сохранять в себе встроенные элементы этого всего...
Записка: «Григорий Алексеевич, согласны ли вы с таким определением российского демократического движения, что демократическое движение является узконациональным, узкоклассовым, антинациональным и антигосударственным из-за своей прозападной ориентации?».
Ну, я с таким утверждением не согласен. Я сейчас постараюсь серьезно попытаться поговорить с вами на эту тему, сказать, что я на самом деле про это думаю. Но прежде всего нам надо договориться, что мы понимаем под «западной ориентацией». Прежде всего это то, что не касается конкретной политики, конкретных политических деятелей текущего периода.
Политики могут быть самые разные. Более умные и чаще встречаются совсем не более умные. Политические партии могут выстраивать совершенно разные направления, политические линии могут, в зависимости от исторического периода времени, могут быть тоже совершенно различны. Поэтому я, когда произношу слово «западное», то не имею в виду конкретное – не называю ни
Коля, ни Миттерана, ни Блейера, ни Буша - я говорю совсем о другом. О чем?
Например, о том, что есть такое условное понятие, которое называется «западная европейская цивилизация» или «европейская цивилизация». Это цивилизация, которая выработала в ходе своего развития (очень тяжелого и порой кровавого) несколько десятков постулатов или ценностей, которые являются ориентирами и критериями к различным практическим вещам. Ну, например: как построить судебную систему, или как построить телевидение, или как сделать так, чтобы служба в армии была полезной для собственной страны, или как сделать так, чтобы правители не могли отправлять людей на войну, где их убивают непонятно зачем, или как сделать так, чтобы был контроль за деятельностью правительства с точки зрения средств, которые люди собирают в виде налогов, или, охватывая все, что я сказал, как выстроить политическую структуру на основе христианских ценностей. Когда речь идет о прозападной ориентации, то речь идет примерно об этом, имея при этом определенные результирующие показатели: скажем, продолжительность жизни, уровень преступности и другие.
Еще раз повторяю: это не связано с конкретным правительством или с политическим движением или партией. С моей точки зрения, Россия всю свою историю была страной, которая вливала Евразию в европейскую цивилизацию Так я понимаю российскую историю. Я понимаю, что Россия всегда росла и укреплялась, когда она для себя абсолютно ясно и понятно формулировала, что является европейской страной и движется в этом направлении. Я лично думаю, что огромные и великие достижения в области российской культуры – неразрывны и являются неотъемлемой частью европейской культуры.
И в этом смысле демократическое движение, которое я представляю, считает, что путь России в новом веке, ее национально-государственное предназначение заключается в том, чтобы сохранить евразийскую страну в наших нынешних границах в русле европейской цивилизации. Я думаю, что в этом заключается национально-государственная цель на все следующее столетие. Кстати, у нее есть очень большие угрозы, у этой национальногосударственной цели. Вот это и есть направление России, связанное с прозападной цивилизацией. То демократическое движение, которое я представляю, считает, что через 15 - 20
лет Россия должна стать обычной европейской демократической страной, основанной на собственной культуре, национальных традициях. Но страной, в которой ее основные цивилизационные точки опоры связаны с Европой и европейской культурой в самом широком смысле слова. Сейчас вы часто встречаетесь (в литературе, в интернете), когда говорят, что мы особенные с вами, другим не чета, сами знаем, куда идти, как организовывать нашу жизнь, нас не надо учить, в наш монастырь, пожалуйста, со своими правилами и пожеланиями лучше не вмешивайтесь. Конечно, каждая семья и каждая страна, тем более такая древняя, как Россия, имеет свои колоссальные культурные и национальные особенности - это не вызывает никакого сомнения. Однако такая позиция, которая сейчас популярна, мне напоминает поведение подростка по отношению ко взрослому. Когда подросток говорит взрослому: «Я хочу жить собственной жизнью, не хочу вас слушать и видеть, не вмешивайтесь в мою жизнь», - это напоминает то, что сегодня происходит после тех неудач, которые с нами случились.
...Все недостатки и проблемы у нас в России происходят не оттого, что нас обидели наши соседи - НАТО, Запад, Америка, сионисты и так далее, - а оттого, что мы с вами сохранились в той же логике жизни, которая была и раньше. Потому что когда приватизацию проводит член Политбюро, то она проходит только так, как она проходит, не потому, что он плохой, а потому что он такой, потому что он 60 лет так жил, он по-другому не знает, не понимает.
За последние 10 лет в нашей стране случились две войны, два дефолта, один из них колоссальный в 98-м году, одна гиперинфляция в 2500 процентов в 92-м году и расстрел
Верховного Совета в 93-м году, почти начало гражданской войны. Я утверждаю - это еще одна гипотеза, которую вам предстоит проверить, - что эти события произошли потому, что люди с прежними представлениями о жизни принимали все основные решения. Они их так принимали, что результатом этих решений стало именно то, что сейчас мы с вами обсуждаем.
Теперь все это вместе люди обдумали и сказали, что это -заговор, и стали искать виноватого. Это тоже обычное явление.
Я хотел бы подчеркнуть, что никогда ни одна страна мира не будет действовать в наших интересах. Никогда. Все будут действовать только в собственных интересах. Пока мы не научимся защищать и понимать собственные наши с вами интересы, никто ничего делать для нас не будет. Это не вопрос заговора, просто так устроена жизнь. Она и на личном уровне так устроена. Мы должны сами знать, чего мы хотим, и уметь защищать собственные интересы. Кто-то будет вашим другом, кто-то не будет. Вообще, я придерживаюсь известной точки зрения о том, что Россия - такая страна, у которой нет постоянных друзей, а есть постоянные интересы. Научимся защищать свои интересы, традиции, создавать спецслужбы, армию - значит, у нас все будет.
Записка: «Если в нашей стране все встроено в корпоративную систему власти, то, следовательно, и вся политическая оппозиция, и в частности ваша партия, тоже существует в этой системе. Не кажется ли вам, что за десять лет можно было разрушить эту систему именно с помощью демократической оппозиции, к которой вы себя причисляете?»
Я согласен, что это большая опасность, и для нашей партии тоже. Я согласен, что и наличие оппозиции на сегодняшний день пока не позволяет решить ни одну из задач, которые она перед собой ставит. Это и особенность нашей политической системы, это и особенность нашего политического процесса - это просто реальность, в которой мы сегодня находимся. Все так и есть.
Можно ли было за десять лет сделать - вы лучше меня знаете, что история не знает сослагательного наклонения. Если можно бы было - тогда бы и сделали.
Записка: «Так ли уж справедлив постулат «Народ прекрасен – система скверная»? Не задумывались о происхождении этого постулата?»
Я вообще не знаю, что это такое - «народ прекрасен». Я этого просто не понимаю, не хочу такого обобщения понимать. Это мой народ. Мой долг - быть с моим народом, и моя задача - сделать все, чтобы жить этому народу было лучше. Я вижу проблемы, с которыми сталкивается мой народ, и считаю необходимым бороться с теми вещами, которые его губят, причем губят всерьез, потому что людей убивают, лишают будущего. Ведь в чем особенность корпоративной системы - в ключе того, что было сказано вами в отношении отставания России от Запада? Мы ведь отстали необратимо. И кто тогда будет виноват - опять
Запад будет виноват?
Записка: «Известно, что за Б.Н. Ельциным стояла «семья», а что стоит за Путиным?»
Ну, судя по вашей реакции (Смех. - Сост.), вы ответ чувствуете и знаете. Но для меня в этом смысле все сохранилось, какие-то фигуры поменялись и все.
Записка: «Весомо ли слово Путина во внешней политике?» Ну конечно. Вообще никогда не верьте тому, что президент - не самостоятельная фигура, что он не может решать какие-то вопросы. Это неправда. Президент Российской Федерации - это такая личность, которая всегда решает все основные вопросы. И никаких других у нас нет. Кто на него влияет - это другое дело.
Записка: «Имеет ли КПРФ будущее?»
Будущее КПРФ связано со следующим: чем больше бедности в России, тем больше влияние КПРФ. Чем больше бедных людей, чем больше реформ, чем люди становятся беднее, тем больше влияние коммунистов.
Записка: «Будете ли вы объединяться с СПС?»
Объединяться - это не значит заняться созданием единой партии. Это - опять из того же времени. Это - полное неприятие того, что можно оставаться демократическими партиями и иметь разные взгляды на одну и ту же вещь. Мы будем очень осторожно и аккуратно создавать союз двух сильных партий.
Записка: «Как вы относитесь к развалу Советского Союза? Был ли он неизбежен?»
В моей политической биографии развал Союза - один из самых тяжелых моментов, потому что я делал все, чтобы это происходило по-другому. Удержать это, к сожалению, было невозможно, удержать это было сложно потому, что политики того времени, в частности Михаил Сергеевич Горбачев, с моей точки зрения, не видели этой опасности. Я могу вам рассказать такой исторический факт. Я тогда работал заведующим отделом Совета
Министров СССР. И я обращался несколько раз к генеральному секретарю Горбачеву (не напрямую, а через Совет Министров), говоря ему следующее: самым главным вопросом является заключение союзного договора. Ответ был такой: Горбачев очень занят, поэтому он не может сейчас заниматься такими вещами. Из этого было ясно, что Горбачев и люди, которые рядом с ним, просто не придают этому большого значения. Я боролся хотя бы за то, чтобы существовал экономический договор, потому что политический сделать было уже сложно. И опять же развал Союза, такой развал, произошел потому, что на Украине был Кравчук, член ЦК КПУ. И почти во всех республиках к власти пришли люди с явно выраженными особенностями мышления советской номенклатуры - они, собственно, и разодрали страну на куски™
Записка: «Как вы оцениваете современную политическую ситуацию и перспективы дальнейшего развития государства?»
Я полагаю, что у нового президента есть важные достоинства, которых не было у предыдущих наших руководителей.
К этим важным достоинствам я бы отнес: первое - то, что на сегодня президент имеет очень большой уровень поддержки в обществе. И конкретно его, президента, достоинство в том, что сейчас он ведет диалог со всеми политическими силами в стране.
Он встречается с кем угодно: и с Чикиным, и с Прохановыи, и с
Солженицыным, и с Зюгановым, и с Немцовым. Это абсолютно широкий диапазон встреч. Никогда еще наши вожди в Кремле не общались с таким широким кругом людей.
Но отсюда возникает ряд опасностей, потому что та эклектика, которая существует в его политике, это смешение всего и вся - это приводит к очень серьезным слабостям. А слабости эти пытаются компенсировать тем, что я называю корпоративным государством, попыткой построить корпоративную систему полицейского типа, которая управляется бюрократически, которая контролируется с помощью одних бюрократов, которые контролируют других бюрократов. Это и есть главная проблема развития нашего государства™
Все мои беспокойства вытекают не из идеологических соображений, а только экономических. Я экономист. И могу еще раз встретиться с вами и легко продемонстрировать вам, что особенность нашего положения, нашей системы и нашего президента заключается в том, что мы попадем в ситуацию абсолютного и необратимого отставания, мы уйдем с вами не в третий, а в тридцать третий мир. И тогда Россия действительно утратит всякое значение. У нас остается не так много времени как с экономической, так и с геополитической, военной и прочих точек зрения на то, чтобы не оказаться в числе самых отстающих стран™
Записка: «Что ждет российскую демократию и «Яблоко» в ближайшем будущем в рамках существующего государственного строя?»
Поскольку я имею самое прямое отношение к «Яблоку», то скажу, что мы будем строить будущее в той части, в которой сможем, а не просто сидеть и прогнозировать, что с ним случится.
Записка: «Собираетесь ли Вы писать мемуары?»
Мемуары я не собираюсь писать… Действующий политик, если он серьезный, то он стоит перед таким выбором: если он напишет настоящие мемуары, правду, то тогда ему нужно уходить из политики, ведь он раскроет всю свою лабораторию: как он принимает решения, каким способом он себя ведет, почему он ведет себя именно так и так далее. Если он такие мемуары писать не хочет или не может, то тогда он должен что-то выдумывать, просто врать. Мемуары надо писать незадолго до прекращения всего, и на этом все заканчивается. Но поскольку я не собираюсь пока заканчивать, то и мемуары писать пока не собираюсь…
В.И. Зоркальцев
(Член Президиума КПРФ, депутат Государственной Думы РФ, член фракции КПРФ, председатель Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций)
Октябрь 2001 г.
…Меня интересует гражданское общество. Прежде всего это связано с деятельностью нашего комитета, который я возглавляю уже три сезона в Государственной Думе — Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций.
До 91-го года вообще правовая база гражданского общества у нас в России отсутствовала™ В 90-м году был принят закон об общественных организациях - союзный закон, - и он существовал.
Всплеск создания законодательной базы для развития гражданского общества приходится на 95-й год. Ну, не потому, что там «каждый кулик свое болото хвалит», не потому, что так произошло в нашем комитете, но так случилось.
Вот я вам сразу их перечислю. Был принят «Закон об общественных объединениях», который существует и сейчас, и по нему работают, существуют все общественные организации. Затем пошло развитие: «Закон о благотворительности», «Закон о профессиональности», «Закон о политических партиях». Эта законодательная база как бы стала наполнять пробелы творческой работы. Это те законы, что приняли, вернее, это те, что вступили в силу. Но есть еще десяток законов, которые мы разработали, но они не вступили в силу, потому что были «заветированы» президентом, - они тоже существуют. Допустим, «Закон о творческих работниках литературы и искусства и их творческих союзах». Название закона вроде бы ни о чем не говорит, но все же с 27-го года не было ни одного правового акта, регулировавшего деятельность творческих работников и общества. Творческие работники у нас сейчас (ряд творческих работников) не имеют возможности получить какие-то социальные гарантии, даже в виде пенсии. Или «Закон о благотворительной деятельности». Все благотворительные организации существуют и действуют благодаря именно этому закону.
Сложись такая интересная и парадоксальная ситуация - не вопреки государству, но и не при поддержке его, за десять лет сформировался мощный третий сектор - гражданское общество. Первый сектор - это государство, второй - экономика и третий -некоммерческие организации. Сформировался неожиданно, настолько неожиданно, что сейчас государство вдруг задумалось: что же произошло? А произошла непростая ситуация.
У меня есть небольшая таблица, я вам приведу некоторые цифры. Вот, скажем так, некоммерческие организации. В 95-м году у нас их было 101 тысяча, а в 2000-м году - 274 тысячи... Вот какой произошел всплеск. Это понятие - гражданское общество - сначала приобрело какое-то аполитичное значение, ему противопоставляли социализм и так далее, а потом к нему стали относиться не только, так сказать, индифферентно, но стали гражданского общества побаиваться. По нашим подсчетам, на ближайшие два - три года количество этих организаций возрастет до 500 - 600 тысяч. Почти 2 миллиона человек занято в этом деле, но, опять же подчеркиваю, что эти цифры не могут нам сказать о той палитре отношений, которая происходит в третьем секторе. Эти общества создаются на основе интереса. Собираются люди, их интересует конкретная проблема, и они без дотаций от государства, без поддержки государства создают свою организацию, и многие такие организации очень активно функционируют.
Мне думается, что сейчас государство заинтересовалось гражданским обществом, почувствовав, что здесь возникает некая ситуация: оно стало уже независимым. Вот, например, при социализме мы считали, что если базис однородный, основанный на общественной форме собственности, то, естественно, и надстройка должна быть очень демократичной. Так долгое время считалось, и так считали политологи, наши ученые и руководители нашего государства. Мы считали, что базис первичен. Но надстройка вышла из подчинения. Она стала неадекватна, что и привело к экономической ситуации 80-х годов. И, практически, непокорность гражданского общества -правда, в то время гражданин был более независим, чем сейчас в нашей стране, - привела к разрушению этого строя...
В последнее время ввели в оборот термин «третий сектор». Вы знаете, стараются как-то отделить первый сектор, второй сектор, третий сектор и стараются доказать, что это автономно действующие составляющие нашего общества. Это большая ошибка. Это примерно такая же ошибка, как разделение властей. Сама постановка вопроса правильная: разделить власти и сделать их автономными, самостоятельными, но только самостоятельными, но не автономными. Я бы сказал, что прорывные идеи, самые острые вопросы зарождаются и генерируются как раз в третьем секторе, и они потом влияют на государство и на экономику. Там они инициативно генерируются, и лаборатория их опробована там, внедряются в жизнь там. Оттуда они переносятся на другие секторы.
Вот посмотрите, какое соотношение. Возьмем первый сектор — государство с его чиновничьим аппаратом. Я вам сейчас приведу такие цифры - наверное, вы удивитесь. Допустим, в царской России на тысячу жителей было 0,3 чиновника, в советской России в 91-м году - 4,8, в постсоветской России -
7,9. Это при том, что сократилось население и народный сектор стал меньше практически в 3 - 4 раза. Каким образом это увязать с гражданским обществом? Какие здесь существуют плюсы и какие существуют минусы? Я не выступаю против чиновничества, я считаю, что это очень важная составляющая управленческого состава. Конечно, рост от 0,3 до 4,8 - он в какой-то мере обусловлен тем, что вся жизнь из этого состоит: мощное развитие экономики, промышленности, культуры, науки, сферы услуг бюджетных организаций, просвещения, медицины и так далее. Они как раз привели к тому, что чиновничество растет. А что происходит сейчас? А сейчас создается определенная корпорация, которая, по существу, работает сама на себя. И этот количественный рост привел к резкому снижению качества управленческого состава.
И здесь создается некая агрессивная среда, которая не воспринимает гражданское общество. А гражданское общество, организации, созданные в третьем секторе, динамичнее, интеллектуально сильнее, жизнеспособнее, чем возглавляющие их организации чиновничьи. Плюс к тому, что все, практически, подчинено или криминалу, или крупным финансово-промышленным корпорациям или другим структурам. Там происходит очень серьезный отток. Куда уходят эти люди? Менее подготовленные из них уходят в экономику, а сильные люди, хорошо подготовленные
- в третий сектор и пополняют его. И вот эти вот 7,9 - это как раз та часть, которая недолюбливает третий сектор. Она видит в нем конкурента, она видит в гражданском обществе дополнительную заботу, потому что корпоративна, но работает сама на себя и она самодостаточна: ей не нужен ни третий сектор, ни второй сектор - им хватит самих себя. Они, производя документы, работают. Не случайно именно эту часть населения, вернее именно эту часть управленческого аппарата, государство очень сильно подкармливает. И вот сейчас опять будут увеличены зарплаты. Это большая сила. Аппарат всегда оказывает большое влияние, например, на выборные структуры.
Или возьмем такую проблему, как теневой капитал. Когда-то, когда мы были молодые и активно участвовали в общественной жизни, у меня был разговор с М.С. Горбачевым. И я поставил перед ним такой вопрос: «Михаил Сергеевич, что-то надо делать с теневым капиталом». Это был 87-м году. Ведь капитал, это, вы знаете, не сокровище - это собственность, приведенная в движение. Капитал не может стоять на месте, обладает очень страшной силой. Хорошо накопить деньги. И как только эти деньги будут пущены в оборот, они уже начинают владеть теми, кто владеет этими деньгами. Тогда, по данным некоторых исследований, этот теневой капитал составлял от 180 до 240
миллиардов рублей. В 87-м году рубль был равен 60 центам.
Представляете, какие миллиарды долларов по нашим теперешним подсчетам крутились в теневом капитале? И этот теневой капитал (то есть собственность, пришедшая в движение) двигался, пробивал себе путь. С этим надо что-то делать. Надо его легализировать, в противном случае он себе пробьет дорогу. Все революции и смены строя происходили потому, что данный строй мешал движению капитала. Как только капитал набирал свою мощь, он пробивал себе дорогу.
Что происходит сейчас? Так же приведу вам несколько цифр. Возьмем такой раздел – строительный ремонт. В этом разделе ежегодно оборачивается - я беру данные из «Независимой газеты» – 145 миллиардов долларов. Для сравнения: «Лукойл» – 2
миллиарда, Аэрофлот – 3 миллиарда.
Эти деньги - а их примерно, по грубым подсчетам, 50 – 60
миллиардов – не учитываются государством.
Первый сектор финансово-промышленную группу себе соподчиняет через выдвижение своих кадров, через работу депутатов, через мощные финансовые вложения и прочее. Гражданское общество финансово это группе подчиняется, отсюда зарождается четвертый сектор. Ему безразлично, что делает государство, что делается в экономике, что делается в этом гражданском обществе.
А вот представьте себе, что идеи гражданского общества и этого так называемого четвертого сектора совпадают. Бред. А если не совпадают? Тогда рождается некая агрессивная среда, на которую не может повлиять государство, которая не подчинена этим крупным промышленно-финансовым группам. Вот такие процессы сейчас происходят в обществе. И если законодательно эти отношения не установить, более того - если законы не начнут в этом направлении работать, мы можем прийти к иному обществу, и вы будете уже изучать постсоветскую историю.
…Каковы перспективы развития гражданского общества? Я уже говорил о количественных показателях. 274 тысячи – сейчас. На
1 января 2001 года уже больше – 500 - 600 тысяч. Это - количественный показатель. Будет расти количество людей, занятых в этом секторе. Скажем так: Россия сейчас на самом последнем месте. У нас в этом секторе – 2 миллиона человек.
Немало. Будет расти финансовая обеспеченность этих структур, но будут идти и другие процессы, о которых я тоже хотел вас проинформировать. На наш взгляд, произойдет некое сжатие этих форм.
...На мой взгляд, государство будет вынуждено (пока я говорю так, а потом оно поймет свою выгоду) вмешаться в деятельность третьего сектора. Здесь есть две проблемы. Если оно его «заорганизует», то третий сектор пропадет: он не может работать в административных условиях, он не способен, это не его среда. Третий сектор может работать только в свободной демократической среде, у него должен быть свободный поиск, он должен найти и обрести себя. И тогда дело пойдет. Если же государство не сможет его поддержать или не пожелает поддержать, испугается поддержать - оно вообще может потерять все.
Поэтому государство должно пойти по следующему пути. Прежде всего создать законодательную базу. Гражданин, занимающий третий сектор, должен быть «обезопасен» и от государства, и от большой экономики. Законы должны дать ему возможность стать свободным человеком и поступать так, как он желает, но в рамках законов. Пусть он его в чем-то даже ограничивает, но это - закон. Он должен работать в рамках осознанной необходимости. Это первый ход. И, конечно, помогать. Финансово. Я считаю очень большой ошибкой, что мы называем свое правительство рыночным: 60 миллионов рублей на развитие предпринимательства и малого бизнеса правительство в прошлом году не дало...
Гражданское общество в настоящий момент мало изучено, хотя про него написано очень много диссертаций и даже есть определенная библиография, создан Институт Гражданского общества. В этом отношении государство тоже должно проявить себя - достойные гранты, поддержка исследовательской работы в этом направлении. Для вас - это курсовые работы или дипломные работы, для кандидатов наук - хорошая диссертация или монография, для коллектива, возглавляемого доктором наук, -хорошее исследование. Но и этой поддержки нет. Поддерживают, как ни странно, гражданское общество сейчас на уровне меценатства. Понравилось мне организация - я ее поддерживаю, не понравилась - пойду искать другую. Все же хорошо, что находятся такие люди. Некоммерческие организации тоже не работают без прибыли - откуда-то первичный капитал берется. Они сейчас в основном работают на дотациях. И общество, между прочим, оно понимает и, так сказать, дает им.
И последнее. Четыреста лет назад английский философ Копс назвал это Левиафаном. Есть такая опасность, что Левиафан
России может уничтожить гражданское общество. Гражданское общество нуждается в защите, нуждается в поддержке, и, если его поддержать, оно будет мощным катализатором для развития демократических начал в первом секторе - государстве, и для развития экономики во втором секторе.
С.Н. Юшенков
(Депутат Государственной Думы РФ, лидер движения
«Либеральная Россия»)
Январь 2002 г.
…Почему я возглавил движение «Либеральная Россия»? Я вышел из состава блока Союза правых сил, в котором представлял ту его часть, которая не захотела превращаться в партию СПС по очень простым причинам. Во-первых, идеология СПС носит совсем не либеральный характер, поскольку идеологически СПС проводит консервативную политику и, собственно, недавно прошедший съезд СПС это подтвердил. Они действительно в большей степени консерваторы, причем не в европейском смысле (их вообще с Европой трудно сравнивать), а, скорее, это такой консерватизм российского разлива, и он заключается в том, чтобы поддерживать все начинания власти. Критика допустима в стиле героев Шварца, вроде: «Я старый больной человек, мне терять нечего, я стою одной ногой в могиле и поэтому скажу вам все без утайки, ваше величество, - вы гений! - Иди сюда, прямой и честный старик, дай я тебя расцелую и говори мне правду каждый день, какой бы она ни была». Вот примерно в таком ключе осуществляется критика со стороны СПС президента Путина...
Собственно говоря, телевидение это показывало достаточно широко и критике в основном подвергался президент за кадровую политику, и это звучало примерно так: «Владимир Владимирович, что же вы делаете, берете людей только из Санкт-Петербурга, но ведь в Нижнем Новгороде есть люди, которые могут вас хвалить не хуже, чем люди из Петербурга». И это - вся суть критики президента со стороны СПС. Никаких вопросов по поводу того, что нынешний курс фактически сменился по сравнению с теми базовыми ценностями, которые заложены в Конституции, а там четко говорится, что основным приоритетом являются права и свободы личности, а президент Путин подписал несколько доктрин
- информационной безопасности, военную и так далее, - где очень четко, черным по белому написано, что высшими интересами являются интересы государства, и во имя этих интересов можно пренебречь правами и свободами личности, можно их ограничивать. Лидеры СПС этого не заметили.
Далее. Очень четко в Конституции написано, что Россия является правовым демократическим государством. И принципы правового государства у нас, конечно же, не соблюдаются абсолютно. К примеру, принцип разделения властей. Нет у нас подлинного разделения властей, поскольку законодательная власть абсолютно не обладает контрольной функцией. Например, правом расследования общественно значимых событий. И, естественно, парламент не несет никакой ответственности за деятельность правительства. Суды у нас не являются независимыми. Исполнительная власть имеет гипертрофированные полномочия, причем именно в лице президента, хотя он не является главой исполнительной власти, а является главой государства, а исполнительную власть возглавляет премьер-министр. Если раньше при Ельцине была какая-то конкуренция между президентской администрацией, парламентом и правительством, то сейчас абсолютно никаких противоречий не наблюдается: и парламент, и правительство фактически выступают в роли соответствующих отделов администрации президента. Если и дальше будет такая тенденция усиливаться, то скоро мы можем превратиться в такого Левиафана, который будет с огромным аппетитом и усердием пожирать наши права и свободы. Конечно, очень далека от идеала ситуация с всеобщностью права для всех граждан, учреждений и организаций (как общественных, так и государственных).
Я не буду перечислять все остальные принципы правового государства - они вам хорошо известны. Но если вы посмотрите и сравните, то убедитесь, что все принципы правового государства нарушены. То же самое происходит с принципом федерализма. По Конституции, наше государство федеративное, и там помимо территориальной целостности говорится о самоопределении народов. Принцип федерализма заключается прежде всего в том, чтобы предоставить как можно больше самостоятельности регионам, а сейчас после так называемых «реформ», которые были поддержаны СПС, федерализм практически в нашей стране уничтожается, создается так называемая вертикаль власти, все и вся подчиняется этой вертикали власти.
Мы сегодня наблюдаем за фарсовыми выборами, которые происходят в регионах. Особенно это относится к выборам в Якутии, когда просто намек Владимира Владимировича, когда он со Штыровым обнимался и наградил правительственной наградой его, то буквально на следующий день Николаев снимает свою кандидатуру, а по прошествии еще двух дней непримиримый враг Штырова и Николаева, «борец» с коррупцией Холмогоров тоже снимает свою кандидатуру. Пора прекратить этот фарс и просто всех назначать - тогда будет все нормально, не надо будет платить столько денег, такой борьбы вести, ссорить людей по поводу того, кто должен определенное время сидеть в высоком кресле. Но это, конечно шутка...
СПС часто хвастает, что политика, которую проводит правительство в экономической сфере, - это политика, которая написана лучшими умами России, и эти умы сосредоточены в СПС. Я, конечно, снимаю шляпу - там, действительно, лучшие интеллектуалы собрались, они хорошо все знают, но я человек деревенский и многие вершины их изысков мне не понятны и по простоте своей душевной немного критически отношусь к тому, что делает СПС в этой сфере.
Вот есть хвастовство такое, в стиле Хлестакова, что реализуется политика СПС. Я постеснялся бы об этом говорить, потому что на самом деле никакой экономической политики в том смысле, как мы привыкли это понимать, вовсе нет. Вся наша политика экономическая связана с ценами на нефть, все рейтинги связаны с ценами на нефть. Если цена на нефть свыше 20 долларов - можно делать все, что угодно, будут все славить президента, а если цена на нефть упадет, положим, до 15 долларов, тут начнется волнение, потому что в этом случае пряников не хватит на всех. А вот когда цена на нефть упадет ниже 15 долларов, тогда случаются всякие дефолты, забастовки и так далее и так далее. Наша экономика зависит только от этого, и больше ни от чего.
Хвастливые заявления по поводу Налогового кодекса вообще не выдерживают никакой критики. Я знаю кухню. Первая часть Налогового кодекса, в которой гарантируется презумпция невиновности налогоплательщиков, с большим боем удалась, потому что на этом настаивала либеральная часть Союза правых сил, причем, настаивала вплоть до ультиматума. Этот принцип был закреплен. Правда, во второй части от этого принципа ничего не осталось. Там как раз на самом деле предполагается изначальная виновность налогоплательщиков, и на любого предпринимателя нацелено столько административных структур, что они всячески препятствуют самостоятельному ведению им экономической деятельности. Поэтому содержание первой части важно только как провозглашение общих принципов.
Введена 13-процентная шкала подоходного налога - вот выдающееся достижение! В таком случае нам надо приветствовать экономику Советского Союза как самую рыночную, потому что тогда подоходный налог, если я не ошибаюсь, равнялся всего 12 процентам. Если по этому можно о чем-то судить, то самая рыночная экономика была в СССР.
Забывают авторы этого Налогового кодекса о том, что они придумали такую хитрую, чудовищную вещь, как единый социальный налог, который заставляет бизнес прятать заработную плату. Кому же интересно платить треть из фонда заработной платы непонятно за что, а плюс еще 13 процентов - это 48. Только из фонда заработной платы своих работников бизнесмен должен государству отдавать половину. Спрашивается, за что, за какие такие заслуги? Я молчу о том, что есть налог на добавленную стоимость, причем чудовищный с точки зрения практических расчетов: там двойное налогообложение получается. То есть по-прежнему экономика остается в тени - если она хочет выжить, она должна оставаться в тени.
По бюджету… СПС говорит, что вот это мы предложили такой бюджет. Но этот бюджет, по сравнению с бюджетами прошлых лет, значительно увеличил расходы на содержание бюрократического аппарата. Это - бюджет централизованного бюрократического государства. Ну, скажем, на содержание президента, по сравнению с прошлыми годами, выделено в три раза больше средств и точно такая же тенденция - увеличение во всех министерствах и ведомствах, то есть именно на содержание бюрократического аппарата. То же самое и с централизацией государства. Оно становится все более унитарным, и это четко прослеживается в самом бюджете. Доля консолидированных в бюджете расходов на регионы постепенно снижается… Эта тенденция достаточно четко определена: растет доля центральных федеральных властей. Бюджет носит чудовищно закрытый характер. Это несовместимо с либеральной политикой, для которой прозрачность является необходимым фактором любой политики, в том числе экономической.
То есть, если рассматривать буквально все достижения с точки зрения либеральной идеологии, они не выдерживают никакой критики. Мы предпринимали отчаянные попытки спасти СПС как организацию политическую, которая отстаивала бы либеральные ценности, — это ни к чему не привело. Более того, по сравнению с российским либеральным манифестом, где все же худо-бедно, но какие-то демократические принципы провозглашаются, либеральное послание накануне съезда СПС выдержано в духе примерно такого принципа: «Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным». И если вы прочитаете это послание, то увидите, что под ним может подписаться и коммунист, и националист, и либерал. Там невнятно все сформулировано, и каждый может понимать то, что он хочет понимать. На съезде во весь голос заявили, что патриотизм - это наше, мы есть настоящие патриоты и так далее.
Можно продолжить перечень «грехов» СПС. Самых основных - два. Это - план СПС по урегулированию в Чечне. Он вообще не выдерживает никакой критики. Полуфашистский, потому что тот же
Эрих Кох мог бы отдыхать. Разделение Чечни на горную и равнинную, ограждение колючей проволокой, превращение части территории в резервацию, объявление ее мятежной республикой, а управлять мятежной республикой должен человек нечеченской национальности. Чудовищный план.
Ну, и устав. У них устав совсем не либеральной партии...
СПС также кричит о том, что судебная реформа сдвинута с мертвой точки, приняты поправки, которые приближают нас к правовому государству. Но если реально проанализировать эти поправки, то они свидетельствуют о том, что судьи становятся более зависимыми. Устанавливается шестилетний срок сменяемости судей. Может, это и неплохо, но интересно, каким образом осуществляется эта сменяемость. Судей, оказывается, представляют в Совет Федерации. Все судьи разного уровня утверждаются президентом. И это называется последним словом судебной реформы - это якобы гарантирует независимость судей!...
И Земельный кодекс. Вот, говорят, мы наконец-то сдвинулись с мертвой точки - частная собственность. Я по простоте душевной, исходя из того, что будет записано о частной собственности, тоже проголосовал за этот законопроект. Ну 1,5 процента будет частная собственность. Хотя бы так, Бог с ней! И с чем же мы сейчас сталкиваемся? У нас всегда «все гладко только на бумаге, забываем про овраги». Земельная мафия обрадовалась принятию этого Земельного кодекса, потому что человек владел землей бессрочно, она была у него во владении, теперь от него требуют заплатить за нее - вот тебе «здрасьте, приехали»! Хотя, конечно, в кодексе четко говорится, что она должна передаваться в собственность безо всякого выкупа. Но у нас классные чиновники, они придумывают такие вещи, что
Паркинсон может отдыхать.
То есть, как ни парадоксально, по сути, нет ни одной громко декларируемой реформы, которую действительно можно было бы назвать либеральной, которая бы действительно способствовала независимости хозяйствующих субъектов (интересное выражение - «хозяйствующие субъекты»; у нас свобода слова - тоже спор «хозяйствующих субъектов»).
Но я слишком увлекся критикой своей товарищей-друзей. Но
«Яблоко», которое всегда голосовало против бюджетов, на этот раз почему-то проголосовало «за». Но «Яблоко» и не скрывает, что является социально-демократической партией в европейском смысле. Называется это социальным либерализмом, но неважно. Вообще мне это, честно говоря, удивительно. Насколько я могу судить о том, что такое социальный либерализм - это почти как «горячий снег». Если посмотреть, что собой представляет либерализм, и последовательно рассматривать все принципы либерализма, то либерализм не нуждается ни в каких прилагательных (кроме, разумеется, неких теоретических терминов - «классический», «неоклассический», которые отражают развитие самого либерализма). Но все остальные прилагательные - как осетрина второй... простите, первой свежести.
Я написал статью «Что такое либерализм», где я осмелился критиковать Юрия Николаевича Афанасьева, его книгу «Опасная Россия», где он пишет о либерализме. Это талантливая книга, но мне всегда обидно видеть публикации, где на самом деле под либерализмом понимают что-то другое. Мне казалось, что после трудов Мезиса и Хайека не нужно отождествлять какое-либо из направлений либерализма с аутентичным либерализмом...
В чем опасность? В том, что под либерализмом очень часто понимают рационалистический индивидуализм, который восходит к Руссо, к энциклопедистам. В принципе, это опасное заблуждение: ничего общего они не имеют. Рационалистический индивидуализм лежит в основе всевозможных социалистических и социал-демократических учений. На самом деле аутентичный, истинный либерализм связан с антирационалистическим индивидуализмом. Я хочу пояснить, что имею в виду здесь. Рационалистический индивидуализм говорит о том, что нет ничего в обществе такого, чего нельзя было бы предвидеть, такой безудержный эпистемологический оптимизм, теория познания основывается на том, что в принципе можно все познать. Раз можно все познать – значит, можно все предвидеть, если можно предвидеть - значит, можно все планировать и тому подобное. Раз можно все это планировать - значит, есть общая цель, а общая цель, по
Хайеку, это ярмо. Рационалистический индивидуализм сужает мир… он сморщивается до размера мозгов. Антирационалистический индивидуализм считает, что на самом деле, несмотря на то, что индивиды действуют разумно, в целом законы развития общества, и экономики в том числе, носят иррациональный характер. И здесь единственным критерием, на основании которого те же самые предприниматели строят свои планы, являются цены: рынок сам формирует, кому и где производить. Кстати, именно антирационалистический индивидуализм лежит в основе эпистемологического оптимизма, если говорить языком Мезиса. А если говорить языком Хайека, то позволяет индивидуальные знания использовать с максимальной эффективностью. И это лежит в основе теории рассеянного знания Хайека. Мне кажется, это заблуждение в отношении так называемого рационалистического индивидуализма лежит в основе многих концепций якобы либеральных, но на деле ничего общего с либерализмом не имеющих.
И поэтому Юрий Николаевич блестяще критикует в своей книге «Опасная Россия» именно эту разновидность либерализма, которую, конечно же, нужно критиковать, но, к сожалению, он не указывает, что к истинному либерализму это не имеет никакого отношения. Поэтому рассматривать противоречия между либерализмом и гуманитарными концепциями – здесь это вряд ли было бы оправданно…
На самом деле, сегодня на политической сцене России нет ни одной политической силы, которая действительно исповедовала бы без каких-либо изъятий именно идеологию либерализма. Кроме «Либеральной России», естественно. На самом деле то, что сейчас исповедует тот же СПС, скажем, в концепции того же
Мезиса или Хайека – это интервенционистская концепция, от слова «интервенция». Собственно, СПС и не скрывает, что они являются в известном смысле продолжателями идей либерализма. Это - просто затуманивание мозгов и попытка присвоить себе или сказать, что именно они являются последователями популярного учения, на знамени которого написаны замечательные слова об индивидуальной свободе, свободе личности.
Кстати, если уж так говорить, на знамени коммунизма это тоже написано. И различия между либерализмом и коммунизмом в этом смысле – вовсе не с точки зрения декларируемых теорий, а с точки зрения методов достижения этой цели.
Теперь конкретно про «Либеральную Россию». Мы в апреле 2000-го года провели съезд и образовались как конкретное движение. Потому что тогда в еще общественной организации СПС возобладали консервативные, антилиберальные тенденции. И это проявилось практически на примере поддержки или неподдержки
Путина. Мы выступали против и не потому что нам нравится или не нравится какая-то персона. С точки зрения набора каких-то человеческих качеств Путин вполне симпатичный молодой человек. Хороший человек – почему бы ему не быть президентом. Все хорошо, но плохо, что он олицетворяет собой режим и восстановление и воссоздание всех тех прелестей, которые характерны фактически для полицейского бюрократического, а отнюдь не правового государства. И это очень опасно, и Россия становится в этом смысле очень опасной. Конечно, хорошо, что
Россия поддержала страны антитеррористической коалиции, но ведь и Сталин поддерживал антигитлеровскую коалицию, это способ выживания сегодня.
Правда, мы видим, что когда речь заходит об антитеррористической операции в Афганистане, российские руководители спешат сказать, что точно такую же операцию они проводят в Чечне. Но это уже совсем не соответствует истине, потому что природа чеченского конфликта совсем иная. Далее расхождения стали носить более принципиальный характер по другим вопросам, в частности по пунктам программ - экономическим, социальным, судебной реформы, мы все дальше и дальше уходили друг от друга. И в этой ситуации мы взяли курс на создание партии.
Создать партию сегодня без опоры на какие-либо ресурсы невозможно. Административного ресурса у нас сегодня быть не может по природе своей, это исключено, а из финансовых источников - сегодня в России имеют деньги только те, кто ладит с государством и пользуются определенными льготами от близости к власти. Понятно, что подобный капитал никогда не будет поддерживать оппозиционную партию. Мы фактически единственная партия, которая является оппозиционной. Даже коммунисты говорят, что они поддерживают Путина, но не поддерживают правительство. И мы понимаем, что в борьбе против «Либеральной России» будут использоваться всевозможные методы шантажа, давления, угроз и прочее.
Весь этот «букет» мы уже имеем: буквально несколько дней назад был разгромлен офис «Либеральной России» в Москве.
Естественно, никого не нашли. До этого был разграблен офис в Петербурге… 22 декабря у нас состоится очередной съезд движения «Либеральная Россия» в гостинице «Космос», и думаю, что на съезде мы примем решение о взятии курса на преобразование в партию. В марте 2002-го года мы проведем уже преобразовательный съезд, чтобы соответствовать требованиям «Закона о партиях», закона, который фактически является обобщением устава КПСС. Мы законопослушные люди и вынуждены подчиняться этим нормам. К марту 2002-го, надеюсь, мы сможем стать полноценной партией.
Никогда лидеры СПС не стремились к реальному объединению с «Яблоком», равно как и сами лидеры «Яблока». Это было требование общественности. Но, на самом деле, каждая из партий (СПС в большей степени, во всяком случае я это видел изнутри) просто декларировала этот объединительный процесс, но он завершился только образованием коалиционного совета в Госдуме - решение, которое, в общем-то, не является обязательным для этих фракций. Понятно, почему это произошло. «Яблоко» потерпело сокрушительное поражение на этих выборах, а СПС вроде на подъеме и все прочее.
Действительно, это кризис (В «Яблоке». - Сост .)... На первых порах было не видно, как этот кризис преодолевать. Поэтому на самом деле я понимаю, почему «Яблоко» вынуждено голосовать за бюджет. Существует угроза, что могут перекрыть все ресурсы поддержки «Яблока», и они не преодолеют 5процентный барьер, и поэтому лидеры готовы были идти на объединение с СПС. Лидеры СПС, ошалевшие от счастья от такой победы, считали, что они сейчас быстренько возьмут в плен,
«проглотят» «Яблоко» - и тогда это будет единая партия.
Но это ведь коварная штука: опросы общественного мнения стали говорить о том, что популярность «Яблока» растет, а СПС
– падает… И я думаю, что сейчас ни о каком объединении СПС и
«Яблока» речи быть не может. Несмотря ни на какие компроматы, которые сейчас идут на Явлинского и его партию, рейтинг тем не менее у «Яблока» вполне приличный. Я думаю, эти две партии пойдут самостоятельно на выборы, при этом Кремль больше, конечно, будет поддерживать СПС.
Не исключено, что «Либеральная Россия» может играть роль посредника между СПС и «Яблоком», а может быть и вполне самостоятельный блок. Сегодня делать прогнозы в отношении 2003-го года бессмысленно, тем более, что ходят упорные слухи, что выборы будут досрочные…
О.В. Морозов
(Депутат Государственной Думы РФ, руководитель парламентской группы «Регионы России»)
11 марта 2002 г.
…Становление многопартийности в России - процесс достаточно противоречивый. Скажу, что я был одним из тех немногих депутатов Государственной Думы, которые активно критиковали тот закон о политических партиях, который сегодня приняла Государственная Дума. А приняла она его оглушительным большинством; если не ошибаюсь, за него голосовали почти как за конституционный закон; по крайней мере, до третьего чтения его поддерживали и правые, и левые. Прежде всего потому, на мой взгляд, что этот закон писался и делался для уже существующей политической системы, для тех политических организаций, которые за эти годы сформировались, возникли. И я совершенно честно могу сказать, что в том виде, как он сегодня написан и вступил в силу, этот закон в равной степени хорош для КПРФ, ЛДПР, «Яблока», то есть для тех политических партий и организаций, которые имеют уже некую политическую традицию, политический опыт. И, на мой взгляд, закон достаточно бюрократичен, дает слишком много прав чиновнику для того, чтобы в России можно было создавать политическую партию, не думая о том, как на тебя посмотрят в ближайшем отделении юстиции…
Мы принимаем политическую жизнь такой, как она есть:
закон существует. Этот закон фактически предписывает несколько важных вещей. Первое: он предписывает то, что субъектом избирательного процесса в России становится фактически только политическая партия. То есть никакая другая общественная или общественно-политическая организация, союз общественнополитических организаций не могут быть субъектом законодательного процесса. Хочешь избираться - ты должен, (если иметь в виду выборы по партийным спискам) обязательно идти от политической партии или от избирательного блока, в котором есть политическая партия. До того, как этот закон появился, такой нормы в России не действовало и в каждые выборы у нас появлялось множество различных организаций, которые предлагали себя избирателю. Конечно, это было плохо, так как, например, в 95-м году было 43 организации. Они возникали буквально накануне выборов. И, вроде бы, говорилось, что закон о партиях должен положить конец этой вакханалии, избиратель должен понимать, с кем он имеет дело, кто перед ним будет отвечать после выборов, и за кого он, собственно, будет голосовать. И в этом смысле такой закон был нужен.
Вторая новация, которую содержит этот закон, это новация, довольно своеобразная для России, являющейся федеративным государством, а именно: этот закон запрещает наличие региональных политических партий. В России могут существовать только федеральные партии.
Вообще мировая политическая традиция несколько иная, и я до сих пор стою на той точке зрения, что в России, федеративной, многонациональной, многорегиональной стране, обязательно должны быть какие-то правила, которые позволяют действовать региональным политическим партиям, решающим свои, узкорегиональные задачи. Они могут не выдвигать своих кандидатов на федеральных выборах, но, думаю, политические организации регионального или межрегионального типа (это вопрос дискуссионный) в России должны существовать. Между тем данный закон как бы поставил точку в этой дискуссии.
Сегодня в любом регионе, на любых выборах могут действовать только федеральные партии. Кстати, сейчас обсуждается, чтобы уже на ближайших возможных выборах в течение года система пропорциональных выборов была распространена и на регионы. Ну, вы знаете, что у нас в федеральные органы власти, то есть в Законодательное Собрание
России, в Государственную Думу депутаты избираются по двум категориям: одни - в округах, вторые - по партийным спискам, пополам — 50 на 50. В регионах эта норма как универсальная не действовала. Теперь предполагается, что и в регионах законодательные органы власти будут избираться в том числе на смешанной основе; какая-то часть (тут спорят, 30 процентов депутатов или 50 процентов депутатов данного законодательного органа власти) будет избираться по партийным спискам. Что это будет означать на практике? На практике это будет означать следующее: допустим, если завтра, после принятия этого закона, в каком-нибудь субъекте Российской Федерации происходят выборы, то в них могут участвовать только федеральные политические партии. Независимо от того, существуют или не существуют реальные партийные структуры у данной организации, насколько они влиятельны в данном регионе - они могут претендовать на места в парламенте по партийному списку.
Вот та ситуация, с которой мы имеем дело. И в этой связи, естественно, возник вопрос: а кто в ближайшем будущем будут эти финалисты, которые выйдут на финишную прямую и будут участвовать в выборах? С одной стороны, совершенно очевидно, что, в соответствии с этим новым законом, в качестве политических партий зарегистрируются те партии, которые вам хорошо известны и которые были участниками практически всех избирательных кампаний последнего десятилетия. Для удобства, если позволите такой некорректный политологический термин, я их буду называть традиционными политическими партиями.
Кого же можно сегодня отнести к этим традиционным политическим партиям, и кто, с моей точки зрения, обязательно будет участником грядущих избирательных баталий?
Это, безусловно, самая крупная политическая партия в
России - КПРФ. Я говорил неоднократно, что Россия до недавнего времени оставалась страной однопартийной политической системы. То есть, несмотря на то, что у нас были многочисленные организации, которые называли себя политическими партиями, реально как политическая партия в России работала именно КПРФ.
И я как человек, который трижды избирался в избирательном одномандатном округе, это прекрасно знаю. Можно прийти на любую ферму, в любой клуб любой деревни для встречи с избирателями, и там в зале обязательно будет сидеть человек, который имеет четкую инструкцию: как себя вести, как голосовать, как говорить по тем или иным вопросам, которые сегодня волнуют людей. Потому что он - член КПРФ, у него есть общероссийская газета, которая его инструктирует, что нужно говорить по тому или иному поводу. Инструкции даются сверху, позиция очень четкая, понятная, сведенная к очень простым лозунгам и правилам, и люди четко им следуют как сторонники этой партии.
На правом фланге у нас сегодня - СПС («Союз правых сил»), хотя эта партия как партия существует недавно. Но, безусловно, это партия, наследующая определенную политическую традицию, начинающая свой отсчет от начала 90-х годов, с наших первых демократических преобразований («Демократический Выбор России» и «Наш Дом — Россия»), отстаивающую либеральные ценности. Это классическая, с моей точки зрения, партия, правая партия, партия либералов, имеющая не только какие-то российские, но и мировые корни, потому что идеи либерализма универсальны.
Сегодня эти идеи живут в Европе. СПС - классическая партия, может быть, не такая традиционная для России, потому что ей всего десять лет (и даже не как партии, а как организации). Тем не менее она традиционна, потому что у нее есть классическая идея, есть свой избиратель, на мой взгляд, не очень многочисленный (я не представляю себе ситуацию, когда в
России либеральная идея становится идеей победоносной), но эта идея имеет своих четких, последовательных и достаточно постоянных сторонников. Поэтому у этой партии есть политическое будущее и она будет постоянным участником тех политических процессов, которые происходят в России.
Я бы отнес к традиционным политическим партиям и партию «Яблоко», хотя, на мой взгляд, сейчас эта партия переживает некие проблемы, связанные с необходимостью четкого политического позиционирования. То есть, где она, эта партия, какую нишу в политическом спектре России занимает эта партия.
Потому что если правые открыто себя позиционируют и говорят о своей приверженности либеральным ценностям, то у партии «Яблоко», с моей точки зрения, есть некая проблема. Так как, с одной стороны, это партия, безусловно исповедующая правые либеральные ценности, с другой - партия, которая часто выходит на площадку, которую принято считать социал-демократической. А ведь избиратель в России достаточно консервативен, и ему нужны очень понятные объяснения и ответы на те вопросы, которые он задает. Поэтому, на мой взгляд, неизбежно сближение «Яблока» с СПС. Это две организации, которые будут в целом занимать правый либеральный фланг той политической мозаики, которая есть сегодня в России.
У нас всегда участником избирательного процесса была партия ЛДПР. Мы с вами помним, что на выборах 93-го года по спискам ЛДПР набрала наибольшее количество голосов среди всех участников. Они не были самой большой фракцией в
Государственной Думе, так как у них не было победы в одномандатных округах, но по списку они заняли первое место среди всех политических организаций. Вы помните тогда фразу одного известного российского публициста, который сказал после этих выборов: «Россия, ты одурела!» На мой взгляд, Россия не может «одуреть». Если нашлось 23 процента людей, которые пришли к избирательным урнам и опустили свои бюллетени в поддержку господина Жириновского, - значит, в стране происходит что-то такое, из-за чего 23 процента готовы голосовать за Жириновского. Я вообще считаю, что выборы 93-го года были «выборами политического шока». Это был политический шок, который переживала страна после октябрьских событий, расстрела парламента из танков, в общем-то вещи уникальной, которая не могла не сказаться на результатах выборов, на том, как голосовали люди после этого.
Что касается партии Жириновского, то, на мой взгляд, это - явление, если брать не столь отдаленную историческую перспективу, достаточно вечное. Эта «партия пяти процентов», которая всегда будет претендовать на то, чтобы эти пять процентов, которые необходимо преодолеть, все же осилить. Пусть чуть-чуть, но найти пять процентов избирателей, которые будут поддерживать эти идеи. Какие идеи стоят за ЛДПР, мне очень трудно сказать, потому что это, с точки зрения какой-то политической доктрины, совокупности каких-то взглядов и идей,
- явление трудноуловимое. Но этому явлению однажды дал очень точное определение другой известный российский политик -
Лебедь. Когда он появился на политической сцене России как личность, он сформулировал известный лозунг «За державу обидно!» Вот господин Жириновский очень умело эксплуатирует тему «обиды за державу». В этом - все то, что не нравится людям, что происходит в стране, с точки зрения места России в мире, ее взаимоотношений с другими странами, самоощущений человека, когда он переезжает через пограничные столбы и видит, что, например, страна, над которой была одержана победа в Великой отечественной войне, живет на несколько порядков лучше, чем он представляет. Эта идея очень болезненная, на которой можно легко играть. И всегда есть некое количество людей, которые будут поддерживать эти взгляды. Во многом эти взгляды замешаны на великорусском шовинизме, на неких имперских амбициях, но эти взгляды тем не менее у маргинальных слоев населения существуют. Именно в этом успех партии
Жириновского, хотя я думаю, что на предстоящих выборах эта партия будет вести очень трудную борьбу за преодоление пятипроцентного барьера.
Ну и, плюс к этому, на каждом из этапов нашей политической жизни появлялось то, что принято называть
«партией власти». На первых выборах эту роль исполнял
«Демократический выбор России», на вторых - партия «Наш Дом -Россия». В 99-м году даже трудно сказать, кто эту роль исполнял. Будем считать, что движение «Единство», созданное буквально накануне выборов. Ну, уж никак нельзя ни НДР, ни
«Единство» отнести к традиционным, классическим партиям.
Что же у нас получается? Если мы посмотрим на нашу сегодняшнюю политическую жизнь, то увидим явление, которое требует своего ответа, в том числе ответа с точки зрения партийного строительства. Вот есть традиционные партии, и элементарная арифметика показывает, что они на каждых выборах собирают менее половины процентов голосов наших избирателей. Возникает вопрос: а за кого голосуют другие, в среднем, 55 процентов? Я сейчас не беру особые выборы 93-го, но выборы 95го и 99 годов показывают, что большинство избирателей не голосуют за традиционные партии, а пытаются каждый раз по- разному определить свои симпатии и проголосовать за что-то или за кого-то, кого они считают сегодня «своим» и кому бы хотели доверить будущий российский парламент.
Это - своеобразное, может быть, чисто российское, явление, связанное с тем, что мы еще находимся в переходной стадии и не сформировали еще нормальную партийную и политическую систему страны в целом. Но мы должны задуматься о том, что каждый раз большая половина наших сограждан голосует за что угодно, за кого угодно, но не за тех, кто вот уже десять лет на политической сцене и кого они хорошо знают.
Понятно, что это голосование - протестное: «Мы за этих голосовать не будем, так как все уже про них знаем!» Я это говорю не в уничижительном ключе, не хочу тем самым бросить тень на эти политические организации, серьезные организации.
Честь им и хвала, что они сумели стать таковыми в течение этого очень непростого периода. Но от статистики никуда не деться: большинство не голосует за них, голосуя по самым разным принципам. Причем на одних выборах голосуют за одного, на других - за другого.
В этой связи мы можем задать более глобальный и принципиальный вопрос. Вообще, все эти партии - партии классической доктрины и идеи. Ведь кто такие коммунисты? Это партия социальной справедливости. А правые - партия, которая всегда голосует за общество равных возможностей, за то, что права личности должны быть выше, чем общества и государства в целом. То есть за каждым из них есть классическая идея, доктрина. Но правомерно ли идти в XXI столетие и формировать партии, которые будут исповедовать вот эти классические доктрины и звать под эти доктрины своих сторонников, заставляя их голосовать за эти идеи на выборах? Почему в России никак до конца не может подняться и созреть, казалось бы, такая привлекательная и существующая в мире идея - идея социал- демократии? Сегодня социал-демократы управляют Европой. В большинстве стран Европы они - у власти. В России все попытки создать мощное социал-демократическое движение, как правило, заканчиваются безрезультатно. Появляются какие-то организации - например, сегодня есть несколько организаций, пытающихся стать политическими партиями и называющих себя социал- демократическими, - но все данные показывают, что у них очень немного шансов. На мой взгляд, два ответа есть на этот вопрос, почему так происходит.
Ответ первый: потому что это делается в России, а Россия отличается от всех других стран тем, что в ней очень велико влияние коммунистов, которые фактически занимают весь левый фланг. Они как бы поглощают собой и те идеи, и те социальные группы, которые традиционно должны были бы голосовать не за коммунистов, а за социал-демократов. Вот коммунисты заняли всю эту нишу. И попытаться взять на себя представительство левой идеи в России очень непросто.
Но есть, на мой взгляд, и второй ответ на этот вопрос.
Сегодня пытаться в России сформировать классическую партию с классическими европейскими идеологиями невозможно. Более того, я утверждаю это, зная процесс развития политических партий в
Европе. Смею утверждать, что в Европе сегодня нет классических социал-демократов и нет классических консерваторов. Ведь что такое сегодня социалисты, социал-демократы, лейбористы (в общем, как угодно их назовите) Великобритании? Это партия, которая после многих лет сменила у власти консерваторов, которые были крайне успешны как правящая партия и проводили очень эффективный курс, но проиграли выборы. И вот к власти пришли их, казалось бы, политические антиподы. Что делают эти политические антиподы? Они начинают проводить тот курс, который до них проводили их оппоненты, понимая, что он гораздо более эффективный. Да, они облекают этот курс в несколько иную риторику, они облекают этот курс в несколько иные лозунги, но проводят тот курс, который, с их точки зрения, является наиболее эффективным, и для них это гораздо важнее, чем политические знамена или политические программы, которые за этим стоят. И сегодня это происходит повсеместно.
Более того: сегодня, как мне кажется, происходит то, что политические организации и партии в мире, особенно в Европе
(и, я полагаю, что это - и наше будущее), перестают быть традиционными и классическими. Они становятся партиями некой политической традиции, которую они наследуют. Пример -еврейская диаспора в США, как правило, голосует за демократов.
Можно долго разбираться, почему это так. Видимо, когда-то к этому были серьезные основания. Сегодня это уже некая политическая традиция.
Что такое сегодняшняя политическая партия помимо политической традиции? Это - набор неких символов, клише, с которыми ассоциируется эта партия. И она от них не отказывается, она может их не исполнять, понимая, что это неисполнимо или устарело. Но это - некая традиция. Сегодняшние политические партии - это, конечно, партии лидеров, либо действующих, либо бывших. Скажем, Христианские демократы в Германии - это партия Конрада Аденауэра, безусловно. Послевоенное восстановление - отсюда они ведут свое начало. А кто такие социал-демократы? Конечно, это партия Вилли Брандта как наиболее выдающегося социал-демократа.
Я сам несколько раз сталкивался с удивительными вещами. Когда вы приходите в американскую или обычную европейскую семью и спрашиваете: «А за кого вы голосуете на выборах?», вам отвечают: «Я голосую за республиканцев». - «А почему вы голосуете за республиканцев?» - «Потому что за республиканцев голосовал мой дед, мой отец. Это традиция моей семьи». И если вы начнете его спрашивать, хорошо ли он знает программу
Республиканской партии или какую идеологическую доктрину отражает эта партия, то он вряд ли внятно ответит на этот вопрос. Да, он следует некой политической традиции.
В этой связи я считаю, что в России серьезное политическое будущее за партиями, которые будут учиться на уроках мировой политической истории и будут формировать не столько партию политической доктрины, идеи, сколько партию конкретных целей; предлагать эти цели обществу, предлагать механизмы достижения этих целей и просить кредит доверия для того, чтобы эти цели реализовать. И если я формулирую некие задачи и цели, которые нравятся избирателю, то мне глубоко безразлично, более «левый» или более «правый» этот избиратель. Ведь как только я начинаю размышлять в этих традиционных терминах и говорить, например, «я больше левый» - от меня уходит один избиратель. Когда я говорю, «я больше правый» - от меня уходит другой избиратель. А если я говорю, что хочу поставить такую-то задачу, очень конкретную и осязаемую?
Например, создать систему, при которой доходы государства напрямую увязаны с доходами гражданина: чем выше зарплата, тем выше доходы государства и больше возможностей перераспределять эти доходы и тем самым решать любые социальные проблемы. Какая это идея? В какую доктрину она вписывается? В социал- демократическую или в консервативную?
Я могу утверждать, что сегодня в США, стране «классического» капитализма, разработано гигантское количество социальных программ, которые находятся под строжайшим контролем профсоюзов. И с классической точки зрения - это социализм, если говорить в наших терминах. Но это далеко никакой не социализм, это действительно реалии постиндустриального общества - общества, которое понимает, политическая элита которого понимает, что нормально развивается только то общество, в котором равенство достигается за счет неравенства. Ведь распределение всегда неравное: от богатого - к тому, кто небогат, от того, кто может сам себя обеспечить, - к тому, кто не может.
Ну, конечно, надо строить не такое общество, как у нас, когда все живут за счет льгот, и никакое государство не может прокормить такое количество льготников. Это - абсурдная система, которая сложилась в нашей стране. Конечно, это унаследовано от прошлого, но и сами мы приложили к этому немало усилий.
Так вот, мой тезис как раз и состоит в том, что время классических партий, на мой взгляд, уходит в прошлое. Поэтому когда появляется такая организация, как «Единая Россия», которую я сегодня представляю, нам говорят: «Да вы не партия!
Потому что мы привыкли партии воспринимать вот так». Мы говорим: «Конечно, в этом смысле мы не партия». Нам говорят:
«А покажите нам вашу политическую доктрину. Что конкретно вы будете отстаивать как политическая партия?». Мы им: «Пожалуйста». И можем сказать им то же самое, что говорят другие. Потому что плохих программ не бывает. Я читал все программы всех политических партий. По поводу каждой из них, в том числе программы КПРФ, в той части, где это обращено к нашему с вами сознанию, к эмоциям и чувствам, я готов ей аплодировать. Ведь разве идея социальной справедливости -плохая идея? Это замечательная идея. Вопрос лишь в том, какой смысл мы вкладываем в понятие «социальная справедливость». Или когда либералы говорят: «Мы - за общество равных возможностей.
Каждому надо дать возможность себя реализовать. Вот вы только дайте эту возможность, а дальше люди сами все сделают». В принципе, это замечательно, но только люди, к сожалению, не равны. Один может, а другой не может. И ясно, что к последнему должно быть иное отношение. Вот тебе и равные возможности^
Поэтому, на мой взгляд, наступает время партий, которые формулируют достаточно универсальные цели, а главное - предлагают эффективные механизмы их достижения. И поэтому когда нам говорят: «Вы - партия власти?», то это вопрос, который требует достаточно глубоких и неформальных размышлений. Партия власти с той точки зрения, что власть
«патронировала» этому политическому проекту? Да, давайте согласимся с этим. Патронировала. Никто этого не скрывает. Как вы видите на экранах, Путин встречается со всей фракцией
«Единства» и почему-то не встречается со всей фракцией КПРФ.
Тем самым он как бы публично демонстрирует свои симпатии. Или
Путин накануне выборов 99-го года говорит, что будет голосовать за «Единство». Всем понятно, с кем и против кого власть. В этом смысле да, это - партия власти.
Кроме того, это партия власти и с другой точки зрения. До сегодняшнего дня ни одна политическая организация не располагала таким властным ресурсом, каким располагает «Единая Россия». Я не хочу сейчас говорить о президенте. Президент дистанцируется от всех политических организаций в меру того, как он хочет дистанцироваться. Но 166 депутатов Государственной Думы являются членами партии «Единая Россия». Ни у НДР, ни у КПРФ в самые лучшие, «звездные» часы их пребывания в парламенте, не было такого ресурса. И, конечно, это - ресурс, который можно использовать, чтобы проводить законы до выборов, а потом рассказывать избирателю, как хороши эти законы и как ему стало хорошо жить. И мы их провели. И если эта партия сможет убедить избирателя, и если эти законы действительно хороши, то, наверное, избиратель будет голосовать за эту партию. Эта партия, безусловно, имеет своих сторонников в правительстве, оказывает на них давление при принятии каких-то управленческих решений. Это тоже здорово.
Но если эта партия попытается расценить этот ресурс так же, как его расценили в свое время некие другие организации, которые претендовали на роль «партии власти» (такие, как
«Демократический Выбор России», «Наш Дом - Россия»), тогда этот проект абсолютно провален. Если же действительно формируется политическая партия, которая борется за власть, а все политические партии борются за власть, у нее просто ресурс побольше, и она доказывает, что в состоянии серьезно бороться за власть, тогда будем считать, что этот проект удался. И если мы еще раз с вами встретимся, то поговорим о том, что я называю универсальными идеями, партией цели, а не партией политической доктрины. Мы попытаемся предложить это российским гражданам, чтобы они поверили в этот проект...
Да, были программы, были обещания, в том числе и те, которые сегодня благополучно забыты. Ведь уже и организаций этих нет (НДР, например), да и никто не шел в то время на выборы в расчете на то, что потом ты будешь отвечать за эту программу. Нужды такой не было. Играли в выборы, а не в политический долгосрочный проект. И многие организации создавались только специально для выборов. «Создать, поучаствовать и умереть» - очень удобно. Кстати единственное, на мой взгляд, преимущество закона о политических партиях состоит в том, что если сегодня ты создаешь федеральную партию, участвуешь в выборах и приходишь через выборы в Государственную Думу, и если ты дальше хочешь существовать в политике, ты должен сохранить этот проект, а значит, отвечать перед тем избирателем, который за тебя голосовал...
Вопрос: Не считаете ли вы, что многопартийность приводит к некоторой безответственности? Много программ, много партий… Отсутствие реальной многопартийности, я считаю, - прямой путь к безответственности политических организаций. И мы как раз прожили, на мой взгляд, минувшее десятилетие в состоянии этой политической безответственности, когда общественные организации, в том числе и партии, возникали не потому, что они должны выразить интересы определенных социальных групп, отстаивать эти интересы, добиваясь их реализации, а потому что нужно было выиграть выборы. В России возникли целые технологии, как создать организацию перед выборами, как для этого получить деньги, как «поиграть» в выборы, при этом совсем не обязательно выиграть. На этом зарабатывают различные PR-компании, технологи, которые «ведут» каких-то депутатов. Выборы состоялись, деньги поделили и разбежались. Более того: я даже слышал такую версию, что очень часто в России политическая игра на досрочный роспуск Государственной Думы затевается только потому, что есть структуры, заинтересованные в том, чтобы были выборы и чтобы на выборах заработать, используя некие избирательные технологии. Я считаю, что отсутствие нормальной многопартийности ведет к безответственности. Формирование нормальной многопартийности -путь к тому, что появляются ответственные партии, отвечающие перед своим избирателем, не пропадающие через пять лет после выборов. Которые еще раз идут к этому избирателю и просят поддержки. Если такая партия не смогла доказать, что она эффективно работает на избирателя, избиратель за нее не голосует, а это и есть самый высокий механизм подтверждения или неподтверждения ответственности данной партии, ее результативности. Поэтому с этой точки зрения, единственный плюс данного закона я вижу в том, что мы направили этот процесс в некое организованное русло, и хочешь - не хочешь, но сегодня надо участвовать в этих политических проектах.
Я даже думаю, что если останется нынешняя избирательная система, то партии настолько жестко будут работать с одномандатниками, что даже человеку, который не захочет идти от партии в округе, будет выгоднее согласиться с тем, что он получает поддержку какой-то партии, нежели пытаться с ней конкурировать. Я думаю, что выборы в округах при нынешней системе будут гораздо более жесткими и мало кому позволят бороться как «независимому кандидату» с мощной политической машиной, которая будет делать ставку на другого кандидата.
Что касается двухпартийной системы, то, мне кажется, в ближайшее время России это не грозит. Я знаю, что есть
«горячие головы», которые хотят технологически сделать в
России двухпартийную систему. Не объективно чтобы она возникла, не как результат развития нашего общества, а сделать так, что на выборы попадут только две партии, а остальных отсекут. Но я считаю, что это - абсолютно порочный путь и им ни в коем случае нельзя идти, тем более нельзя включать бюрократические механизмы, чтобы это случилось. Этот процесс должен быть естественным. Я думаю, что не один десяток партий зарегистрируется по новому законодательству, но вряд ли больше десяти будут реальными участниками избирательного политического процесса. А уж если говорить, сколько из них преодолеет пятипроцентный барьер, то, думаю, их будет не больше, чем сегодня, а, может быть, даже меньше. Поэтому я сторонник такого эволюционного, естественного развития этого процесса в России.
Вопрос: Уживется ли парламентаризм с традициями нашей российской государственности?
Я считаю, что традиции парламентаризма в России уже есть.
У нас, конечно, не самый влиятельный парламент с точки зрения его возможностей и соотношения его веса с исполнительной, президентской властью. Безусловно, в этом смысле у нас не самый влиятельный парламент в мире. Но традиции парламентаризма существуют. Кто как будет агитировать. Если это будет в рамках закона, в том числе если таковое позволено президенту, то в этом я проблемы не вижу. Но, на мой взгляд, традиции парламентаризма состоят в том, что граждане совершенно осмысленно, придя на выборы, начинают голосовать за те или иные политические организации. В этом и состоит нормальная традиция парламентаризма, если иметь в виду процедуру выборов, а не действия самого парламента. В этом смысле мы медленно, но неуклонно идем к этому. И пытаемся сформировать нормальную многопартийную систему, чтобы гражданин действительно осознанно голосовал на выборах, знал, за кого он голосует, а не искал каждый раз в бюллетене какую-то организацию, которая ему понравилась, потому что «лидер хороший». Поэтому мне кажется, что традиции парламентаризма в России пока в безопасности.
Вопрос: Как вы расцениваете процесс строительства партии «Единая Россия»? Учитывая, в частности, достаточно неожиданные, в чем-то даже эпатирующие заявления Суркова и некоторых других... Как вам видится этот процесс?
Я здесь вряд ли могу дать объективную оценку, поскольку я нахожусь внутри этого процесса, я не наблюдаю за ним со стороны. На мой взгляд, этот процесс идет очень противоречиво, и эта противоречивость связана именно с тем, что традиционная схема построения политической партии к этому проекту не применима.
Начну с самого очевидного. В партию объединяются три организации, которые еще два года тому назад довольно жестко конкурировали на выборах. Гораздо более жестко, чем со своими объективными оппонентами. Схватка между «Единством» и ОВР была гораздо более беспощадной, чем между, например, «Единством» и коммунистами. Поэтому когда сегодня объединяются три организации - хорошо только «наверху». Садятся за один стол Шаймиев, Шойгу и Лужков. А как это происходит в регионах? В регионах это происходит весьма противоречиво, эта притирка заняла гораздо больше времени, чем, как нам казалось, она должна была занять. Но сейчас этот процесс завершен. Фактически во всех субъектах федерации созданы региональные организации, мы уже перешли тот момент, когда каждый вспоминал, откуда он «родом». И в этом смысле этот процесс идет достаточно конструктивно и, я бы даже сказал, спокойно.
Второе. Конечно, проблема «Единой России» - это проблема ожиданий и реалий. Говорят: «Раз вы - партия власти, раз вы такие сильные, мощные, то, будьте любезны, докажите, что вы -партия власти». А что доказывать? Мы не партия власти. Мы даже в Думе, если говорить о чисто партийной принадлежности, не являемся большинством. У нас есть соратники, не входящие в партию, вместе с которыми мы при необходимости добиваемся 226-ти голосов, что нужно для прохождения тех или иных решений. Но даже в Думе партия не является партией большинства. Поэтому проблема партии «Единства» - это проблема завышенных ожиданий.
Не надо от нее ждать чего-то такого, чего вы сегодня не ждете от других формирующихся партий. Не надо ждать от нее какой-то «бешеной» массовости в ближайшее время. Да, эта массовость появится. Но мы где-то даже искусственно сдерживаем сейчас этот процесс, потому что это как раз тот этап, когда нужно просто отмобилизоваться, создать реально действующие дееспособные структуры. Что касается оценок со стороны, то я к ним тоже достаточно спокойно отношусь. Например, я бы очень удивился, увидев любовь журналистов к этому политическому процессу. По определению, не может журналист, который хочет, чтобы его читали, писать хорошо об организации, которую называют партией власти. Он и пишет соответствующим образом. На мой взгляд, ничего страшного в этом нет.
Оценки Суркова - объективные оценки. Они связаны с тем, что есть потенциальный ресурс и есть реальное воплощение этого ресурса. Пока эти две вещи не соответствуют одна другой.
Партия пока не соответствует тому ресурсу, который у нее есть. Значит, надо, чтобы она соответствовала. Мы этим и занимаемся. Поэтому я оцениваю это как процесс очень противоречивый, имеющий огромное количество проблем, недостатков, наверное, как и любой организм, который растет и пытается занять свое место в этом мире...
Составители: Н.В. Елисеева,
Я.Л. Писаревская,