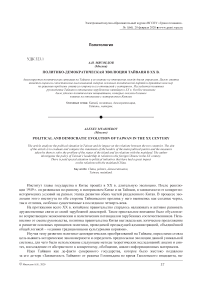Политико-демократическая эволюция Тайваня в XX в
Автор: Мясоедов Алексей Иванович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 1 (66), 2020 года.
Бесплатный доступ
Анализируется политическая ситуация на Тайване и ее влияние на отношения между двумя странами. Целью статьи является оценка и сопоставление высказываний лидеров основных политических партий и принятых ими мер по решению проблемы статуса острова и его отношений с материком. Исследуется политика руководства Тайваня в отношении зарубежных китайцев в XX в. Особое внимание было уделено политическим инициативам, которые оказали большое влияние на отношения с материковым Китаем
Китай, политика, демократизация, тайвань, материк
Короткий адрес: https://sciup.org/148311023
IDR: 148311023 | УДК: 323.1
Текст научной статьи Политико-демократическая эволюция Тайваня в XX в
Институт главы государства в Китае прошёл в XX в. длительную эволюцию. После революции 1949 г. он развивался по-разному в материковом Китае и на Тайване, в зависимости от конкретноисторических условий на разных этапах развития обеих частей разделенного Китая. В процессе эволюции этого института по обе стороны Тайваньского пролива у него выявились как сходные черты, так и отличия, особенно существенные в последнюю четверть века.
На протяжении всего XX в. китайское правительство старалось налаживать и активно развивать дружественные связи со своей зарубежной диаспорой. Такое пристальное внимание было обусловлено возрастающим экономическим и политическим потенциалом зарубежных соотечественников. Независимо от смены руководства, политика правительства Китая выглядела как логическое продолжение и развитие основных принципов политики, проводимой предыдущей администрацией, объединённой общей логикой – «одними традиционными культурными корнями».
Изучая тему развития политико-демократических преобразований на Тайване, перед нами стояла цель выявить исторические закономерности и определить предпосылки эволюции данной уникальной системы, для чего были использованы следующие методы теоретических исследований: анализ и синтез, восхождение от абстрактного к конкретному, обобщение, анализ информационных материалов.
Идея Тайваня как де-факто суверенного государства, которое было жестоко подавлено за его де-юре «Зависимость Тайваня» от режима Гоминьдана во время Гаосюнского инцидента, на- чало появляться на политической платформе оппозиционного лагеря в начале 1980-х годов. Хотя это было замаскировано как основное право человека в демократической системе, а не прямое требование о продолжении независимости Тайваня, требование самоопределения тайваньского народа в платформе кампании 1983 г. Данг-ваем (буквально, вне партии Гоминьдан), тем не менее, подготовил почву для возникновения альтернативного национальной идеи на общественно-политической арене. Неудивительно, что требование о самоопределении Тайваня было истолковано как радикальный акт открытой пропаганды независимости Тайваня консервативной фракцией внутри правящей КПП, особенно сектора безопасности, который выступил с применением более агрессивных репрессивных мер против оппозиции [4].
Поскольку новое поколение поднялось, чтобы бороться за лидерские роли в оппозиционном лагере после 1980 г., некоторые вновь появившиеся радикальные группировки переняли то, что Лу оставил в своей запрещенной книге 1979 г. и начал предлагать альтернативное национальное воображение, которое показало, что Тайвань как суверенное государство противодействовало эффективности китайской национальной идеи режима КПП в отказе от реализации полной демократии [1].
Связанное с этим изменение, которое последовало за появлением нового национального воображения, стало новым способом обеспечения справедливых политических прав для его граждан. Поскольку недавно появившееся тайваньское национальное воображение определило тайваньские и оффшорные острова как нормативную границу суверенного государства, это повлекло за собой новый стандарт. Таким образом, в новых тайваньских национальных системах материальные ресурсы теперь воспринимаются как граждане. Все права защищены и охраняются законом. Поскольку жители материков составляли менее 14% населения Тайваня, оппозиционный лагерь видел их чрезмерное представительство и в большинстве случаев подавляющее доминирование в своей политике, что свидетельствует о преднамеренной и систематической дискриминацией режима Тайваня в отношении местного населения и в средствах массовой информации. Хотя мы никогда не сможем точно знать, почему режим КПП позволил этому типу аргументов регулярно появляться в средствах массовой информации и даже в Национальном конгрессе в настоящее время, его последствия, вызвавшие противоположный аргумент оппозиционного лагеря, были, тем не менее, вполне очевидны [2].
После того, как ДПП объявила о своем учреждении в 1986 г. и заняла 11 мест в законодательных органах на выборах 1986 г., этнические вопросы стали предметом горячих дебатов на Национальном конгрессе в 1987 г. Хотя руководители оппозиционных кампаний уже давно бросают вызов режиму КПП, чтобы исключить тайванцев из справедливого политического участия, они вновь подняли этот вопрос на сессиях конгресса 1987 г. в оборонительной манере, т. е. отвергли аргумент этнических меньшинств, сделанный учеными из Маунтленда и политическими элитами. Эти дебаты были подробно освещены газетами, и они вызвали первую открытую дискуссию по этому вопросу в 1950 г.
Во время этих дебатов оппозиционный лагерь предложил новую концепцию этнического равенства, чтобы отвергнуть аргумент материков как этнического меньшинства на Тайване. Недостаточное представительство тайванцев в Национальном конгрессе (17%), высокопоставленные государственные должности (14%), центральный комитет Гоминьдана (13,6%), высокопоставленный военный персонал (4,3%), полиция (7,3%), и президенты университетов (25%) были раскрыты путем подсчета списков персонала этих учреждений, чтобы проиллюстрировать недостатки тайванцев как подлинного этнического меньшинства на Тайване. Демографический профиль тайванцев, составляющих 85% населения Тайваня, вместо того, чтобы требовать больше тайваньского представительства, был специально использован в качестве новой основы для оценки степени этнического неравенства на национальном уровне [11]. Возможная причина, по которой молодые элиты Mainlanders игнорируют эти «очевидные» факты этнического неравенства, состояла в том, что они сделали чрезмерное представительство Mainlanders в национальных учреждениях само собой разумеющимся, потому что они по-прежнему принимали китайскую национальную идею. Напротив, новый стандарт оценки этнического полити- ческого равенства, предложенный ДПП, был разработан на основе неявного предположения о том, что Тайвань является де-факто суверенным государством [4].
Хотя спрос на независимость Тайваня по-прежнему был неприемлем для большинства тайванцев в 1980-х годах, требования к более этническому политическому равноправию в фактическом суверенном государстве Тайвань, которое было основной сущностью новой этнической концепции, начавшейся в 1987 г. стали уделять больше внимания тайванцам. В частности, стареющие жители Май-нлендера Национального конгресса, которые проработали почти 40 лет с 1948 г. без переизбрания и все еще составляли большинство мест в Национальном конгрессе, были очень заметной и легкой мишенью для политических реформаторских требований оппозиционного лагеря. ДПП запустил новую кампанию по переизбранию всех мест в Конгрессе в ноябре 1987 г., организовав серию массовых митингов и демонстраций [8]. Растущее давление на реформирование Национального конгресса превратило некогда гордый «символ легитимности», представляющий весь Китай в политическую ответственность за режим Гоминьдана. Вопрос о правящем режиме КПП в это время состоял не в том, реформировать ли Национальный конгресс, а в том, насколько будут неизбежны реформы. Лагерь оппозиции начал предлагать наиболее радикальный пакет реформ: все места в Национальном конгрессе должны были избираться избирателями на Тайване, и никакие специальные места для представления китайских провинций на материке не должны резервироваться на новом конгрессе. Однако режим КПП весьма неохотно пошел на такие уступки по данным вопросам.
Символическое значение этой проблемы можно дополнительно проиллюстрировать путем пересмотра критических изменений в демократическом переходе Тайваня.
Согласно Линь Цзи-Вэнь, преобразование демократизации Тайваня имеет две уникальные характеристики по сравнению с другими случаями [1]:
-
1) правящий режим КМТ инициировал и активно участвовал в демократических преобразованиях, когда он находился у власти, и все же получил большинство голосов на каждых выборах;
-
2) режим Гоминьдан продолжал побеждать на выборах и доминировать в политике Тайваня после открытия избирательного конкурса.
После того, как в 1986–1987 годах покойный президент Цзян Цинго совершил демократические реформы, кандидат Гоминьдан, нынешний президент Ли Дэн-хуэй, преемник Чанга после его смерти в 1988 г., смог выиграть первые популярные президентские выборы на Тайване в 1996 г. – оползень. Фактически, Гоминьдан был, вероятно, единственным авторитарным режимом, который остался у власти после перехода к демократизации в так называемой «демократизации третьей волны». Режим Гоминьдан оставался у власти до 2000 г., когда он потерпел поражение на вторых президентские выборах в ДПП из-за внутренней борьбы за власть [3].
Тем не менее был еще один важный аспект этого преобразования, помимо обычного аспекта демократизации: индигенность национальных политических институтов, которую обычно называют «локализация». Открытие выборов всех мест в национальных конгрессах и президента РПЦ избирателям на Тайване в 1990-х годах означало, что правящий режим КПП на Тайване официально изменил свою позицию в отношении прежнего требования КПП о том, что он законно представлял весь Китай. Фактически национальная структура, лежащая в основе Китая, и в основе всей национальной политической структуры после режима президента Гоминьдана в Тайване в 1949 г., постепенно сменилась недавно созданной национальной структурой, ориентированной на Тайвань, в котором национальные политические институты представляют только граждан Тайваня на национальной территории, которыми он управлял с 1949 г., а не всего Китая [11].
Это было существенное изменение, поскольку основным оправданием режима Го в отказе от полной демократии было то, что национальные учреждения на Тайване представляли временно потерянный Китайский материк в состоянии чрезвычайного положения. Это оправдание, которое может быть совершенно немыслимым с ретроспективной точки зрения, как показала практика, работало бо- лее 30 лет, поскольку кандидаты КПП смогли выиграть все местные выборы (получили большинство голосов и победили в большинстве государственных учреждений) в течение периода [Там же].
Современные объяснения политологами политики демократизации на Тайване делятся на два типа аргументов. Первый тип аргумента обычно называют моделью политического процесса, в которой подчеркивается роль политических элит и их взаимодействия [7]. Учитывая, что режим Гоминьдана инициировал демократические реформы, когда он все еще находился в твердом контроле политики Тайваня, раннее объяснение демократизации.
Переход отводил критически важную роль в активных стратегиях и манипуляциях покойного президента Чан Цзин-го. Этот тип объяснения подразумевал, что Чанг разработал эти реформы из своих благих намерений. Другие немедленно критиковали это объяснение за то, что не принимали во внимание роль оппозиционного движения и чрезмерно подчеркивали влияние воли одного человека за счет исторических структурных давлений или факторов. Тезис, предложенный Ченг Тунь-жэнь, дал лучшее объяснение этому аргументу. По словам Чэна, ключ к политической либерализации Тайваня, открывшийся в середине 1980-х годов, – это изменение структуры политического сотрудничества и конкуренции между элитами разных фракций внутри правящего лагеря (реформистского или консервативного) и сложного лагеря (умеренного или радикального). В частности, сотрудничество между реформистскими и умеренными группировками позволило одержать верх в борьбе с консерваторами и радикалами из их соответствующих лагерей, которые составляли либерализационный переходный период. Лин Чиа-лунг также указал на меняющиеся модели сотрудничества элиты, когда он объяснил демократический переход Тайваня. Он утверждал, что при поддержке тайваньского народа и сотрудничестве элиты ДПП президент Ли Дэнхуэй из Гоминьдана смог осуществить важные демократические реформы в 1990-х годах [14].
Второй тип аргумента в пользу демократизации Тайваня также объясняет критический фактор действиями элит, основанных на нравственности. Ву Най-утверждал, что самым важным меняющимся фактором в демократическом переходе Тайваня было изменение взглядов правящих элит, которые бесстрашно столкнулись с угрозой репрессий и пожертвовали собой ради демократизации. Ву специально определил эти изменения в отношении лидеров оппозиции и их сторонников после 1979 г., когда все известные лидеры оппозиционного лагеря были арестованы за государственную измену и за их участие в инциденте, который привел к ранениям сотен полицейских во время их жестокого столкновения с демонстрантами [13]. Лидеров и сторонников оппозиционного лагеря обычно пугали репрессии режима Гоминьдана, но до инцидента 1979 г. они не решались открыто заявить о своей поддержке политических заключенных. Такая атмосфера помешала обычным гражданам активно участвовать в политической оппозиции или даже просто демонстрировать поддержку политической оппозиции. Ситуация изменилась, однако, когда восемь лидеров оппозиции были обвинены в государственной измене и публичном судебном разбирательстве в военном трибунале в связи с инцидентом в Гаосюне и символическим убийством трех членов семьи одного обвиняемого лидера (Линь И-сюань) во время судебного разбирательства 28 февраля 1980 г. Вместо того, чтобы признавать себя виновным и просить о помиловании во время военного трибунала, поскольку они «должны были» перед внутренней и иностранной прессой, лидеры оппозиции воспользовались возможностью первого открытого судебного процесса, чтобы выразить их убеждения в отношении демократии и выработать свою позицию по вопросу о самоопределении и независимости Тайваня, которые до сих пор считались политическими табу и могли стать государственной изменой, как было при открытых выступлениях в то время. Ву утверждал, что преданность лидеров оппозиции и жертвы за дело демократии побудили и вдохновили не только молодое поколение новых лидеров оппозиции, которые поднялись, чтобы заполнить позиции, освобожденные заключенными лидерами оппозиции, но и многих безразличных, и превратили их в поддерживающих или даже активистов оппозиционного лагеря [Там же].
Ярким свидетельством такого изменения было то, что этих политических заключенных считали героями в ходе избирательных кампаний, а их жены получали наибольшее количество голосов в своих соответствующих округах, когда они бежали на государственные должности от своих мужей во время следующих выборов в начале 1980-х годов. Репрессивные меры, которые ранее были достаточно успешными в запугивании политических диссидентов, больше не были эффективным и надежным политическим вариантом для режима Гоминьдана [17]. Правящему режиму пришлось принять другую стратегию, т. е. признать существование оппозиционных групп и вести переговоры с ними и/или конкурировать с ними на выборах. Таким образом, критическое изменение состоит в том, что оппозиционные элиты игнорировали почти определенную участь репрессий и действовали на свои политические убеждения из своих моральных ценностей в отношении демократии.
Обе линии аргументов указывают на изменения в политических элитах, будь то модели сотрудничества или меняющиеся позиции лидеров оппозиции, когда они сталкиваются с репрессиями режима. Хотя эти аргументы достаточно сильны или даже убедительны в правильном определении и описании того, как критически изменились политические элиты в обоих лагерях, чтобы они способствовали демократическому переходу, аргументы не смогли объяснить, почему.
Самым значительным социальным и политическим изменением на Тайване в течение 1990-х годов, без всяких сомнений, является демократический переходный период. Этот переход, начавшийся в 1987 г., перевёл Тайвань из авторитарного режима в общество с более либеральной демократической политикой [6].
Примерно в то же время Тайвань стал свидетелем первого поляризационного внимания к вопросам этнической принадлежности, когда публичные дебаты по поводу того, какие группы следует считать этническими меньшинствами на Тайване вспыхнули в 1987 г., после того как законодатели Демократической прогрессивной партии подняли этот вопрос в ответ на противоположный аргумент, выдвинутый законодателями Гоминьдана на более ранних сессиях Конгресса, который затем привлек внимание средств массовой информации и широкой общественности [5].
После более чем 40 лет социальной интеграции среди тайванцев и жителей материкового Китая, двух основных этнических групп Тайваня, возрождение этнических проблем в общественной сфере, как правило, рассматривалось как печальный негативный побочный эффект от демократизации и как ущерб перспективам Тайваня хрупкой новой демократии [10].
Этническая напряженность и конфликты обострились и достигли кульминации в ходе избирательной кампании 1994 г. между восторженными сторонниками Китайской новой партии (КНП) и ДПП, в результате которых погиб один таксист и случались многочисленные инциденты насилия [12].
Таким образом, хотя демократический переход Тайваня первоначально был реакцией на растущие требования Тайваня к более широкому участию в политической жизни и средство правовой защиты от ранее установленной институциональной этнической дискриминации против тайванцев, что в конечном итоге привело к более гибкому и этнически справедливому политическому институциональному механизму, чем раньше, эти позитивные аспекты отношений между демократизацией и этнической принадлежностью быстро омрачались крайне негативными аспектами того, что произошло в дальнейшем [15].
Этнические вопросы политики обычно рассматривались как играющие небольшую роль в процессе демократизации Тайваня. С этой точки зрения вопросы этнической принадлежности были в лучшем случае второстепенными или мотивирующими факторами для политических претендентов, которые годами боролись за начатое дело. Таким образом, этнические проблемы были постоянными факторами и, следовательно, недостаточными для объяснения демократического перехода Тайваня.
Этот постулат особенно очевиден в существующих объяснениях демократизации Тайваня, которые, сильно недооценили важность вопросов этнической политики в этом переходном периоде [1]. Эта недооценка не только ограничивает силу существующих теорий демократизации Тайваня, но и искажает понимание причин, характера и перспектив этнических конфликтов в демократической системе, особенно в случае Тайваня.
Согласно существующему консенсусу среди ученых, переход состоит из двух фаз: этап либерализации (1987–1990 гг.) и этап демократизации (1991–1996 гг.). Либерализация началась в 1987 г., когда режим Гоминьдан отменил военное положение, которое действовало с 1949 г., сразу же после появления режима Гоминьдан в Тайване. Затем, в 1988 г. правящая Гоминьдан сняла запреты на формирование новых политических партий и публикации новых газет.
Демократизация началась в 1991 г., когда все места в Национальном собрании были открыты для выборов, впервые с 1948 г. В 1992 г. правительство избрало всех членов законодательного юаня (национальных законодательный орган). После восстановления Национального конгресса, состоящего из представителей всех китайских провинций на Тайване в 1950 г., регулярные выборы национальных мест в Конгрессе были приостановлены «в ожидании восстановления материкового Китая» режимом Гоминьдана в 1954 г. в соответствии с Интерпретацией № 31 Правил Конституционного суда, Судебный юань.
В период между 1969 и 1991 гг. только некоторые дополнительные места, которые составляли менее трети всех мест в Конгрессе, были избраны на Тайване в качестве меры, способной удовлетворить растущие требования в отношении политического участия тайванцев. Преобразование завершилось в 1996 г., когда Китайская Республика (КР) была впервые избрана прямым голосованием. Ранее президент КР был избран членами Национальной ассамблеи, в которой преобладали члены Совета материкового Китая, представляющие все китайские провинции до 1991 г. [9].
До переходного периода Гоминьдан ограничил основные демократические политические права граждан для организации политических партий, выражения разных мнений и избрания государственных должностных лиц на самом высоком уровне. К 1996 г., когда эта политическая трансформация была завершена, правительство выполнило почти все основные требования в отношении политических реформ, проведенных оппозиционным лагерем с 1970-х годов.
Список литературы Политико-демократическая эволюция Тайваня в XX в
- Головачёв В.Ц. Изучение этнической истории Тайваня в российском востоковедении XIX-XXI вв.// Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2012. № 6. С. 162-170.
- Головачёв В.Ц. Этническая история и политика Тайваня в трудах тайваньских учёных (эволюция историографических подходов в 1980-2010 гг.) // Общество и государство в Китае. 2012. Т. 42. № 2. С. 292-299.
- Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (Размышления по поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических трансформаций) // Полис. Политические исследования. 2004. № 4. С. 6-27.
- Котова Т.М. Китайцы за рубежом и их роль в политике Китая. М.: Институт Дальнего Востока, 1983.
- Ли Минхуань. Тайвань хайгуй юй Тайвань чжэнчжи // Дуннанья янь-цзю. 2012. № 2.