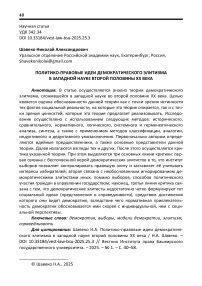Политико-правовые идеи демократического элитизма в западной науке второй половины XX века
Автор: Шавеко Н.А.
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право
Статья в выпуске: 1 (25), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществляется анализ теории демократического элитизма, сложившейся в западной науке во второй половине ХХ века. Целью является оценка обоснованности данной теории как с точки зрения истинности тех фактов социальной реальности, на которые эта теория опирается, так и с точки зрения ценностей, которые эта теория предлагает реализовывать. Исследование осуществлено с использованием следующих методов: исторического, сравнительного, нормативного, логического, системного и герменевтического анализа, синтеза, а также с применением методов классификации, аналогии, индуктивного и дедуктивного умозаключения. Первоначально автором определяются идейные предшественники, а также основные представители данной теории. Далее излагаются взгляды тех и других. После этого осуществляется критика указанной теории. При этом выделяются три основных линии критики: первая связана с беспочвенной верой демократических элитистов в то, что институт выборов позволяет контролировать правящую элиту и заставляет её учитывать интересы избирателей; вторая связана с необоснованным игнорированием демократическими элитистами иных, помимо выборов, способов политического участия граждан в управлении государством; наконец, третья линия критика связана с тем, что демократические элитисты недостаточно четко формулируют тот социальный идеал (представления о справедливости), средством достижения которого они видят демократию, вследствие чего нормативная привлекательность демократии обосновывается ими скорее с индивидуальной, чем с социальной перспективы.
Демократия, выборы, модели демократии, элитизм, справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/142245279
IDR: 142245279 | УДК: 342.34 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2025.25.3
Текст научной статьи Политико-правовые идеи демократического элитизма в западной науке второй половины XX века
Введение. После окончания Второй Мировой войны, продемонстрировавшей, что опасность тоталитарных режимов имеет глобальный характер, идеал демократии на Западе казался практически непререкаемым. Но одновременно восторжествовало скептическое отношение к активному участию народных масс в управлении государством, поскольку последнее обычно связывалось с возможностью различных манипуляций их сознанием, принятием непродуманных решений и т.д. Предполагалось, что установившиеся в западных странах политические режимы являются легитимными и без широкого участия народных масс в принятии политических решений. В итоге 1950-60-е гг. ХХ века характеризовались доминированием в западной нормативной демократической теории элитистских трактовок демократии, сводящих необходимость народного участия в политике к выборам, а остальное отдающая на откуп технократам [1, c. 208–249]. Настоящая статья имеет целью проанализировать теорию демократического элитизма, а также осуществить её критический анализ. Несмотря на то, что впоследствии в противовес этой теории стали развиваться теории демократии участия и совещательной демократии, демократический элитизм до настоящего времени остается актуальным, поскольку представление о том, демократия сводится к политическим выборам, по-прежнему достаточно распространено [2]. Соответственно, анализируя достоинства и недостатки теории демократического элитизма, мы надеемся внести вклад и в современное понимание демократии. При этом под демократическим элитизмом мы будем понимать любые трактовки демократии, которые исходят из того, что роль граждан в принятии политических решений должна сводиться к выбору представителей (правящей элиты) [3, c. 22].
Основные представители демократического элитизма и их взгляды. Непосредственные идейные предшественники. Возникновение концепции демократического элитизма связывается с именами М. Вебера и Й. Шумпетера. Мы не будем подробно анализировать взгляды этих мыслителей, поскольку они были сформулированы ещё в первой половине ХХ века, тогда как предметом нашего анализа станут взгляды западных мыслителей лишь второй половины ХХ века. Но важно подчеркнуть, что теоретики второй половины ХХ века в своих рассуждениях опирались именно на Вебера и Шумпетера и находились во многом под их влиянием. Поэтому стоит обозначить максимально кратко то общее, что есть во взглядах Вебера и Шумпетера.
Итак, во-первых, оба ученых рассматривают демократию не как цель самому по себе, а лишь как средство достижения некоторого социального идеала. Слова Шумпетера: «Демократия — это всего лишь метод, так сказать, определенный тип институционального устройства для достижения законодательных и административных политических решений. Отсюда — она не способна быть целью сама по себе, безотносительно к тем решениям, которые будут приниматься в конкретных обстоятельствах при ее посредстве» [4, c. 637]. Однако, какова именно та высшая цель, которой демократия должна служить, – рассматриваемые мыслители не пояснили. Их внимание было сосредоточено скорее на критике того, что они считали явно неверным, а именно что демократия призвана выражать «волю народа» и служить «общему благу». Можно предположить, что и для Вебера, и для Шумпетера демократия была ценна как защита от тирании и обеспечение возможности людей преследовать собственные жизненные стратегии (то есть речь идет о либеральном идеале), но четко эта мысль у данных авторов не зафиксирована.
Во-вторых, и Вебер, и Шумпетер видят в демократии правление не народа, а профессиональных политиков, и критически относятся к способностям и желанию электората самостоятельно принимать разумные политические решения. Оба, между тем, парадоксальным образом [5, c. 256] считают электорат способным делать выбор между конкурирующими политиками и предлагаемыми ими взглядами. Так, по определению Шумпетера, «демократический метод — это такое институциональное устройство для принятия политических решений, в котором индивиды приобретают власть принимать решения путем конкурентной борьбы за голоса избирателей» [4, c. 667]. При этом, как отметил Вебер, сущность такой демократии состоит в том, что элиты лишь «представляют политически пассивным гражданам кандидатов и программы», а граждане должны их одобрить или отклонить [6, c. 328, 261–264, 303–307].
В-третьих, свои модели демократического элитизма и Вебер, и Шумпетер считают во многом неизбежным следствием объективных факторов (усложнение, рационализация и бюрократизация социальных процессов, многообразие культур и мнений). Но одновременно в этих моделях, опять же парадоксал ь-ным образом, прослеживается нормативный аспект (то есть долженствование).
«Плюралистическая школа». Исследованию власти элит в 50–70 гг. ХХ века посвятили свои работы такие ученые, как Г. Лассуэлл, Ч.Р. Миллс, В. Корнхаузер, Д. Трумэн, А. Берл, С.М. Липсет, Р.А. Даль, Э. Даунс, Р. Дарен-дорф, Э.Э. Шаттшнейдер, Ф. Хантер, Т.Р. Дай, Р.Д. Патнэм, Дж.В. Домхофф и многие другие. Однако нас будет интересовать лишь ключевые исследования нормативного характера. Следуя этому критерию, в первую очередь следует отметить школу «плюралистов», имевшую наибольшее влияние в 1950-1960-х гг.Представители этой школы (Р. Даль, Д. Трумэн и др.) противопоставляли себя так называемой итальянской школе политико-правовой мысли (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс), подчеркивавшей неизбежность сосредоточения власти в руках узкой группы лиц. Это противопоставление сводилось к тому, чтобы показать, что, даже если на политические должности могут претендовать лишь представители элит, многообразие конкурирующих политических сил и групп влияния всё еще позволяет демократии оставаться желаемым нормативным идеалом, поскольку политическая власть в этом случае рассредоточена, а не находится сугубо в руках политической элиты; отсюда вместо оправдания неравенства как неизбежности надо добиваться подконтрольности правителей массам и не допускать концентрацию власти в руках лишь одного политического объединения [7, c. 41]. По мнению плюралистов, когда политические силы пытаются заполучить власть, они вынуждены договариваться с различными социальными группами (бизнес, общественные организации, включая рел игиоз-ные объединения и профсоюзы, этнические, классовые и иные социальные группы и т.п.). В результате политическая сфера представляет собой постоя н-ный процесс переговоров и поиска компромиссов. Даже результаты выборов не освобождают правящую элиту от необходимости прислушиваться к много- численным социальным группам, поскольку без этого невозможно удержать власть на следующих выборах. Отсюда существует целая сеть неформальных способов воздействия на принятие властных решений. Именно столкновение организованных групп интересов («правление меньшинств») обеспечивает наиболее приемлемый политический результат, хотя и не обещает равный для каждого учет интересов и равные для каждого возможности политического влияния. Таким образом, конкурентные политические выборы - это вполне приемлемый инструмент народного правления. Политическая пассивность народных масс при этом не является чем-то плохим: каждый отдельный гражданин вовсе не обязательно должен быть политически активным, поскольку в каждой социальной группе есть собственный актив, отстаивающий интересы членов этой группы.
Таким образом, «плюралисты» остаются в рамках демократического эли-тизма в том смысле, что они не считают массовое политическое участие или массовую политическую просвещенность чем-то необходимым, отводя ключевую роль конкурентным политическим выборам. Однако они дополняют вебе-ро-шумпетеровское представление о демократии новой расстановкой акцентов. Так, политические выборы могут считаться свободными и честными только в условиях свободы слова и объединений, то есть в условиях плюрализма. Но плюрализм, в совокупности с избирательными правами, свободой собраний и свободой обращений в органы власти, и разделением властей, также приво -дит к тому, что и после выборов политическая борьба продолжается в форме взаимодействий либо между самими избранниками (например, между парламентскими фракциями или между различными ветвями и уровнями власти), либо между избранными во власть субъектами и группами давления. Помимо политических выборов, таким образом, приобретает значение как многообразие самого общества, так и многообразие (разделение) властных структур. Всё это приводит к тому, что политические выборы позволяют учитывать волю электората в достаточно высокой степени (пусть и не все социальные группы выигрывают в равной мере), в то время как Вебер и Шумпетер (вследствие их пессимистической оценки политической компетентности народных масс и недооценки политической борьбы различных социальных групп) не рассматривали политические выборы как надежный способ выражения народных интересов. Тот же Шумпетер выступал также против любого участия в политической деятельности, выходящей за рамки голосования, поскольку не считал граждан достаточно компетентными. Но у плюралистов иной взгляд на компетентность народных масс, хотя в целом таковые у них всё ещё считаются неспособными к прямому принятию политических решений.
«Гражданская культура» по Г. Алмонду и С. Вербе. Один из примеров элитистской концепции демократии представляет собой классическое исследование о гражданской культуре американских политологов Г. Алмонда и С. Вер- бы (которых также относят к традиции плюрализма [5, c. 277]). Данные авторы критиковали тех, кто требовал от граждан постоянной политической активности и высокой политической компетентности. По мнению Алмонда и Вербы, в действительности «от гражданина в демократии требуются противоречащие одна другой вещи: он должен быть активным, но в то же время пассивным, вкл ю-ченным в процесс, однако не слишком сильным, влиятельным и при этом почтительным к власти» [8, c. 124]. Идеальный гражданин, по мнению названных авторов, осознает свою политическую ответственность, но свой резерв влиятельности включает только в особо важных случаях.
На чем основаны эти выводы о приемлемой гражданской культуре? По мнению рассматриваемых ученых, объективные реалии таковы, что для управления массовым обществом неизбежно формирование элиты, которая, с одной стороны, была бы относительно независима от народа, с другой стороны, отчасти контролировалась бы им (в частности, должна быть обеспечена конкуренция в борьбе за власть). Кроме того, рассматриваемые ученые обращают внимание на такие объективные факторы, как «сложность политических вопросов, наличие других проблем, отнимающих время индивида, и труднодо-ступность информации, необходимой для принятия рациональных политических решений» [8, c. 123]. Таким образом, постоянное активное и квалифицированное участие граждан в управлении государством попросту невозможно. Следовательно, оно и не может выступать в качестве идеала.
Для улучшения качества управления Алмонд и Верба предлагают, за неимением лучшего, постараться поддерживать в сознании элит «демократический миф». Речь идет о том, что либо «потенциально активные» граждане должны быть действительно влиятельны, либо правящие элиты должны верить во влиятельность «потенциально активных» граждан, и в силу этого стараться им угодить.
Демократический элитизм Дж. Пламенаца. Теорию демократического элитизма разрабатывал также сербско-британский ученый Дж. Пламенац [9, p. 180–212]. Он также исходил из предпосылки, что правит всегда меньшинство. Такое положение дел ученый считает совершенно нормальным, поскольку управленческая деятельность подразумевает определенный опыт и знания, а также полную занятость. Однако правящее меньшинство не должно составлять единую группу или контролироваться какой-либо одной группой («плюрализм»). Кроме того, те группы, которые находятся во власти, должны предста в-лять интересы всех слоев населения. Таким образом, крайне важной для демократии является честная конкуренция элит. Представители этих элит борются за голоса избирателей, причем избиратели не должны быть подкуплены или запуганы (иначе это уже не демократия). Также они должны иметь возможность свободно высказывать свое мнение и критиковать управленцев.
Ключевым, однако, является вопрос о том, способны ли избиратели сделать рациональный выбор. В этом вопросе Пламенац полагает, что совершенно нор- мально, когда избиратели не владеют полной информацией, не являются высокоинтеллектуальными и образованными личностями. Нельзя требовать от них такого уровня компетентности, который может и должен быть только у лиц, посвящающих политике всё свое время. В противном случае не было бы смысла в возложении управления на меньшинство, ведь большинство всё равно вынуждено вникать во все тонкости вопросов управления. В конце концов, говорит ученый, в современных сложных и динамичных обществах даже профессиональные политики не могут быть до конца уверенным в правильности предлагаемой политики. Но избиратель должен, как минимум, понимать значение процедуры голосования, в противном случае мы вряд ли можем назвать данную процедуру голосованием.
Кроме того, в отличие от Шумпетера, Пламенац подчеркивает, что избиратели не просто импульсивно реагируют на стимулы политических лидеров, но также оценивают и анализируют предлагаемые им решения. Конкретный уровень рациональности избирателей установить достаточно сложно, но в л ю-бом случае он должен быть реалистичным (в конце концов, иногда избиратель руководствуется исключительно доверием к избираемому им лидеру, и в этом случае его выбор нельзя назвать иррациональным). Неопределенность убеждений и недостаточность информации сами по себе не делают выбор избирателя неправильным. Однако, если избиратели будут крайне глупы, замечает Пламенац, демократии просто скоро придет конец.
«Электоральная демократия» Дж. Сартори. Наконец, еще одним автором, который во второй половине ХХ века поддержал идеи демократического элитизма, был итало-американский ученый Дж. Сартори. Рассматривая проблему некомпетентности среднего избирателя, он настаивал, что для функционирования «электоральной демократии» вовсе не обязательно массовое политическое просвещение. Так, не существует никакого внятного критерия, с помощью которого мы могли бы определить достаточную компетентность избирателя, ведь никогда нельзя заранее предугадать, какие именно компетенции окажутся востребованными при принятии тех или иных политических решений. Поэтому, по мнению Сартори, в демократии граждане попросту осуществляют свою электоральную власть по своему усмотрению, периодически выбирая себе управленцев [10, p. 110]. Для этого требуются лишь автономность избирателя (отсутствие запугиваний, манипуляции и индоктринации), свобода слова и мнений, а также возможность выбора из нескольких альтернатив, но не какая-то специальная компетентность.
Взгляды Сартори интересны тем, что автор излагал их уже после появления конкурирующих нормативных теорий демократии, а именно демократии участия и совещательной демократии, а потому высказал ряд тезисов относительно этих теорий. Так, теорию демократии участия Сартори отвергает, поскольку участие в принятии политических решений подразумевает гораздо бо- лее серьезные требования к гражданам, а именно переход от «мнения» к «знанию». Знание, говорит он, может быть описано как веберовская рациональность, то есть не просто владение достаточной информацией, но и способность находить средства для поставленной цели. В современном усложня ю-щемся мире нереалистично требовать от народных масс достаточного политического знания. Сама по себе практика политического участия, а также мобилизация политической активности, по убеждению Сартори, не служат приращению такого знания, но могут даже повредить ему. Политическое участие, утверждает ученый, могло бы принести пользу при непосредственном взаимодействии граждан между собой, то есть при обсуждении, но таковое возможно и эффективно только в малых группах, что указывает нам путь в сторону эли-тизма. Действительно, повышая политическую компетентность народа, мы могли бы увеличивать степень его политического участия, но здесь наши возможности крайне ограничены: «У человека нет крыльев, и с начала времен тот, кто игнорировал эту простую истину, всегда подводил нас к краю пропасти для того, чтобы после нашего падения заявить, что нам следовало бы знать, как летать» [10, p. 123].
В результате Сартори останавливается на том, что политическое участие гражданина должно быть ограничено ролью избирателя, который определяет успех или неудачу той или иной политики («реагирует»), но редко сам инициирует ее («действует»). Он полагает, что «кроме репрезентативных методов контролируемой передачи власти, не существует других известных методов борьбы с внешними рисками» [10, p. 223]. (При этом граждане не вправе отказаться от своей роли избирателей, потому что в таком случае демократия превращается в свою противоположность – автократию, т.е. правление, не обусловленное согласием управляемых [10, p. 206]).
Помимо вышеизложенного, Сартори предлагает свой идеал демократии, который называет «селективной полиархией». Под полиархией ученый понимает фактически существующий в западных странах демократический порядок (термин заимствован у Р. Даля), а под селекцией – необходимость не просто конкуренции борющихся за власть групп, в той или иной мере отзывчивых по отношению к избирателю, но еще и правления именно «достойных» представителей этих групп, которые не только отзывчивы («перед кем-то»), но и ответственны («за что-то»). Тем самым данный автор, в отличие от антиэлитистов, подчеркивает важность «правильности» управления, а не только его демократичности [11]. К сожалению, Сартори не пояснил, в чем именно состоит превосходство элит, и как именно добиться правления квалифицированных лиц, не посягая на демократические устои [12, p. 39–41].
В целом, во взглядах Сартори имеется некоторая двусмысленность: то мыслитель пытается оспорить сам факт того, что существует некая общезначимая «политическая компетентность», то пытается доказать, что избиратель принципиально «некомпетентен».
Проблемы демократического элитизма: роль выборов. Таким образом, во второй половине ХХ века сложилась определенная теория демократического элитизма, которая, с одной стороны, заимствовала то общее, что уже имелось во взглядах Вебера и Шумпетера, с другой стороны, более четко, чем указанные авторы, утверждала, что при демократии элита в той или иной степени учитывает и должна учитывать взгляды и интересы народа.
Каковы же общие проблемы во взглядах всех вышеперечисленных авторов? Как представляется, демократический элитизм подтвержден критике сразу с двух сторон. С одной стороны, есть основания полагать, что у народа не получится надлежащим образом контролировать элиту и обеспечивать реализацию собственных интересов, если участие народа будет сводиться к голосованию на периодических политических выборах. Это может происходить, во-первых, потому что народ недостаточно информирован, компетентен, а иногда и добросовестен, во-вторых, потому что сами политические выборы – очень ограниченный инструмент контроля и волеизъявления. С другой же стороны, демократический элитизм, вероятно, недооценивает целый спектр возможностей народного участия в политике, которое не обязательно должно сводиться к участию в политических выборах. Первая линия критики может использоваться не только демократами, но и сторонникам недемократических форм правления, вторая же призвана обосновать теорию демократии участия, которая была сформулирована в противовес демократическому элитизму уже к 1970-м гг. [13]. Существует ещё и третья (часто игнорируемая) линия критики, связанная с фоновыми представлениями демократических элитистов на справедливость. Далее мы рассмотрим каждую из этих линий критики подробнее (первые две – в данном разделе, третью – в следующем).
Итак, с одной стороны, в новом элитизме, по всей видимости, остается свойственная «попечительскому правлению» проблема контроля элит, обеспечения их компетентности и эффективности, поскольку периодические выборы – весьма несовершенное и явно недостаточное средство для указанных целей. Короче говоря, преимущества правления элит могут быть поставлены под сомнения.
Так, например, Р. Даль в своей ранней работе «Предисловие к демократической теории» рассматривает периодические выборы и политическую конкуренцию как два фундаментальных метода контроля элит со стороны социума, позволяющих учитывать интересы самых разнообразных меньшинств и тем самым делать управление более справедливым [14, p. 131–132]. Но почему именно эти способы следует считать фундаментальными? Демократический элитизм, как представляется, переоценивает возможность народа с помощью выборов или иных подобных средств контролировать свое пра вительство. Еще Г. Моска не без оснований рассматривал типичный демократический контроль со стороны избирателей как «нерегулярный, ограниченный и неэффек- тивный» [15, c. 223]. Схожим образом К. Шмитт в связи с возросшей популярностью идей М. Вебера писал, что парламентаризм как способ отбора политических вождей несостоятелен, поскольку при таком его понимании неизбежно, что «политика оказывается отнюдь не делом элиты, но весьма презренным гешефтом весьма презренного класса людей» [16, c. 8]. Тот факт, что высказывания Моски и Шмитта, сделанные около века назад, порой весьма метко отражают сегодняшнюю реальность, заставляет задуматься о том, не имеется ли в институте выборов каких-то фундаментальных изъянов.
Начнем с того, что демократический элитизм, вероятно, принижает значение следующей проблемы: если правящие элиты достаточно независимы от народа в период между выборами, то ничто не мешает им безнаказанно использовать свою власть для того, чтобы повлиять (законно или нет, насильно или нет) на исход очередных выборов, поставив крест и на демократии, и на «просвещенном» попечительстве. В этом вопросе демократический элитизм делает ставку на конкуренцию меняющихся коалиций элит, не позволяющую кому-либо узурпировать власть, но ставка эта явно неубедительна. Как заметил Дж. Шаар, мы избежали тирании не благодаря хорошему устройству политических институтов, а потому что взоры политиков были прикованы к деньгам [17, p. 349]. По схожему мнению Ю. Хабермаса, предлагая в качестве «простой альтернативы ночи тоталитаризма, в которой все кошки серы» [18, c. 202], демократический элитизм так и не показал, что он действительно помогает избежать ночи тоталитаризма.
Но, предположим, существуют эффективные механизмы, не позволяющие избранным правителям расширить свои полномочия и сделать невозможными очередные свободные и честные политические выборы. Означает ли это, что властвующая элита будет прислушиваться к мнению народа? По всей видимости, даже конкурирующие элиты могут быть едины в игнорировании интересов большинства населения и релевантной для него повестки дня [19, p. 50–56]. Так, демократические элитисты часто сравнивают политическую конкуренцию с рыночной. Но проводя данную аналогию до конца, нельзя не обратить внимание на опасность формирования олигополий на политическом рынке. Но если борьба с монополиями и олигополиями в экономике может вестись посредством государства, то кто будет вести борьбу с таковыми в самих государственных структурах?
Кроме того, отдельные социальные группы находятся в значительно более выигрышном положении, чем другие. Так, сам лидер плюралистов Р. Даль впоследствии скорректировал свою позицию и перешел в стан «неоплюралистов». Он, в частности, признал, что экономическое неравенство неизбежно выливается в политическое неравенство, например бизнес-корпорации имеют существенные преимущества в отстаивании своих интересов по сравнению с наемными рабочими [20]. Сегодня схожие взгляды также отстаиваются многими учеными. Например, по мнению И. Шапиро, необходимость финансирова- ния дорогостоящих избирательных кампаний обуславливает тот факт, что те лица, от которых зависит данное финансирование, устанавливают непреодолимые барьеры для вхождения новых участников на политический рынок [21, p. 60–64]. Соответственно, не просто отдельные меньшинства, но и широкие слои населения могут быть лишены возможности отстаивать свои интересы перед власть имущими. Действительно, как показали П. Бахрах и М. Барац в своем знаменитом эссе «Два лица власти», власть – это не только способность субъекта «А» заставить субъекта «Б» сделать нечто, что в противном случае не было бы сделано, это ещё и возможность задавать повестку дня, исключая из неё неугодные вопросы [22]. Экономическое неравенство – это, пожалуй, главный фактор, исключающий из повестки дня многие животрепещущие вопросы.
Но даже если избирателям будет обеспечен политической рынок чистой конкуренции, в котором каждый имеет реальную возможность пользоваться активными и пассивными избирательными правами, получать всю необходимую политическую информацию, а также имеет равную с другими членами общества возможность высказывать свое мнение и т.д., при этом политические выборы проводятся честно, а значительная власть не концентрируется в одних руках, к демократическому элитизму остается множество вопросов. Здесь следует отметить многочисленную литературу, посвященную критике института политических выборов.
Недостатки политических выборов суммируются современными американскими исследователями Кристофером Ахеном и Ларри Бартелсом в работе «Демократия для реалистов» (2016) [23]. На основании данных множества эмпирических исследований, проведенных в ХХ веке, авторы вышеуказанной монографии показывают, что выборы на практике не работают ни с точки зрен ия лишения власти тех, кто не оправдал ожидания народа (ретроспективная фун к-ция), ни с точки зрения наделения властью тех, кто намерен отстаивать интересы народа (перспективная функция). В первую очередь, это связано с незаинтересованностью и неинформированностью самих избирателей, которые либо вообще не имеют осмысленных, четких и стабильных предпочтений по политическим вопросам, либо голосуют в противоречии с ними, а также либо вообще не имеют адекватных представлений о пределах возможностей (сфере ответственности) конкретных должностных лиц и государственных органов, а также об устройстве политической системы, либо голосуют в противоречии с реальными достижениями и ошибками правителей. Но даже высоко информированные и политически активные граждане, добавляют Ахен и Бартелс, зачастую лишь рационализируют позицию социальных групп, с которыми себя идентифицируют, то есть оказываются на политических выборах не более эффективными, чем невежественная и пассивная масса. К таким же выводам приходит Дж. Бреннан в книге «Против демократии» (2016), который также суммирует множество эмпирических исследований и показывает, что большинство изби- рателей вообще ничего не понимают в политике и крайне дезинформированы, но даже если они и обладают информацией, то интерпретируют ее в пользу позиции своей социальной группы или партии [24, p. 23-53].
В дополнение к приведенным тезисам обратим внимание на то, что даже в условиях полной информированности и компетентности избирателей честные и конкурентные выборы далеко не всегда приводят к положительным результатам, поскольку «перспективное» голосование сталкивается с тем, что демократия не содержит институтов, обеспечивающих уважение к осознанному выбору избирателей [25], а «ретроспективное» голосование зачастую попросту неприменимо (например, если избранный политик осуществлял свою деятельность в рамках коалиционного правительства, и возложить на него персональную ответственность за конкретные неудачи этого правительства достаточно сложно; или, например, если существует законодательный запрет на переизбрание данного политика на новый срок).
Известным критиком выборов является также бельгийский ученый Давид ван Рейбрук, который в своей книге «Против выборов» (2013) [26] расставляет акценты несколько по-иному, а именно доказывает тот факт, что выборы не обеспечивают ни эффективности, ни легитимности правления. Неэффективность связана с тем, что политики больше внимания вынуждены уделять избирательным кампаниям, чем собственно управлению государством, а нелегитимность проявляется в массовом абсентеизме.
Вторая линия критики демократического элитизма связана с теорией демократии участия и сводится к тому, что демократический элитизм чрезмерно скептически относится к другим, помимо выборов, средствам народного волеизъявления и контроля за власть имущими (массовые акции, периодические плебисциты, наказы избирателей и т.д.). Сторонники демократии участия утверждают, что люди вполне могут уделять политике больше внимания, а кроме того – потенциально способны принимать правильные политические решения. Партисипаторные демократы также полагают, что само политическое участие способствует большей осведомленности и компетентности граждан, развитию их гражданских добродетелей и, в конце концов, созданию лучших возможностей для осознания и реализации гражданами собственных интересов. Таким образом, недостатки политических выборов, возможно, могут быть преодолены не ограничением, а усилением демократии. Приходится признать, что сторонники демократического элитизма в принципе не исследуют факторы, при которых участие народа в политике может стать более квалифицированным. Таковым уделила особое внимание лишь появившаяся несколько позднее (в 1980-е гг.) теория совещательной демократии, заняв в итоге своего рода «промежуточное» положение между демократическими эли-тистами и партисипаторными демократами. Соответственно, есть основания полагать, что подход партисипаторных демократов хотя бы отчасти верен
(а именно: широкое народное участие в пол итике возможно, но только если это будет происходить в совещательных формах).
Итак, элитистская модель демократии неверна как в способе народного участия (политические выборы), так и в количестве народного участия (необходимо искать другие, помимо выбора и контроля политической элиты, способы народного участия в политике). Вот почему, несмотря на то что демократический элитизм критикуется сразу с двух сторон, а выдвигаемые против него аргументы порой прямо противоположны, каждый из приведенных выше аргументов кажется весьма убедительным. Пытаясь найти наиболее оправданную модель демократии, мы должны поставить под сомнение как способность народа осознанно и квалифицированно выбирать и контролировать элиты (задумавшись над возможными способами развития данной способности), так и необходимость ограничивать участие народа в управлении государством периодическим голосованием на выборах и иными способами контроля правящих элит (задумавшись над возможностью увеличить сферы управления, в которых массовое участие будет иметь положительный эффект).
Демократический элитизм и проблема справедливости. Наконец, представляется важным обозначить ещё и третью линию критики демократического элитизма, связанную с теми фоновыми представлениями о справедливости, которые свойственны большинству демократических элитистов и подразумеваются ими (впрочем, не только ими, но и сторонниками других теорий демократии, например партисипаторными демократами). Речь идет о том, что обоснования демократии у соответствующих авторов строятся на утверждении, что демократия позволяет реализовывать волю/интересы/взгляды населения, однако при этом не учитывается, насколько таковые правомерны и обоснованы. Между тем, очевидно, что воля/интересы/взгляды у различных подвластных лиц могут противоречить друг другу. И тогда встает вопрос о том, какие из них учесть, а какие – проигнорировать, ибо третьего не дано. Действительно, общество представляет собой множество конкурирующих позиций, и учитывая одни, мы неизбежно принижаем другие. Но многие демократы (включая вышеприведенных авторов, отстаивающих демократический элитизм) зачастую утверждают лишь то, что правильным будет максимизация удовлетворенных предпочтений подвластных лиц или следование «воле большинства». Иными словами, они уклоняются от проблемы разрешения конфликтов между подвластными лицами, то есть от проблемы справедливости (в качестве исключения заметим, что Р. Даль, например, пытался обосновать демократию с точки зрения реализации принципа «сущностного равенства», то есть определенного пон и-мания справедливости [27, c. 126-130]).
Конечно, это обстоятельство можно интерпретировать иначе.
Можно утверждать, например, что нежелание многочисленных сторонников демократического элитизма обращать внимание на конфликтующие интере- сы, взгляды и волеизъявления граждан может свидетельствовать о том, что эти авторы придерживаются той или иной версии нормативной теории утилитаризма, для которой важны лишь общие показатели удовлетворенности (удовольствия) в обществе, а не их распределение. Но тогда оправданной оказывается так называемая «тирания большинства» (а иногда и «тирания меньшинства»).
Можно также предположить, что многие демократические элитисты, апеллируя к большинству населения, верят в то, что некая мифическая «воля большинства» и являет собой справедливость как таковую. В этом случае также нет необходимости давать какие-то моральные оценки конкретным «воле большинства» и «воле меньшинства». Однако проблема в том, что «воля большинства» вообще не существует, а существуют лишь конкретные процедуры агрегации, которые продуцируют фикцию такой воли, что наглядно показано парадоксом Кондорсе, парадоксом Острогорского, проблемой сепарабельности и т.д.
Таким образом, подобные реконструкции взглядов демократических элитистов сталкиваются сразу с несколькими проблемами. Во-первых, указанные взгляды не вполне убедительны. Во-вторых, демократические элити-сты зачастую даже не заявляют о своей приверженности этим или иным взглядам на справедливость.
Некоторые демократические элитисты, впрочем, не рассматривают решения, одобренные большинством, как справедливые сами по себе. Они лишь утверждают, что такие решения с большей вероятностью окажутся справедливыми (обычно соответствующие обоснования ссылаются на теорему присяжных Кондорсе). В совокупности с убеждением в объективной невозможности широкого использования прямой демократии (то есть в совокупности с определенной интерпретацией «общих фактов») сказанное предполагает, что нормативно правильный результат достигается на политических выборах, результаты которых определяются по правилу большинства (поскольку народ в этом случае определяет «правильную» элиту). Но, как представляется, такого нормативного обоснования явно недостаточно. Во-первых, потому что решения большинства населения в действительности не всегда справедливы (морально верны). Во-вторых, потому что «правильность» того или иного решения может быть оценена с социальной и с индивидуальной перспективы, и это совершенно разные оценки, существующие параллельно друг другу, а потому нужно учитывать не только способности граждан сделать «правильный» выбор, но и то, в каком смысле эти граждане стремятся к правильности (и не исключено, что различные компетентные избиратели будут стремиться к разным целям: одни - максимально защитить собственные интересы, а вторые - реализовать социальную справедливость).
Вообще, И. Шапиро отмечает, что в современной науке практически не исследованным остается соотношение идеалов справедливости и демократии, поскольку теория справедливости и демократическая теория на протяжении второй половины ХХ столетия развивались во многом параллельно [28, p. 3–4]. Теоретики справедливости подспудно воспринимали демократию лишь ка к более приемлемое, чем правление царей-философов, средство реализации идеала справедливости, не вдаваясь в проблемы демократической теории, в то время как теоретики демократии пытались найти одновременно морально приемлемую и реалистичную модель демократии, не соотнося свои выводы с общим идеалом справедливости. Проблема в том, что невозможно делать выводы о моральной обоснованности той или иной теории демократии, не принимая во внимание некоторое общее представление о справедливости. С учетом изложенного не будет большим преувеличением сказать, что демократические элитисты, по сути, игнорируют социальную перспективу (вопросы справедливости), рассуждая лишь с позиции индивидуальной перспективы.
Таким образом, критика демократического элитизма возможна не только в отношении интерпретации ими типичных фактов социальной реальности (а по сути именно в этом русле развивались дискуссии между демократическими элитистами и партисипаторными демократами), но и в отношении той нормативной теории справедливости, которая неявно подразумевается в данной теории демократии (утилитаризм как теория справедливости, «воля большинства» как справедливость сама по себе или как способ её установления и т.п.). Если некая объективная справедливость существует, то мы должны оценить правление избираемых народом элит ещё и с позиций воплощения идеала справедливости, то есть не с точки зрения отражения элитами позиций избирателей, а с точки зрения правильного сопоставления (агрегирования) противоречащих друг другу позиций избирателей.
Заключение. Теория демократического элитизма сложилась и была особенно популярна в 1950-1970-х гг., однако и с позиции сегодняшнего дня она не лишена некоторой убедительности. Вместе с тем впоследствии в противовес этой теории появились теории демократии участия и совещательной демократии, а также ряд других нормативных теорий демократии, поэтому сегодня демократический элитизм следует воспринимать сквозь призму той критики, которая исходила от конкурирующих теорий. Так, существует три основные линии критики демократического элитизма: первые две касаются оспаривания того понимания общих социальных фактов, на котором зиждется данная теория, а третья – представлений демократических элитистов о справедливости.