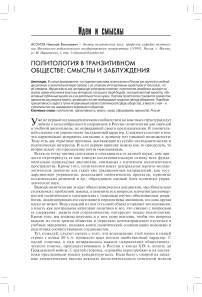Политология в транзитивном обществе: смыслы и заблуждения
Автор: Асонов Николай Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 5, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье доказывается, что падение престижа политологии в России как научной и учебной дисциплины в значительной мере связано с ее сложным интегративным характером и той ролью, что ей отведена. Изучая власть как центральную категорию политики, политология неизбежно выходит на анализ самих участников властных интересов, которым в такой борьбе, носящей жесткий характер, объективный публичный анализ их и их деятельности не нужен. Поэтому политология становится элементом идеологии как ресурса власти, делающего из нее необходимый придаток метода убеждения. Подобная транзитивность ведет в тупик независимый анализ политической сферы общества, а вместе с ней - и строительство так называемого морального общества.
Политология, транзитивность, власть, наука, образование, идеология, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/170171005
IDR: 170171005 | DOI: 10.31171/vlast.v27i5.6735
Текст научной статьи Политология в транзитивном обществе: смыслы и заблуждения
У же не первый год в академическом сообществе и во властных структурах идут дебаты о целесообразности сохранения в России политологии как научной и учебной дисциплины, не оправдавшей своего предназначения. В значительной степени эти упреки носят заслуженный характер. Сложность состоит в том, что кардинально исправить ситуацию к лучшему нет никакой возможности. Тому есть две серьезные причины, вытекающие из сугубо исследовательских и политических интересов. И если первую причину можно как-то преодолеть, то вторая делает это преодоление почти невозможным.
Встав на точку зрения скептиков и отказавшись от данной науки, нам придется перечеркнуть ее как единую исследовательскую основу всех фундаментально-прикладных дисциплин, связанных с изучением политического пространства. Кроме того, политология имеет центральное научно-методологическое значение для таких уже традиционных направлений, как государственное управление, реализация политических проектов, принятие политических решений и др., образующих единый блок политико-управленческих наук.
Выводя политологию за круг обществоведческих дисциплин, мы обязательно столкнемся с проблемой замены, а заменить ее в вопросах изучения закономерностей политического пространства с помощью научно обоснованных разработок, анализирующих его состояние и перспективы эволюции, ни одна другая наука не может. Ведь у каждой из них есть свой объект и предмет исследования, а власть как центральная категория политики и все, что связано с вопросами ее удержания, захвата или сотрудничества, интересует только политологию. Кроме того, мы должны подумать и о том, кому выгодно, чтобы эти вопросы выпали из поля зрения общества и перестали целенаправленно изучаться в учебных заведениях, положив конец политической социализации молодежи и подготовке соответствующих специалистов.
Тут, пожалуй, следует начать с того, что возрождение этой науки в нашей стране с конца 80-х гг. прошлого века носило двойственный характер. С одной стороны, к нам возвращалось важное направление обществоведческого поиска, просуществовавшее в России с конца XIX в . вплоть до Гражданской войны. С другой стороны, «прорабы перестройки» и их наставники преследовали вполне конкретную цель. Надо было с опорой на западные аналитические школы доказать несостоятельность советской модели управления. На ее примере решалась более важная задача – дискредитация всего пути развития России. Предстояло убедить граждан, что самобытность такого рода представляет собой особый вид социальной болезни. Ее надо лечить только проверенными лекарствами либеральной демократии. А поскольку весь мир развивается по единым законам, то нам не надо больше ничего придумывать в вопросах управления. Все за нас уже придумали на Западе. Следует только брать у него все лучшее и внедрять у себя.
Поставленной задаче был подчинен весь комплекс функций политологии, который, по сути дела, должен носить совершенно независимый от идеологии характер, но этого не произошло. В сферу попечения новой власти, наряду с теоретико-познавательной или гносеологической функцией, помогающей раскрыть объективные тенденции политического развития и механизмы осуществления государственной управления, попала воспитательная и тесно связанные с ней мировоззренческая и аксиологическая (ценностная) функции. Тем более не могла остаться вне идеологии функция политической социализации. Ведь все они должны формировать беспристрастное, а значит и критическое отношение к политическим событиям и их участникам, помогать в самостоятельном выборе стиля социально-политического поведения и отношения к власти. По тем же причинам лишились учебной и научной свободы управленческая, телеологическая и прогностическая функции.
Поэтому не приходится удивляться тому, что политология в учебных курсах приобрела зашоренный характер и антироссийскую окраску подобострастного отношения к странам «спонтанной модернизации». Навязанной идеологической линии начал следовать соответствующей набор переводной литературы, включая понятийно-терминологический аппарат, варианты научных гипотез и парадигм исследовательского поиска, быстро перекочевавших почти на все страницы основной литературы для студентов и школьников.
По мере того как сужались с конца 1990-х гг. социально-политические свободы, подавляя левый и правый сектор оппозиционных сил, сфера политических исследований все больше попадала под опеку государственной власти. Костенея сама, она провоцировала формализм и в преподавании основ политологии. Резкое сокращение источниковой базы, выводящей на латентные интересы участников властных отношений, не позволяло документально освоить и понять подлинные причины продолжающегося системного кризиса, честный выход из которого должна разработать данная наука, доказав свое право на существование.
Из этого следует, что процесс ее дискредитации имеет вполне закономерный характер. Известно, что господствующая политическая сила может комфортно существовать, если способна подчинить своей воле наличные ресурсы и методы властвования, куда в качестве значимого компонента входит убеждение, опирающееся на академическую науку и систему образования. Между тем все виды убеждения неразрывно связаны с внеэкономической группой ресурсов власти, встроенных в культурно-идеологическую, нормативно-правовую и коммуникативную подсистемы общества, помогающие господствующей политической силе осуществлять функции управления и подавления своих противников. В таких условиях политология как научная и учебная дисциплина должна неизбежно потерять свое независимое положение и свободу объективной оценки всей сферы властных отношений, институтов и действующих лиц. В противном случае возникает угроза публичной огласки не только их достоинств, но и недостатков, создавая удобную среду для роста оппозиционных настроений, всегда готовых опереться на рациональную критику независимых аналитиков.
Однако политология, как и любая другая наука, имеет диалектический характер. Тяготея к саморазвитию, она все время старается уйти из-под опеки своих высоких покровителей, что тех совершенно не устраивает. На этом строится желание всех недовольных ее своеволием расправиться с ней как ненужной дисциплиной или превратить в сугубо «карманную» отрасль аналитических исследований, выполняющих заказы только правящего класса. С другой стороны, в ее ликвидации растущую заинтересованность проявляют многие гуманитарии, склонные избавляться от лишних конкурентов, вспахивающих общую с ними ниву познания социального бытия. В этом их поддерживают широкие слои общества, видящие беспомощность политологии как прикладной дисциплины в решении стоящих перед нею задач. Вот уже 30 лет люди наблюдают ее неспособность или нежелание выработать схему успешного развития России и перевести либеральный стандарт из области теоретических пожеланий в мир практических воплощений, как это имело место в развитых демократиях Запада. Попутно ставится вопрос о возможности использования исторической науки в поиске оптимальной национальной модели организации власти и общества.
Такое положение дел вынуждает политологию постоянно раздваиваться, вступая внутри себя в антагонистические противоречия, сложившиеся между идеологией, наукой и образованием. Вдобавок эти противоречия усугубляются процессом универсализации гуманитарных наук как следствия усиливающейся глобализации, вступившей в конфликт с этнонациональными факторами, сохраняющими сильную тенденцию к индивидуализации и вскрытию базовых идентичностей, что создает тревожный эффект «качелей». Идеологизируя и разрушая внутреннее единство науки, подобный эффект ведет к раскачке всего общества, провоцируя закрепление в нем не только провластных настроений, но и явно оппозиционных тенденций, требующих изменения действующей модели управления с помощью радикальных мер. И чем слабее сегодня будет центральная власть, тем больше пойдет «раскачка», ведя к формированию новой модели государственного устройства, которой снова понадобится политология для оправдания и защиты своего права на существование.
В условиях подобной транзитивности общества сама политология приобретает транзитивный характер, связанный с ее способностью переходить из одного состояния в другое. Попробуем это представить с помощью следующей формулы. Противоборство a (власти) и b (оппозиции) ведет к тому, что обе они заинтересованы в использовании с (политологии) в качестве не только своего идеологического, но и научно-образовательного оружия. Тот, кто успешно реализует форму такого сотрудничества с наукой, сможет либо удержать за собой политическое господство, либо захватить его. Но в любом случае логика их борьбы, провоцируя привлечение общественных сил d , ведет к изменениям в социально-политической системе страны, а вместе с ней – к модификации статуса и роли политологии. В случае победы оппозиции или очередной перестройки официальных ценностно-целевых установок ей придется отказаться от многих своих выводов и аналитических схем в угоду новым тенденциям.
Вот почему ее транзитивность объясняется через подвижные отношения между элементами x (наука), y (идеология) и z (образование), где связь x в любом соотношении с y обусловливает их обязательный взаимный контакт с z . При этом все три элемента, оставаясь конструктивными частями c (политологии), входят в коммуникативную зону с a (властью), b (оппозицией) и d (общественными силами), придавая политологии особый процессуальный характер.
Он выглядит как переход в следующее состояние при сохранении ею наиболее значимых черт собственной матрицы — научного объективизма, теряющего свои свойства по мере усиления новых факторов, ставших отличительной чертой наступившего постмодерна.
Его негативные проявления имеют весьма опасную двойственность, мешая российской политологии освободиться от западных штампов, навязывающих нам, как выразился Ф.И. Тютчев, абстрактные общечеловеческие ценности, которые на самом деле являются чужими ценностями чужого мира. Во-первых, Россия, встав на путь интеграции в этот мир, обязана брать из него готовые учебные и научные шаблоны, отказавшись от разработки своих схем, особенно если их теоретическая платформа противоречит либеральным стандартам. Одним из направлений таких стандартов стала трансдисциплинарность, включающая в себя нанотехнологии, позволяющие проектировать мир и даже изменять его. Однако никто не представляет подлинный характер такого будущего с учетом всех грозящих ему рисков. Учитывая существенные недоработки в области современной политологии, мы все еще не можем получить научно аргументированный ответ на один из самых важных вопросов всей нашей жизни: «К какому политическому устройству мы в итоге придем?»
Во-вторых, отличительной чертой постмодерна, наряду с отречением от веры (премодерн), выступает ослабление интереса к науке и гуманизму (модерн). Взамен научного понимания политической сферы общества как объективной данности предлагается отвлеченное смысловое допущение, согласно которому весь мир наполнен одними только симулякрами как имитацией несуществующих явлений и процессов. Поскольку якобы идет исчезновение границ между реальностью и продуктом фантазии, подменяющим объективное бытие его знаками (мемами) и информационными суррогатами, всем надо просто меньше доверять всякому аналитическому мышлению, избегая «застывания» смыслов и двоичности противопоставлений. Гражданам следует уверовать в правоту каждого перед каждым, где на все вопросы социально-политической жизни можно иметь точку зрения клипового мышления, дающего иллюзию обретения личной истины, а для этого политология, став разновидностью псевдонаучных симулякров, не нужна. Можно вполне довольствоваться виртуальным электронным правительством, освобождающим человека от всяких контактов с окружающим миром и тем еще больше погружающим каждого в область небытия электронного общества и правоты своих суждений.
Подобная транзитивность ведет в тупик и делает совершенно ненужным как обучение политологии, так и проведение независимых научных исследований. Причем лишним становится внедрение идеологических конструкций, содержащих зерно истины и готовых опереться на науку. Отказывая таким образом себе в праве на политическую социализацию и замыкаясь в скорлупе самомнения, люди начинают разрушать свое общественное сознание и выработанную этим сознанием нравственную коллективистскую доминанту, а вместе с ней разрушают возможность построения обещанного им «морального общества».