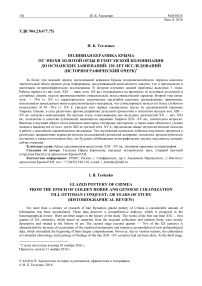Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до османских завоеваний: 120 лет исследований (историографический очерк)
Автор: Тесленко И.Б.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 8, 2016 года.
Бесплатный доступ
За более чем вековой период исследований керамики Крыма поздневизантийского периода накоплен значительный объем разного рода информации, заслуживающий комплексного анализа, что и предлагается в настоящем историографическом исследовании. В истории изучения данной проблемы выделено 3 этапа. Работы первого из них (кон. XIX - перв. четв. XX вв.) основывались на предметах из музейных коллекций и случайных сборов, носили преимущественно описательный, искусствоведческий характер. Второй этап (втор. четв. - 70-е гг. XX в.) характеризуется увеличением масштабов раскопок средневековых памятников, интенсивным накоплением нового археологического материала, что стимулировало начало его более глубокого осмысления. В 50-70-е гг. XX в. увидели свет первые специальные труды по средневековой керамике Таврики. Однако, в силу различных причин разработка детальной хронологии и типологии находок кон. XIII-XV вв. оказалась невозможной. На третьем этапе, охватывающем два последних десятилетий XX - нач. XXI вв., количество и качество публикаций, касающихся керамики Таврики XIII-XV вв., значительно возросло. Введены в научный оборот итоги раскопок некоторых гончарных мастерских, а также иных объектов с узкими датами в промежутке от посл. трети XIII до третьей четв. XV в., предложены новые методологические подходы в работе с массовыми керамическими находками. Эти достижения позволили добиться ощутимого прогресса в различных направлениях керамологических исследований (детальной датировке, типологии, археометрическом изучении), а также подготовили базу для будущих обобщающих монографических трудов, насущность которых сейчас очевидна.
Крым, средневековая археология, xiii-xv вв, поливная керамика, историография
Короткий адрес: https://sciup.org/14118130
IDR: 14118130 | УДК: 904.23(477.75) | DOI: 10.5281/zenodo.556164
Текст научной статьи Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до османских завоеваний: 120 лет исследований (историографический очерк)
С образованием Монгольского государства и развитием международной торговли в Черноморском бассейне, контролируемой преимущественно итальянцами, Крым, расположенный на западной окраине евразийского степного коридора и северо-восточной окраине средиземноморско-черноморской навигационной зоны, оказался в центре интенсивных культурно-экономических контактов представителей восточных и средиземноморских цивилизаций. Началась очередная эпоха его истории, продлившаяся с некоторыми метаморфозами вплоть до османских завоеваний 1475 г.
Новые геополитические реалии способствовали экономическому подъему региона, выразившемуся, в том числе, в образовании и расцвете городских центров на перевалочных пунктах торговых коммуникаций. Лидирующие позиции среди них заняли столица Крымского улуса Золотой Орды — Солхат и центр генуэзских колониальных владений в Крыму — Каффа, основанные во втор. пол. XIII столетия (Крамаровский 1989: 142—143; Вalard 1978: 114—118).
Изначально заселяемые выходцами из ближних и дальних восточных и западных окрестностей, эти города оказались местами сосредоточения носителей различных культурных традиций, что способствовало формированию здесь специфической материальной культуры, получившей отражение в многочисленных изделиях городского ремесла, в том числе, гончарного. Одним из наиболее ярких произведений местных мастеров была глазурованная посуда. Имея большой коммерческий успех за пределами полуострова, она стала своеобразным культурным феноменом эпохи, повлиявшим на керамическое декоративно-прикладное искусство обширных просторов от Волги до Дуная.
Интерес к изучению поливной керамики Крыма золотоордынско-генуэзского периода, стимулируемый постоянным накоплением новых материалов, в последние десятилетия особенно возрос и вышел на новый качественный уровень, что побуждает обратиться к рассмотрению истории её исследования и подвести некоторые итоги научных достижений в этой области.
По характеру и динамике накопления материала, а также методическим подходам к его обработке, обобщению и интерпретации в истории изучения поливной керамики Крыма золотоордынского и генуэзского периодов выделяется 3 этапа.
Вып. 8. 2016
I этап: кон. XIX — перв. четв. XX в.
В кон. XIX в. средневековые глазурованные изделия впервые попадают в поле зрения исследователей. Внимание специалистов привлекала парадная столовая посуда, рассматривавшаяся как ценный экспонат музейных коллекций. Начало ее изучению было положено главным хранителем средневекового отделения Императорского Эрмитажа В. фон Боком в статье «Poteries vernissees du Caucase et de la Crimee», вышедшей в Париже в 1897 г. (Bock 1897: 12—53). Автор выделил шесть типов поливной посуды, отнеся два из них к крымскому производству (Херсонес, Феодосия), остальные — к продукции армянских мастеров из Грузии XII—XIII вв., предположив возможность имитации в Феодосии некоторых из них (Bock 1897: 52). Выводы автора не прошли испытания временем, однако его труд занимает достойное место в истории изучения средневековой поливной керамики Северо-Восточного Причерноморья, как первая попытка подобного рода изысканий.
Более основательно к исследованию керамического художественного ремесла в Крыму подошел хранитель музея Императорского Одесского общества истории и древностей Э. Р. фон Штерн. Его работа «Феодосия и ее керамика», основанная на материалах, собранных А. Л. Бертье-Делагардом при строительстве феодосийского порта, увидела свет в 1905 г. Керамику из Каффы Э. Р. фон Штерн разделил на две группы. В первую вошли красноглиняные сосуды с гравированным орнаментом, изготовленные, по его мнению, « в самой Каффе по византийским образцам », во вторую — фаянсовая посуда, которую « принято называть персидской » или « арабо-персидской » (Штерн 1905: 77). Рассмотрев поливную посуду Каффы в комплексе с находками из Малой Азии, Сирии, Греции, Кипра, Египта, хранящимися в музеях и частных коллекциях Европы, исследователь приходит к выводу, что район распространения такой керамики был весьма обширным, при этом южная Россия и Крым составляли лишь его северную часть (Штерн 1905: 54—58). В качестве доказательства местного производства поливной посуды Э. Р. фон Штерн приводит сведения о находках печного припаса (треножных подставок) в Феодосии и Херсонесе (Штерн 1905: 54—58). По условиям обнаружения исследователь датировал обе группы изделий временем не ранее начала генуэзской колонизации Крыма, то есть XIII в. (Штерн 1905: 62—64, 79). Впоследствии деление керамики на группы по происхождению и хронологии неоднократно уточнялись на основании новых данных. Со временем удалось отделить собственно византийские сосуды от изделий местных мастеров, детализировать представления о составе восточных импортов. Однако, в целом, фундаментальный подход автора к анализу материала и поиску аналогий, детальное описание находок, качественные иллюстрации позволяют его труду сохранять актуальность и в наши дни. Кроме того, обе работы, В. фон Бока и Э. Р. фон Штерна, впервые продемонстрировали значимость предмета исследования, что повлекло за собой публикации находок из других регионов полуострова, в частности из имения Ласпи на Южном берегу (Кубе 1926: 246—257).
На первый период приходится также начало формирования коллекций средневековой керамики за счет археологических раскопок. Наиболее масштабным в этом смысле были исследования Одесского общества истории и древностей и Императорской археологической комиссии в Херсонесе и на Мангупе (К. К. Косцюшко-Волюжинич, Р. Х. Леппер, Л. А. Моисеев). « Верхним » слоям Херсонесского городища исследователи уделяли крайне мало внимания, тем не менее, среди « византийских » материалов К. К. Косцюшко-Волюжинич отмечает находку в периболе у башни Зенона треножной подставки,
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований… применявшейся при обжиге поливной посуды, с остатками глазури на ножках1 (Косцюшко-Валюжинич 1901: 44; Косцюшко-Валюжинич 1902: 21). В то же время на Мангупе впервые удалось раскопать часть закрытого комплекса XV в. — княжеского дворца (Леппер 1913: 73—79; Моисеев 1918: 84, рис. 126—131). И хотя цели археологических изысканий тогда ограничивались лишь поиском материальных ценностей и выяснением общих очертаний архитектурных сооружений (описанию стратиграфии и керамики внимание не уделялось2), добытые коллекции керамических находок были сохранены для науки и неоднократно привлекали интерес исследователей уже спустя десятилетия (Залесская 2011; Мыц 1991a: рис. 42: 1—7, 43, 44, 45; Мыц 1991b: 183—186, рис. 2: 1—6, 3: 1—3; Якобсон 1950; Якобсон 1979; Яшаева и др. 2011: 622—664).
II этап: втор. четв. — 70-е гг. XX в.
Со втор. пол. 20-х гг. XX в. возрастают масштабы раскопок средневековых памятников, которые проводятся как с целью фундаментальных академических исследований, так и в рамках охранных и новостроечных работ, связанных с активизацией курортного строительства в прибрежной части Крыма. Исследования осуществлялись, преимущественно, ведущими научными академическими учреждениями, государственными музеями и университетами (ГАИМК, ИИМК, ИА АН СССР, ИА АН УССР, ГИМ, ГЭ, ХГМ, УрГУ, ХГУ и др.).
Продолжаются раскопки средневековых кварталов Херсонеса (работы Г. Д. Белова, И. А. Антоновой, А. И. Романчук, О. И. Домбровского и др.) (Яшаева и др. 2011: 44—54), дворца и храмового комплекса на Мангупе (Тиханова 1953: 334—389; Якобсон 1953: 390— 418). Начаты исследования крупных средневековых городов полуострова — Судака (с кон. 20-х гг. XX в.) (Джанов 2006; Майко, Джанов 2015: 13—22), Феодосии (с 1949 г.) (Айбабина 1988: 67—68), Старого Крыма (со втор. пол. 20-х гг. XX в.) (Крамаровский 1989; Ломакин 2016). Кроме того, проводится ряд археологических исследований на других памятниках Крыма. Из них кратко опубликованы итоги раскопок на холме Кордон-Оба у д. Отузы (ныне Щебетовка)3 (Барсамов 1929: 168); верхних слоев археологического объекта на юговосточном склоне г. Сююрю-Кая (Тепсень)4 (Бабенчиков 1958: 140, рис. 27; Фронджуло 1961: 179—181, табл. II: 8 , рис. 10; Фронджуло 1968: 102—103, 106, 111, 117—118, рис. 21) в Юго-Восточном Крыму; слоев генуэзского времени Мирмекия5 (Гайдукевич 1952: 178—183, рис. 84—88а), остатков средневекового Корчева (Воспоро), на территории современной Керчи (Зеест, Якобсон 1965: 62—69; Макарова 1965: 70—76); городищ Ески-Кермен (Репников 1941: 279—280), Бакла (Рудаков 1975: 20—30; Талис 1969: 57—63), Тепе-Кермен (Талис 1977: 98—104), разведывательных шурфов на крепостях Чуфут-Кале (Веймарн 1968:
Вып. 8. 2016
65—74, рис. 17—20, 27), Каламита (Веймарн 1963: 78—79, рис. 10), Сюйрень6 (Баранов 1971: 88—92; Воронин и др. 1979: 313—315), Кыз-Куле (Черкес-Кермен) (Боданинский 1935: 81— 87), храма на г. Бойка (Домбровский 1968a: 90—91, рис. 7: а , 8 ) в Юго-Западном Крыму; а также ряда южнобережных памятников — остатков храма с погребениями близ крепости Фуна, в Массандре, Верхней Ореанде, археологических объектов в Ласпи, Форосе, Голубом Заливе, Симеизе, Гурзуфской крепости и пр.7 (Домбровский 1968b: 70—74; Домбровский 1974: 5—56; Когонашвили, Махнева 1974: 119—120, рис. 9; Паршина 1971a: 57—64; Паршина 1971b: 65—70; Скобелев 1974: 108, рис. 1). Информация о поливной керамике этих объектов в публикациях минимальна, в иллюстрациях представлены отдельные наиболее выразительные предметы, сопровождающиеся широкими датировками.
На 40-70-е гг. приходятся первые находки остатков мастерских по производству поливной керамики в Старом Крыму, Судаке и Феодосии.
А. Л. Якобсон сообщает об обнаружении в 1940 г. большого количества обломков посуды с росписью белым ангобом «при открытии во время земляных работ гончарной мастерской» по ул. Красноармейской на восточной окраине Старого Крыма. Материалы поступили в местный краеведческий музей, но были утрачены во время Второй мировой войны (Якобсон 1950: 194).
А. М. Фронджуло приводит краткие сведения о находке в Судаке, на посаде средневекового города к западу от его стен, на стройплощадке пансионата «Львовский железнодорожник», остатков « круглой в плане гончарной печи, от которой сохранилась половина топочной камеры … с округлым отверстием топки ». Здесь же «… встречены обломки керамических форм-штампов для нанесения рельефного орнамента и обломки керамики с подобным же орнаментом ». На основании чего, исследователь приходит к выводу о том, что «… в печи обжигалась штампованная поливная керамика » (Фронджуло 1974: 147).
Еще один гончарный комплекс был открыт при раскопках 1975 г. в г. Феодосия на Карантинном холме, в южной части цитадели, в районе башен Криско и Клемента VI. Здесь ниже уровня застройки XVII—XVIII вв. «… обнаружены фундаменты помещений XIV—XV вв., идущие параллельно оборонительным сооружениям Кафы, а также мощеная улица, водосток и гончарная печь. Последняя имеет квадратную форму; в ее обжигательной камере прослежены остатки глиняного свода, а на полу камеры — раздавленный сосуд и следы спекшей поливы. Топочная камера одноканальная, сложена из обожженного кирпича на растворе » (Петерс и др. 1976: 377—378). При раскопках горна найдены подставки-сипаи, куски стекловидной массы, керамический брак и полуфабрикаты8 (Петерс и др. 1976: 377—378).
Таким образом, к середине 70-х гг. стало очевидным наличие минимум трех керамических мастерских различной специализации в трех крупнейших городах средневекового Крыма. К сожалению, детальная информация о столь важных свидетельствах местного гончарного ремесла так и не была опубликована авторами открытий.
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований…
Интенсивное накопление нового археологического материала стимулировало начало его более глубокого осмысления. В 50-70-е гг. предпринимаются первые попытки обобщения, систематизации и хронологизации средневековой керамики Таврики. Среди исследователей, работавших в этих направлениях, следует отметить А. Л. Якобсона, В. Н. Даниленко, А. И. Романчук, Е. А. Паршину и Д. Л. Талиса.
Перу А. Л. Якобсона принадлежат первые фундаментальные труды по средневековой керамике Херсонеса и Крыма. Разделы двух глав (III и IV) его монографии «Средневековый Херсонес (XII—XIV вв.)» посвящены детальному анализу поливной посуды из « верхнего слоя » городища (Якобсон 1950: 111—117, 168—222). Предпринята попытка распределить ее по стилистическим группам, производственным центрам и хронологии. Безусловным достоинством публикации стало издание полного каталога доступных автору поливных изделий, снабженного обширными комментариями с подбором широкого круга аналогий, уточняющих датировки и происхождение отдельных групп керамических сосудов. Эта работа легла в основу обобщающего и до сих пор единственного в своем роде труда «Керамика и керамическое производство средневековой Таврики», изданного в 1979 г. Здесь материалы Херсонеса дополнены находками из поселений Юго-Западной Таврики (Эски-Кермен, Бакла) и Таманского городища, более четко сформулирован принцип деления поливной посуды на группы (Якобсон 1979: 120—147). Интересно наблюдение А. Л. Якобсона о том, что многие формы и декор поливной посуды позднесредневекового Херсона близки к изделиям Закавказья (Грузия, Армения, Азербайджан) и Ближнего Востока (Сирии, Месопотамии, Персии) XII—XIV вв., объясняемое тесными связями города « в позднюю пору своей жизни » с этими регионами через Трапезунд9. Кроме того, отмечено их первостепенное влияние на местное производство, которое, как утверждает исследователь « судя по обилию находок поливной посуды при раскопках … в позднесредневековом Херсоне было, несомненно, развито » (Якобсон 1950: 112—116; Якобсон 1979: 133—146). Однако, каких-либо дополнительных доказательств в пользу этого тезиса, за исключением уже упомянутой находки трипода у башни Зенона и еще одного на Гераклейском полуострове, продемонстрировать ему не удалось (Якобсон 1979: 146—147, рис. 93).
В основу предложенной классификации положен распространенный на то время подход, исходящий из самых общих характеристик черепка (белый, красный), техники и стиля декоративного оформления сосудов (Якобсон 1950: 168; Якобсон 1979: 119—120). Однако исследователь не обратил должного внимания ни на состав формовочных масс, ни на особенности технологии изготовления сосудов, что могло бы добавить аргументов при разделении керамики по возможным производственным центрам.
Не приуменьшая значения обеих работ в целом, следует отметить еще один существенный недостаток, не позволяющий в полной мере использовать приведенные автором сведения для хронологических построений. А. Л. Якобсону так и не удалось окончательно определиться с датировкой верхних слоев пожаров городища (кон. XIII или XIV вв.?), а как следствие и обнаруженного в них керамического материала10 (Якобсон 1950:
Вып. 8. 2016
37—42; Якобсон 1979: 109, 157). Возможно, именно это обстоятельство привело его к сомнительному заключению о завершении цикла развития причерноморской керамики в XIII в. По мнению ученого, изделия XIV и XV вв. не внесли ничего нового в этот процесс (Якобсон 1979: 158). Отметим также, что неопределенность с разделением и датировками средневековых слоев Херсонеса долгое время оставалась характерной для исследователей этого памятника (Романчук 1982: 89—113; Рыжов 1985; Рыжов 1986: 299; Сазанов 2005: 195—213). Также довольно спорным выглядит тезис о полной замене византийской привозной керамики изделиями местного производства в XIII в. (Якобсон 1979: 146), который в дальнейшем не нашел фактического подтверждения.
В 1969 г. В. Н. Даниленко и А. И. Романчук предпринимают попытку формальнотипологической классификации поливной посуды Мангупа по материалам из раскопок дворца и базилики 1912—1914 и 1938 гг. (Даниленко, Романчук 1969: 116—138). Не имея возможности разделить материал по комплексам и слоям (из-за отсутствия полевой документации), авторы рассмотрели его в отрыве от топографического и стратиграфического контекста. По наиболее общим признакам оформления внешней поверхности керамика была разделена на три группы (без декора, с графическим орнаментом и с росписью ангобом или краской) с типологическими вариантами внутри11. Однако, анализ находок без увязки со стратифицированным комплексами повлек за собой ошибки в датировке отдельных предметов и групп. На основании аналогий, порой довольно отдаленных и подысканных далеко не ко всем образцам, авторы отнесли весь материал к XIII—XV вв. (Даниленко, Романчук 1969: 128—129). Попытки сузить хронологию группы II в целом до XIV—XV вв., а группы III — до XV в. выглядят не убедительно, так как, некоторые артефакты из группы II, впрочем, как и группы I, а также тип 2 группы III, отраженные на иллюстрациях к статье (Даниленко, Романчук 1969: табл. 1: 7, 8, 2: 19, 5: 49а—53), относятся ко времени не ранее XVII в. Идентичные предметы известны, например, в материалах из турецких крепостей Ени-Кале, Сед-Ислам (Волков 1998: рис. 9, 11), поздних слоев Стамбула (Hayes 1992: pl. 51: b, c, f, i) и пр. Вероятно, эти находки происходят из отложений «турецкого времени», исследовавшихся при раскопках мангупской базилики (Бармина 1983: 19; Тиханова 1953: 348). Наличие разновременных предметов, к тому же происходящих из разных производственных центров, в одной классификационной ячейке свидетельствует о расплывчатости критериев, используемых при обработке материала. Такая классификация не имеет смысла и непригодна для практического применения. И наконец, итоговый вывод о том, что вся представленная в статье «полива не привозная, а местная», основанием для которого стало заключение авторов о ее оригинальности по сравнению со столовой посудой из «других известных (авторам — И. Т.) центров» (Даниленко, Романчук 1969: 129—130), исторической сцены и в конце столетия был окончательно уничтожен войсками «нового золотоордынского временщика — Едигея» (Якобсон 1950: 42). К какому именно периоду относятся пожары, разрушившие жилища из которых происходит керамика и как они между собой соотносились, оставалось не ясным. Позже он приходит к убеждению, что разгром города следует связывать с экспедицией Ногая в 1299 г., после чего город уже не был крупным поселением (Якобсон 1959: 233). Во второй монографии исследователь полностью придерживается этой версии (Якобсон 1979: 109), хотя неоднократно прибегает к абстрактным выражениям «верхние слои Херсона», а верхнюю дату некоторых групп поливной посуды относит к XIV в. Таким образом, на основании приведенных данных оказалось довольно сложно отчетливо отделить материалы XIV в. от более ранних, что в отдельных случаях повлекло за собой ошибочные датировки. Некоторые предметы XIV и даже XV вв. были отнесены исследователем к XIII ст. (Якобсон 1979: табл. XV: 56, XVI: 61, XXIII: 89в).
-
11 В общую классификацию не вошли изделия, украшенные в выемчатой технике, а также селадон, сосуды с росписью кобальтом и люстром (Даниленко, Романчук 1969: 125, 127).
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований… звучит малоубедительно12. Тем не менее, этот труд является первой попыткой систематизации поливной керамики одного из крупнейших средневековых памятников Таврики с исследованными закрытыми комплексами XV в., хотя и не удачной.
В 1974 г. Е. А. Паршиной опубликованы новые данные о керамике VIII — X—XV вв. из восьми объектов Южного Крыма (Кастель, Ай-Тодор, Гурзуф, Панеа, Кучук-Исар, Хачла-Каясы, Биюк-Исар, Ореанда-Исар), исследовавшихся с 1965 по 1969 гг. (Паршина 1974). По функциональному назначению находки разделены на 5 групп (хозяйственная и торговая тара, простая столовая и кухонная посуда, поливная керамика, мелкие глиняные изделия, керамические строительные материалы) и описаны в хронологической последовательности (Паршина 1974: 57). В массе поливной посуды выделены типы по цвету черепка и технике орнаментации, которые датированы по тщательно подобранным аналогиям из раскопок объектов XIII—XV вв. как в Крыму, так и за его пределами. Исследовательнице довольно точно удалось очертить круг поливных изделий X—XII и XIV—XV вв., а также определить общие временные рамки существования памятников (что и являлось основной целью работы), однако разработка детальной хронологии вещевого материала оказалась невозможной.
Отдельные работы Д. Л. Талиса посвящены анализу поливной керамики из городищ Тепе-Кермен и Бакла (Талис 1971; Талис 1976). По Тепе-Кермену это лишь короткая публикация одного объекта со слоем пожара XIII в., в котором найдено два поливных блюда и два глазурованных кувшина, датируемые автором по аналогии с Херсонесом в диапазоне от XII до XIV вв. (Талис 1971). В то же время исследование керамического комплекса Баклы представляет собой более основательный труд, базирующийся на значительном количестве добытого раскопками материала (Талис 1976). Здесь автором продемонстрирован комплексный подход к анализу объекта исследования. Пользуясь традиционной на то время схемой классификации керамики, Д. Л. Талис разделил ее на два типа — белоглиняную и красноглиняную. Исходя из особенностей оформления поверхности, внутри каждого типа изделий были выделены группы, а самая многочисленная из них — керамика с орнаментом «сграффито» (группа I) — по стилистическим признакам была разделена на разновидности, соответствующие, по мнению автора, четырем центрам производства этой посуды: сосуды типа «Зевксиппа» византийского происхождения; « сосуды с орнаментом, являющимся прямым подражанием предыдущим », но крымского производства13; « сосуды с орнаментом, генетически хотя и связанным с «зевксипповым», но сильно отличающимся от него крайней простотой и грубостью выполнения », также одного из крымских центров; « сосуды, изготовленные, скорее всего, в Херсонесе в XIII, возможно, XIV в. » (Талис 1976: 74—81, рис. 4—6).
В завершение абсолютная хронология керамики, основанная на аналогиях, сопоставлялась с относительной. То есть, производился анализ распределения выделенных классификационных единиц по слоям (Талис 1976: 84—85). Такой подход к исследованию керамического материала следует признать наиболее прогрессивным на то время для средневековой крымской археологии. Однако результаты его применения в данном случае оказались незначительными из-за несовершенной методики раскопок и фиксации находок, а
Вып. 8. 2016
также расплывчатых принципов классифицирования и недостатка сведений по отдельным группам и разновидностям керамических изделий.
Во-первых, стратиграфическая колонка, в которой выделено всего три слоя на период с X в. до финала существования городища, выглядит слишком схематично. При этом материал не разделялся по закрытым комплексам и прочим узким контекстам (слои пожара, разрушения, пр.). Во-вторых, при систематизации красноглиняной керамики с орнаментом сграффито автору удалось определить лишь с импортную византийскую посуду типа “Zeuxippus ware”, однако он явно испытывал затруднения при атрибуции остальной керамики группы I, привлекая слишком отдаленные параллели, порой несоответствующие баклинским находкам. Д. Л. Талис сравнил всю красноглиняную поливную посуду, украшенную гравировкой, с «Zeuxippus ware», выделяя разновидности на основании схожести или отличия от нее, что далеко не всегда оправдано14. При этом не были учтены особенности состава формовочных масс, технология формовки сосудов, специфика техники нанесения гравированного декора, а также хронологическая позиция наиболее близких аналогий. Так, исследователь указывает на массовые находки изделий с орнаментом сграффито и бихромной подцветкой, подобных баклинским, в закрытых комплексах Мангупа втор. — трет. четв. XV в. (Талис 1976: 79; Якобсон 1953: 400, рис. 13), однако при этом верхнюю хронологическую границу красноглиняной керамики Баклы, как и самого городища, он определяет в рамках XIV в. (Талис 1976: 86). Исходя из вышесказанного, предложенную Д. Л. Талисом датировку верхних слоев памятника и отдельных « разновидностей » керамических находок из них, следует признать не достаточно обоснованной, а методический подход к классификации керамики сграффито — мало пригодным для практического применения.
В целом среди достижений второго этапа следует отметить масштабные археологические исследования средневековых памятников Крыма, в результате которых были отмечены следы масштабной катастрофы (слои пожара и разрушений) втор. пол. XIII в. (Рудаков 1975: 23; Талис 1977; Якобсон 1959: 233). Эти отложения служат своеобразным репером, отделяющим горизонты с преобладанием византийских черт в материальной культуре от возникших затем иных вещевых комплексов, что очень важно для понимания хронологии артефактов, в том числе керамических, начального этапа новой эпохи. В то же время данные, полученные из раскопок Мангупа, где изучались комплексы второй — трет. четв. XV в. со слоями пожара времени османского завоевания Крыма (1475), позволили получить представление о керамике финала исследуемого периода. Однако, не смотря на это, ни в одной из научных работ не была решена проблема детальной периодизации культурных слоев и керамических находок отрезка от середины XIII до посл. четв. XV вв.
К значимым событиям для исследования керамики Крыма XIII—XV вв. относятся также открытия мастерских по производству поливной посуды в Солхате, Солдайе и Каффе, однако отсутствие детальных публикаций не позволило составить отчетливого представления об особенностях технологического процесса, специфике выпускаемой продукции и уточнить хронологическую позицию комплексов.
Кроме того, были предприняты первые попытки систематизации массового керамического материала из раскопок, которые хоть и не смогли решить ряд важных
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований… исследовательских задач, но, безусловно, заложили базу будущих разработок в этом направлении.
-
III этап: с 80-х гг. XX в. по настоящее время
На протяжении двух последних десятилетий XX — нач. XXI вв. количество полевых изысканий на крымских памятниках XIII—XV вв. значительно возросло. Продолжаются раскопки средневековых слоев в Херсонесе, на Мангупе, Эски-Кермене, в Судаке, Феодосии, Керчи, а также исследуется ряд синхронных объектов в ближайших окрестностях этих памятников. Предпринимаются масштабные работы на территории золотоордынского Солхата (Старый Крым) и его округи, городищ Луста (крепость Алустон, г. Алушта) и Партениты (пгт. Партенит), укреплений Фуна (у с. Лучистое), Чабан-Куле (у с. Приветное), генуэзской крепости Чембало (г. Балаклава). Раскапываются несколько храмов с некрополями на г. Аю-Даг (пгт. Партенит), в с. Малый Маяк, у замка Фуна, в урочище Сотера (с. Солнечногорское). Проводятся небольшие исследования укреплений Учансу-Исар (Южный берег Крыма), Исар-кая, Пампук-Кая (Юго-западный Крым), Кордон-Оба (Юговосточный Крым) и др., вводятся в научный оборот материалы раскопок прежних лет.
По мере накопления первоисточников увеличивается число публикаций, в которых уделяется внимание керамике XIII—XV вв. По тематике их также можно разделить две группы.
К первой группе относятся работы, посвященные отдельным памятникам или археологическим объектам, в которых представлены итоги их раскопок, рассматриваются вопросы периодизации и хронологии культурных слоев, а также приводится характеристика обнаруженных в них керамических находок.
Юго-Западный Крым
Среди исследований по поздневизантийскому Херсону, в первую очередь, следует отметить труды А. И. Романчук, Н. С. Рыжова и Л. А. Голофаст.
-
А. И. Романчук публикует результаты многолетних изысканий в портовом районе. Здесь раскопками выявлено несколько строительных периодов поздневизантийского городища — втор. пол. XIII, XIV и XV вв. (Романчук 1982: 89—93; Романчук 1986: 121—157; Романчук 1994: 229; Романчук 1995; Романчук 1996; Романчук 1997a; Романчук 1997b; Романчук 1999; Романчук 2000). И хотя предлагаемые исследовательницей варианты датировок находок и строительных периодов не всегда достаточно обоснованы15 и неоднократно подвергались критике со стороны других медиевистов16 (Мыц 2007: 88—89; Мыц 2009: 47—49; Мыц 2015;
Вып. 8. 2016
Сазанов 2005: 195—213), тем не менее, Алле Ильиничне удалось выделить и опубликовать материалы из жилищно-хозяйственных комплексов втор. пол. XIII в., а также некоторые предметы из объектов, датирующихся монетами перв. пол. — 50-60-х гг. XIV в. (Романчук 1996: 302; Романчук 1997a: 280—287, рис. 1—10; Романчук 1999: 187—201; Романчук 2003b; Романчук 2005).
Н. С. Рыжов и Л. А. Голофаст уделили значительное внимание исследованию комплексов XIII в. северного района Херсонеса (Рыжов 1999; Рыжов, Голофаст 2000; Голофаст, Рыжов 2003). Кроме того, Л. А. Голофаст обобщила и систематизировала информацию о градостроительном облике, ремесле и промыслах Херсона этого времени (Голофаст 2008; Голофаст 2009). Характеризуя гончарное производство средневекового города, Лариса Алексеевна отмечает, что предположения исследователей о производстве поливной посуды на городище вполне логичны, учитывая его масштабы, значимость и большое количество находок разнообразных глазурованных изделий в « верхних слоях » памятника. Однако достоверные доказательства этого все еще не найдены, а для многих групп керамики, ранее считавшейся местной (например, 5 и 7, отчасти 6 и 8 по А. Л. Якобсону (Якобсон 1979)), « определены центры или районы изготовления … в других далеких от Херсонеса регионах » (Голофаст, Рыжов 2003: 200—209; Голофаст 2008: 352; Зеленко, Тимошенко 2011; Waksman et al. 2009: 854—855).
Опубликованы результаты раскопок отдельных объектов со слоями пожара XIII в. на участке античного театра (Паршина 2015), в северном (Залесская, Калашник 1992), северовосточном (Золотарев, Коробков, Ушаков 1998; Ушаков 2005) и южном (Рабиновиц и др. 2009; Arthur, Sedikiva 2001; Arthur, Sedikiva 2002) районах городища.
Что касается датировки катастрофических разрушений Херсона и иных населенных пунктов Таврики палеологовского периода, то этот вопрос все еще остается дискуссионным. Согласно историческим и нумизматическим изысканиям последних десятилетий первая катастрофа определяется временем не позднее 60—70-х гг. XIII в. и предположительно связывается с погромами в процессе первого похода Ногая 1278 г. (Алексеенко 1996: 190; Голофаст, Рыжов 2003: 224; Мыц 1997: 66—67). Однако А. И. Айбабин, публикуя итоги раскопок на городище Ески-Кермен (Айбабин 1991; Айбабин 2014a), по-прежнему соотносит разрушение городских кварталов здесь со вторым походом Ногая — 1298—1299 гг., считая, что находки монеты никейского императора Феодора II Ласкариса (1254—1258) не являются достаточно веским аргументом для датировки слоев разрушения 60—70-ми гг. XIII в. (Айбабин 2014a: 217, 222— 223). Схожесть керамических комплексов из слоев пожара Херсона и Эски-Кермена (Айбабин 2014b) свидетельствует об одном или хронологически близком периоде их формирования, а данные нумизматики, все же, в настоящее время, позволяют скорректировать дату пожаров в рамках конца третьей — начала посл. четв. XIII в.
После этих разрушений Херсонес возрождается, хоть и в меньших масштабах, а на Ески-Кермене, по мнению А. И. Айбабина, продолжает функционировать храм с некрополем (Айбабин 1991: 49; Айбабин 2014a: 223).
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований…
Еще один существенный удар по городским центрам Юго-Западной Таврики, оставивший следы массовых разрушений, был нанесен во втор. пол. XIV в. После него Херсонес окончательно теряет свое былое величие, а городище Ески-Кермен становится необитаемым. Александр Ильич, вслед за А. Л. Якобсоном, связывает катастрофу с набегами Едигея (ставленник Тимура) (Айбабин 1991: 49). Эта точка зрения, которую поддерживали в разное время А. И. Романчук, А. Г. Герцен и, отчасти, М. Г. Крамаровский, проецируя соответствующие события на исследуемые ими памятники (Херсон, Мангуп, Солхат), в последнее время подверглась обстоятельной критике со стороны В. Л. Мыца. Исследователь на основании анализа археологических, нумизматических и письменных источников, предпочитает датировать разорение ряда городов Таврики 60-ми годам XIV в., соотнося их, преимущественно, с походами темника Мамая (Мыц 2009: 42—43, 47—65; Мыц 2015).
Итоги этих дискуссий важны для уточнения хронологической позиции комплексов со слоями пожара втор. пол. XIV в., а соответственно и керамики из них. На наш взгляд, весомее, все же, данные археологии и нумизматики, которые, на сегодняшний день, дают больше аргументов в пользу датировки очередной массовой гибели населенных пунктов Крыма серединой 60-х гг. XIV в.17, хотя этот рубеж пока еще очевиден лишь в качестве нижней даты и не для всех населенных пунктов.
Сведения о поздневизантийских объектах ближайшей округи Херсона получены в результате раскопок, проведенных экспедицией ХГИАЗ под руководством Т. Ю. Яшаевой в кон. 80-х — нач. 90-х гг. XX в. на мысе Виноградный и в Сарандинакиной балке. Здесь исследованы два монастырских комплекса, основанные в кон. XIII — нач. XIV вв. Один из них (на м. Виноградный), по мнению автора раскопок погиб в пожаре посл. трети XIV в., второй (в Сарандинакиной балке) — существовал до конца трет. четв. XV в. (Яшаева 1994a; Яшаева 1994b; Яшаева 1998; Яшаева 2005; Яшаева 2006). Найденная керамика датирована по аналогиям. Отложения XIV и XV вв. стратиграфически разграничить не удалось.
Введены в научный оборот материалы раскопок крепости Чембало, осуществляемых объединенной археологической экспедицией Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина и Национального заповедника «Херсонес Таврический» (Дьячков С. В., Алексеенко Н. А.) (1999—2013 гг.), а также Южно-Крымской экспедицией Государственного Эрмитажа (с 2002 по настоящее время) (Адаксина С. Б.)18 (Адаксина 2002; Адаксина, Кирилко, Мыц 2003; Адаксина, Кирилко, Мыц 2004; Адаксина, Кирилко, Мыц 2006; Адаксина, Мыц 2007; Адаксина, Кирилко, Мыц 2008; Адаксина, Мыц, Ушаков 2010; Адаксина, Мыц, Ушаков 2011; Адаксина, Мыц, Ушаков 2012; Адаксина, Мыц, Ушаков 2014; Адаксина, Мыц 2015; Адаксина, Мыц 2016; Алексеенко и др. 2015; Дьячков 2004: 246—255; Дьячков 2005; Мыц 2009: 91—110). Предложена общая периодизация крепостной и культовой застройки, согласно которой начало формирования лигурийской фактории относят к 40-м гг. XIV в., что определяет нижнюю дату находок из культурных слоев, связанных с ее существованием не ранее указанного времени. Однако из-за активной антропогенной деятельности в последующие времена, стратифицированные остатки начального этапа застройки уцелели лишь на незначительных участках, а связанные с ним находки зачастую переотложены, поэтому построение относительной хронологии артефактов сер. — втор. пол. XIV в. из раскопок крепости в настоящее время затруднительно. Наилучшим образом сохранились отложения втор. — трет. четв. XV в., а
Вып. 8. 2016
также османского периода, что в комплексе со значительным количеством нумизматических свидетельств19 позволяет использовать полученные данные для детализации хронологии синхронной керамики.
Подобные замечания отчасти справедливы и по отношению к Мангупскому городищу, периодизация слоев которого два последних десятилетия находится в сфере внимания А. Г. Герцена и В. Е. Науменко (Герцен и др. 2006: 371—494; Герцен, Науменко 2009; Герцен, Науменко 2015). Стратиграфические горизонты XII—XIII вв. исследователями не выделены (Герцен, Науменко 2005: 261; Герцен, Науменко 2015). Однако среди находок, как на цитадели, так и на юго-восточном склоне мыса Тешкли-Бурун, амфорная тара и поливная керамика (в том числе целые формы), характерные для комплексов XIII в., представлены довольно хорошо (Герцен, Науменко 2005: 260—261, рис. 2—4, 5: 5 ; Герцен и др. 2006: 381—382). Следующий, « феодоритский » этап, оказался гораздо более насыщен антропогенными остатками. В его рамках исследователи выделяют 2 периода: первый маркируется началом строительства цитадели (примерно с 60-х гг. XIV в.) и разрушением города войсками Тамерлана в 1395 г.; второй — восстановлением и реконструкцией цитадели в 20-е гг. XV в. и захватом города турками в 1475 г. (Герцен и др. 2006: 371; Герцен, Науменко 2009: 387; Герцен, Науменко 2015). В последние годы хронологическая схема истории Феодоро-Мангупа, вызывает неоднозначные отзывы. Существование первого периода, как и достоверность связанных с ним исторических событий, в частности крымского похода Тимура (или его ставленника Едигея), о чем уже упоминалось выше, поставлены под сомнение (Мыц 2009: 49—68; Мыц 2015). Не вдаваясь в детали научных споров отметим, что действительно, за многие годы исследования городища и примыкающей к нему территории так и не удалось обнаружить сколько-нибудь выразительных комплексов втор. пол. XIV в. (Герцен, Науменко 2016). Не исключено, что многие из них были уничтожены в процессе активной строительной деятельности второго этапа, хотя в материалах слоев, сформированных разновременными « строительными сбросами » с территории городища, находки XIV в. крайне малочисленны20 (Герцен и др. 2006: 378—392). В то же время, материалы втор. — трет. четв. XV в. представлены в выразительном контексте и в значительном объеме (Герцен, Науменко 2005: 261—263, рис. 6—14; Герцен, Науменко 2006: 378—392; Герцен, Науменко 2009; Герцен, Науменко 2010; Герцен, Науменко 2015: 9—12), что очень существенно для разработки узкой датировки артефактов XV в.
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований…
Восточный и Юго-Восточный Крым
Хронологию слоев генуэзской Каффы (совр. Феодосия), одного из крупнейших городов Северного Причерноморья и характеристику происходящей из них керамики предлагают А. В. Сазанов и Ю. Ф. Иващенко. В основу разработки легли отчеты о раскопках в Феодосии у башни «Криско» в 1975—1977 гг., проводившихся под руководством Б. Г. Петерса, и результаты исследований авторов 1991—1992 гг. (Сазанов, Иващенко 1994: 180—182, рис. 1—3; Сазанов, Иващенко 1995: 117—130). Выделяется четыре стратиграфических горизонта, которые соответствуют четырем перепланировкам на исследуемой территории. Верхняя дата наиболее раннего горизонта определена временем постройки цитадели — 1340—1352 гг. Остальные датируются по находкам монет: 50—80-е годы XIV в.; 80-е годы XIV в. — 50-е годы XV в.; 50-е гг. XV в. — 1475 г. Наиболее полно охарактеризован керамический материал из отложений 50—80-х гг. XIV в., включавших руины двух построек, а также остатки гончарной мастерской с горном для обжига поливной керамики (Сазанов, Иващенко 1995: 118—119). Остается лишь сожалеть, что отсутствие в публикациях чертежей стратиграфий и планов исследованных участков, а также иллюстраций к подавляющему большинству керамических находок21, в том числе из гончарных мастерских, не позволяет в полной мере оценить достоверность стратиграфических наблюдений авторов и составить полное представление о керамике из них. К тому же, материал двух последних горизонтов упомянут вскользь: отмечено только сходство поливной посуды из слоя середины — трет. четв. XV в. с синхронными образцами из Мангупа и Фуны (Сазанов, Иващенко 1995: 129).
Дополнительные сведения о городских объектах XIV—XV вв., исследовавшихся в начале 80-х и в 90-х гг. XX в., содержаться в работах Е. А. Айбабиной и С. Г. Бочарова. Ими частично введены в научный оборот результаты раскопок крепостных сооружений и небольшого участка жилой застройки XIV—XV и XVI—XVIII вв. на восточном склоне Карантинного холма с внешней стороны юго-восточной стены цитадели, армянского храма св. Стефана, возведенного в первой половине XV в. (Айбабина 1988: 70, рис. 6; Айбабина, Бочаров 1997a; 16—18, рис. 1—2; Айбабина, Бочаров 1997b: 211—229, табл. 6—7). В тезисной форме представлена информация о бронзолитейной и гончарной мастерских XV в., раскапывавшихся в 1994—1995 гг. (Бочаров 1997; Aibabine et al. 1999). Основное внимание исследователей было сосредоточено на изучении топографии культовых сооружений, системы водоснабжения, оборонительных рубежей, а также каменной пластики Каффы (Бочаров 1998; Бочаров 2000; Бочаров 2016; Айбабина 2001; Айбабина, Бочаров 2002). Отдельные статьи посвящены некоторым категориям вещевых находок (Айбабина 1991a; Айбабина, Бочаров 1998; Бочаров 1999). Однако полная публикация материалов раскопок этого города, хронология и периодизация его культурных отложений по-прежнему очень актуальна.
Эта же проблема насущна и для второго крупного городского центра Крыма — средневековой Солдаи (Судак), среди исследователей которого для третьего этапа следует назвать, прежде всего, И. А. Баранова, В. В. Майко, А. В. Джанова, В. Д. Гукина. Несмотря на длительный период археологических изысканий в Судаке, хронологии культурных отложений города XIII—XV вв., а также публикации находок из них уделено не слишком много внимания. Наиболее полно представлены материалы из строений на участке генуэзской оборонительной стены (куртина XIV), прекративших существование в посл.
Вып. 8. 2016
трети XIV в., предположительно, в связи с захватом города генуэзцами во втор. пол. XIV в. (1365 г.) (Баранов 1988: 81—88; Баранов 1991: 107; Бочаров 2004: 529). Опубликована также краткая информация о раскопках башни Якобо Торселло и барбакана Сугдеи (Баранов 1988: 87—94, фото 7, рис. 12). Однако хронологическая гомогенность некоторых «закрытых» комплексов вызвала сомнения, так как их характеристика лишена стратиграфического контекста, а среди находок присутствуют разновременные артефакты — XIII, XIV и XV вв. (Мыц 2007: 89).
В последние десятилетия продолжилось изучение средневековой застройка портовой части Сугдеи. Здесь в одной из усадеб исследован слой пожара, содержащий набор керамики, сопоставимый с материалами из слоев разрушения Херсонеса 60-70-х гг. XIII в.22 (Майко 2013b), а также заполнение двух пифосных ям, засыпанных при последующей перепланировке этого участка, с иным составом керамических артефактов (Майко 2013a). Среди поливной посуды из ям абсолютно преобладали изделия византийского круга с концентрическими окружностями и спиралями в качестве базового элемента декора (Майко 2013a: рис. 3, 4), при этом импортная амфорная тара представлена исключительно сосудами с грушевидным туловом и дуговидными ручками (тип IV по Н. Гюнсенин или « трапезундская группа » по И. В. Волкову) (Майко 2013a: рис. 2). Подобное сочетание импортов сближает его с керамическим ансамблем поселения Кабарди (Волков 2005) и ранним комплексом Азака, относящимся ко времени основания города (Масловский 2006b). Первый из них, на основании изменений технологии производства двух групп импортных амфор и анализа известных политических событий, датируется автором 40—60-ми гг. XIII в. (с 1261 г. в качестве верхней даты) (Волков 2005). А. Н. Масловский аргументировано предлагает не ограничивать верхнюю дату Кабарди, а соответственно и аналогичных комплексов Азака 1261 г., предлагая для нее более широкий диапазон в рамках 60-х гг. или трет. четв. XIII в. (Масловский 2006b: 290—292). Это на наш взгляд более справедливо, так как субъективные представления о влиянии определенной политической ситуации на судьбу конкретного поселения не всегда могут совпадать с реальной действительностью, поэтому привязки к ним без более весомых аргументов довольно условны, что в принципе не отрицает и сам И. В. Волков.
В случае с ямами в портовой части Сугдеи, terminus post quem их заполнения уточняется находками монет: трех пулов чеканки Солхата 1260-х и 1270-х гг. два из которых с изображением стремявидной тамги (Майко 2013a), появляющимся на джучидских монетах не ранее 665 г. х. (1266 г.) (Гончаров 2011). Вероятно, этот же хронологический репер может быть определен в качестве terminus ante quem для предшествующего слоя пожара. При этом оба комплекса ярко демонстрируют финальный и начальный этапы больших перемен в керамическом импорте, произошедших в посл. трети XIII в.
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований…
Кроме того, рассматриваемые материалы интересны еще и для изучения периода присутствия венецианцев в Сугдее, которому, пока уделено мало внимания. Не исключено, что керамический комплекс из пифосных ям может быть каким-то образом связан с первой факторией республики Святого Марка в Крыму, которая, как известно, располагалась в городе в посл. трети XIII в.23 (Бочаров 2015b: 305—306).
Выдающимся событием для изучения материальной культуры посл. трети XIII в. можно считать исследования остатков кораблекрушения в бухте у пос. Новый Свет, проводимые подводно-археологической экспедицией Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко под руководством С. М. Зеленко уже более 10 лет, начиная с 1999 г.24 (Зеленко 1999; Зеленко 2008: 126—167). Объект представляет собой комплекс единовременного формирования, датирующийся тремя с половиной десятками монет трапезундского императора Мануила I Комнина (1238—1263) 60-х гг. выпуска (Дергачева, Зеленко 2008). Исследователи памятника предположительно связывают остатки этого корабля с упомянутой в письменных источниках пизанской галерой, сожженной в стычке с генуэзцами 14 августа 1277 г. на глазах у жителей Солдаи. Как бы там ни было, нижняя дата крушения — не ранее начала 60-х гг. XIII в.
Из раскопок судна собрана многочисленная коллекция разнообразных керамических изделий (крупной и среднегабаритной тары, кухонной и столовой посуды), происходящих из различных регионов Средиземноморья и Причерноморья (Испания, Италия, Эгейский регион, Левант, Кипр, Малая Азия, пр.), не имеющая аналогов ни в одном из надежно датируемых наземных закрытых комплексов (Зеленко 1999; Зеленко 2008: 126—167; Зеленко, Морозова 2012; Морозова, Зеленко 2012; Тимошенко, Зеленко 2012; Morozova et al. 2013; Waksman et al. 2009; Waksman, Teslenko 2010; Zelenko, Morozova 2010).
Уникальность объекта заключается еще и в том, что здесь, в грузе одного корабля, присутствуют группы поливной посуды, которые на наземных объектах, как правило, вместе не встречаются и обычно относятся к разным хронологическим периодам. Возможно, на судне перевозили одни из последних партий керамики и сосуды из личного имущества команды, производство которых либо поставки в Черноморский регион вскоре прекратились (например, византийские GWW IV, «Zeuxippus Ware ss», «Port Saint Simeon Ware», «Seldjuk Ware», др.), совместно с одними из первых партий посуды, массовое изготовление которой на экспорт только началось (группа «Новый Свет» и кувшины с росписью вертикальными полосами белого ангоба) (Morozova et al. 2013; Waksman et al. 2009; Waksman, Teslenko 2010).
Несомненным достоинством добытого раскопками керамического материала является его хорошая изученность с применением современных археометрических методов25, что
Вып. 8. 2016
позволило выделить гомогенные группы изделий по происхождению и, во многих случаях, определить их место производства (Waksman et al. 2009; Waksman, Teslenko 2010).
Данные об особенностях керамического комплекса следующего хронологического этапа — рубежа XIII—XIV, нач. XIV вв. получены из верхних горизонтов средневекового селения на юго-восточном склоне г. Сююрю-Кая (Тепсень), известного под названием Посидима, раскопки которого продолжились в начале текущего столетия (Бочаров 2007; Бочаров 2015c; Майко 2008). В культурных слоях, соотносимых с этим населенным пунктом, большинство находок поливной керамики (около 60%) составляют импортные изделия так называемой группы «Византия», большая часть которых близка по визуальным характеристикам подгруппе «Новый Свет», а около 40% — изделия местного производства, предположительно из Солхата и его округи. Некоторые предметы находят близкие аналогии в продукции гончарных мастерских поселения Бокаташ II26, начало деятельности которых относят ко втор. пол. — кон. XIII в. (Крамаровский, Гукин 2006: 29—30; Крамаровский, Гукин 2007: 23). В единственном экземпляре представлено блюдо сельджукской группы («Seldjuk Ware») малоазийского импорта (Майко 2008: рис. 8: 2 ), известной в Крыму по находкам из слоев пожара Херсонеса 60—70-х гг. XIII в. и новосветского кораблекрушения27. Изделия, которые с уверенностью можно было бы датировать серединой — втор. пол. XIV в. в публикациях отсутствуют. Таким образом, этот комплекс один из немногочисленных известных в Крыму, где можно наблюдать продукцию мастерских золотоордынских поселений Юго-Восточного Крыма начального этапа их деятельности в сочетание со все еще массовым импортом керамики византийского круга посл. трети XIII — нач. XIV вв.
В рамках рассматриваемой темы особый интерес могли бы представлять материалы исследования одного из крупнейших городских центров Северного Причерноморья, столицы Крымского улуса Джучидского государства — города Солхат (Крыма), раскопки которого были возобновлены с 1978 г. Старокрымской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа под руководством М. Г. Крамаровского и продолжаются по сей день. Однако результаты этих работ все еще не изданы. Опубликованные Марком Григорьевичем краткие заметки об итогах полевых сезонов, а также углубленные искусствоведческие исследования отдельных выдающихся артефактов и пространные исторические экскурсы, безусловно, весьма ценны для демонстрации значимости работ экспедиции, понимания социально-политических процессов в Джучидском Крыму, самой общей периодизации и топографии культовых комплексов Солхата, а также возможных направлений различных культурных влияний на местное декоративно-прикладное искусство (Залесская, Крамаровский 1990; Зильманович, Крамаровский 1992; Крамаровский 1980; Крамаровский 1989; Крамаровский 1991a; Крамаровский 1991b; Крамаровский 1994; Крамаровский 1997; Крамаровский 2000; Крамаровский 2003; Крамаровский 2009; Крамаровский 2012; Крамаровский 2016; Крамаровский, Зильманович 1993; Крамаровский и
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований… др. 1997). Однако они не позволяют составить сколько-нибудь отчетливого представления ни о стратиграфии исследованных участков памятника, ни о составе и хронологии выявленных раскопками вещевых комплексов.
В научной литературе различными исследователями неоднократно отмечались значительные масштабы экспорта поливной керамики производства Солхата за пределы полуострова (Волков 1992: 9—10; Масловский 2006a: 355—371). Однако информация о гончарном ремесле и его продукции из самого очага экспорта, пока, к сожалению, минимальна. Из двух сообщений М. Г. Крамаровского на отчетных археологических сессиях ГЭ известно о находках его экспедицией трех гончарных мастерских различной специализации в разных районах городища (Крамаровский 1991; Зильманович, Крамаровский 1992).
Одна из них, оснащенная горном « с внутренней топочной камерой наземного типа » (??? — И. Т. ) открыта « в центральной части … средневекового Солхата » в 1987 г., функционировала в период с кон. XIV до нач. XV вв. и специализировалась на производстве « водоносной посуды » (Крамаровский 1991a: 22—23). Вторая — обнаружена в 1990 г. на югозападной окраине современного города, в районе новой застройки, в 150—200 м к югу от шоссе Симферополь-Феодосия (объект «Солхат П»). Здесь исследовано три гончарных горна (двухъярусные, эллипсоидной формы, впущены в материк, с одноканальной топочной камерой и устьем) для обжига кухонной неполивной посуды. В большинстве своем это красноглиняные плоскодонные кувшины с узким и широким горлом, изготовленные из красножгущейся глины с песком, редкими известковыми включениями и мелкими зернами кварца. Сосуды формовались на подсыпке из сухой глины или срезались нитью. Отдельные экземпляры были украшены волнисто-гребенчатым орнаментом, штампом с подквадратными или подтреугольным оттисками в три-четыре ряда, валиком с вдавлениями (Крамаровский 1991a: 21—22). По монетным находкам из заполнения над обжигательной камерой (4 джучидских пула из которых 2 стерты; 1 — 50—60-х гг. XIV в.; 1 — 1383 г., чеканен от имени Тохтамыша), верхняя дата функционирования комплекса может быть определена в рамках посл. четв. XIV в. Третья мастерская исследована в 1990—1992 гг. у южной стены « караван-сарая » (объект XII). Комплекс включал двухъярусный горн (округлый в плане, впущен в материк, с устьем и предтопочной ямой) под навесом; 7 пифосов и яму № 1 с производственным браком (деформированные копилки), триподами и формами-калыпами для изготовления сосудов с тисненым орнаментом. По монетным находкам период деятельности мастерской определяется 20-ми гг. XIV в., верхняя дата комплекса — не позднее 50—60-х гг. XIV в. (Зильманович, Крамаровский 1992: 7—8; Крамаровский, Зильманович 1993: 21—22). Детальная характеристика керамики, чертежи горнов и рисунки сосудов в публикациях не приведены.
Из находок поливной керамики в Старом Крыму особое внимание уделено лишь одной чаше со сценой « молодежной пирушки в гранатовом саду », обнаруженной в заполнении землянки под полом так называемой «мечети Бей Барса» в контексте с 117-ю джучидскими монетами XIV в. (наиболее поздние монеты хана Абдаллаха (1360-е—1370) и времени правления Тохтамыша (1376—1399) из верхней части засыпи) (Залессая, Крамаровский 1990: 18—26; Крамаровский 2012: 170—193; Крамаровский 2016: 68—69). Без увязки с контекстом опубликованы единичные экземпляры сосудов с изображением « воина со щитом », « сидящего латинянина » (Залесская, Крамаровский 1990: 29, рис. 14, 15), кувшин с тесненным в форме декором, обнаруженный вместе с аналогичными матрицами (Крамаровский 1996: 99, 113, рис. 3: 4 ), упомянуты фрагменты византийского импорта эпохи
Вып. 8. 2016
Палеологов (Крамаровский 2012: 298). Кратко охарактеризована поливная керамика из комплексов 30-х гг. — кон. XIV — нач. XV вв. (ямы и водовод), исследованных в 2013 г. у медресе Солхата (Крамаровский и др. 2014). Другими археологами в качестве фотоиллюстраций к научно-популярной книге продемонстрировано несколько находок изделий местного производства из разных районов Солхата (Гаврилов, Майко 2014: 25, 37, 44, 51, 65, 66, 68, 80, 96).
Между тем, итоги работ на двух поселениях (Кринички II и Бокаташ II) сельской округи Солхата, проводимые М. Г. Крамаровским совместно с В. Д. Гукиным в течение 1998—2007 гг.28, опубликованы относительно полно и снабжены большим количеством необходимых иллюстраций (Крамаровский, Гукин 2002; Крамаровский, Гукин 2003; Крамаровский, Гукин 2004; Крамаровский, Гукин 2006; Крамаровский, Гукин 2007).
Поселение Кринички II расположено в 3 км к северо-востоку от Старого Крыма, рядом с д. Кринички, в степной зоне, примыкающей к горному кряжу Агармыш. Здесь, на площади 375 кв. м, выявлены архитектурно-археологические комплексы — 4 жилища (2 наземных и 2 полуземлянки), 5 хозяйственных сооружений (1 — наземное, 4 полуземлянки), 14 тандыров, 1 печь, 24 хозяйственных ямы, 4 каменные и 2 сырцовые вымостки — соотносимые с тремя строительными периодами, детальная хронология которых затруднительна (Крамаровский, Гукин 2002). Опираясь на нумизматические материалы (56 монет), авторы раскопок датируют существование поселения в целом в рамках втор. пол. XIII — нач. XV вв., предполагая (на основании наличия « поздних люстровых сосудов »), что поселение могло функционировать до кон. XV в. (Крамаровский, Гукин 2002: 9—32).
На наш взгляд предложенные хронологические рамки можно сузить на следующих основаниях. Наиболее ранняя монета втор. пол. XIII в., послужившая для определения нижней даты, происходит из комплекса третьего строительного периода, в котором найдено еще 9 монет 50-х гг. и втор. пол. XIV в. (Крамаровский, Гукин 2002: 121—140). То есть, в данном случае она представляет собой «раритет», который не может быть полноценно использован для хронологии культурных слоев памятника в целом. Кроме того, среди поливной керамики из отложений даже первого строительного периода отсутствуют изделия, которые можно было бы уверенно отнести к кон. XIII — перв. четв. XIV вв. В то же время « поздние люстровые сосуды » (Крамаровский, Гукин 2002: 64, табл 22: 1 , 104, табл. 2: 5 ), на датировке которых базируется верхняя временная граница, при ближайшем рассмотрении оказались продукцией испано-мавританских гончаров Валенсии, объединяемой в группу «Pula». Как известно, хронологическая позиция группы преимущественно ограничивается 1330 и 1380 или 1420 гг. (Тесленко 2004: 473—474). К тому же самой молодой нумизматической находкой на памятнике является единственная медная монета с генуэзской надчеканкой перв. четв. XV в., происходящая из дернового слоя (Крамаровский, Гукин 2002: 91). Основная же масса нумизматического материала культурных отложений, связанных с жилищно-хозяйственными сооружениями, относится к 50—80-м гг. XIV в. (Крамаровский, Гукин 2002: 33, 91, 140), что, скорее всего, и определяет период наиболее интенсивного накопления здесь антропогенных остатков. Таким образом, наиболее активная фаза жизнедеятельности на поселении, очевидно, приходится на 50-е — 80-е гг. XIV в., этим же
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований… временем может быть датирована и основная масса находок керамики29. Окончательное угасание жизни происходит не позже 20-х гг. XV в.
Поселение Бокаташ II находится в предгорьях хребта Карасан-Оба, в 1,4 км к юго-востоку от г. Старый Крым. Работы здесь проводились в 2001—2007 гг. на двух участках общей площадью около 1000 кв. м, из них детально опубликованы итоги раскопок первых пяти полевых сезонов (Крамаровский 2012: 325; Крамаровский, Гукин 2004; Крамаровский, Гукин 2006; Крамаровский, Гукин 2007). На одном из участков (раскоп XXII, 2001—2005 гг.) изучено 7 наземных сооружений, 2 полуземлянки, 18 гончарных горнов (из них № 4 и 14 в публикации не представлены, конструкция № 6 отнесена к обжигательным сооружениям условно, скорее всего, это яма-коллектор), 5 тандыров, 25 хозяйственных ям. На втором (раскоп XXIII, 2004—2007 гг.) выявлено 8 гончарных горнов, 2 наземных каменных сооружения, 1 полуземлянка, 2 глинобитные печи, 2 тандыра, 8 хозяйственных ям, материалы которых представлены в опубликованных отчетах (Крамаровский, Гукин 2006: 22—25, 30; Крамаровский, Гукин 2007: 10—19, 22—23) и еще 12(?) гончарных горнов (4 — в одной из мастерских с тремя специализированными помещениями), 5 наземных каменных сооружений-мастерских(?), 6 тандыров, 1 глинобитная печь и 10 хозяйственных ям, краткая информация о которых содержится лишь в отдельных статьях (Крамаровский 2009: 301— 302; Ломакин 2016: 17—18).
Значительные по площади раскопки гончарных мастерских позволили получить ценные сведения о топографии, организации и специализации местного керамического производства. Выявлены сменяющие друг друга комплексы гончарных горнов различной конструкции, как отдельно стоящих, так и объединенных одной предтопочной ямой, которые располагались как внутри помещений, так и под открытым небом или навесом; мастерские из нескольких помещений, где происходил процесс выделки и просушки готовых изделий, в одной из них (сооружение 4 на раскопе XXII) обнаружены детали ножного гончарного круга из камня (Крамаровский, Гукин 2004: 31—33, табл. 34, 35, 113); ямы-глинники, емкости для воды, коллекторы для производственных отходов и пр. По замечанию авторов раскопок, здесь, « на сравнительно небольшой территории поселения … присутствует полный спектр керамического производства, начиная от первичной обработки глины и заканчивая конечным продуктом » (Крамаровский, Гукин 2004: 50). Прослежена специализация отдельных составляющих производственного комплекса. Например, на участке гончарного центра, исследованном в границах раскопа XXII, изготавливалась, в основном, неполивная посуда: плоскодонные и круглодонные горшки, покрытые серым ангобом; сосуды открытой формы («неглубокие плошки»); котлы с загнутым вовнутрь венчиком, подтреугольными налепами по верхней кромке тулова, петлевидными ручками; конусовидные крышки с выделенным профилем под внутренний диаметр. Встречены также треножные подставки (сепаи) со следами ангоба и зеленой поливы и матрицы для изготовления штампованной посуды (калыпы) (Крамаровский, Гукин 2004: 7—51, табл. 18—111; Крамаровский, Гукин 2006: 12—18, 22—30, табл. 1—167; Крамаровский, Гукин 2007: 10—23, табл. 1—146). Кроме того, удалось проследить более узкую направленность некоторых гончарных горнов. Так в горне № 8 обжигались, в основном, котлы; в горнах № 9 и 12 в общей массе керамики
Вып. 8. 2016
выделяется немногочисленная красноглиняная посуда с росписью белым ангобом; в горне № 17 и обслуживающей его хозяйственной яме № 22 найдены матрицы (калыпы) для производства кувшинов со «штампованным» декором (готовая продукция встречена в горне № 8, тандыре № 3 и яме № 22), сепаи; в предтопочной яме горна № 17 обнаружена заготовка кувшина из тонкодисперсной глины со сложным прорезным орнаментом по ангобу, без поливного покрытия (Крамаровский, Гукин 2006: табл. 87—88). В двух горнах (№ 1 и 2, раскоп XXIII, 2004 г.), объединенных одной предтопочной ямой, обжигалась керамика сграффито с довольно своеобразным декором30. Оригинальные геометрические композиции, специфический стиль изображения птиц, четвероногих животных (вероятно, копытных) и людей, используемые мастерами, не находят даже приблизительных аналогий среди опубликованных к настоящему времени материалов из других гончарных центров Крыма, а также золотоордынских комплексов Подонья, Поволжья, Приднепровья и Приднестровья (Крамаровский, Гукин 2006: 22—24, табл. 118, 125, 130—139, 141, 143, 145, 148, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 160—163).
Хронология объектов определена по многочисленным монетным находкам31. Наиболее ранние относятся ко втор. пол. — кон. XIII в. (более полусотни), наиболее поздние — к 60-80-м(?) гг. XIV в. (медная монета трапезундского императора Алексея III (1349—1390); анонимный пул чекана Сарая (80-е гг. XIV в.); пул Абдаллаха (Азак?) (1367—1368, 1369— 1370)). Исходя из анализа стратиграфии и нумизматических материалов, авторы раскопок выделяют 3 строительных периода для поселения и 2 основных периода функционирования гончарного комплекса (Крамаровский, Гукин 2006: 29—30). На первый период, датируемый втор. пол. — кон. XIII — нач. 40-х гг. XIV в., приходится становление и расцвет мастерских, специализирующихся на выпуске широкого ассортимента неполивной и поливной посуды. Последняя, как без дополнительного оформления внешней поверхности, так и с разнообразным декором: рельефными украшениями от оттиска в формах (калыпах), орнаментом сграффито и, вероятно, росписью белым ангобом. Второй период относится к концу правления Джанибека (1342—1357) — времени правления Тохтамыша (1380—1395, 1400—1406) и характеризуется прекращением выпуска поливных изделий, сокращением ассортимента иной продукции и переходом на изготовление « стандартизированной массовой посуды, преимущественно кухонной ». Как отмечают исследователи памятника «... в канун периода анархии 1357—1380 гг. гончарное производство на поселении Бокаташ II приходит в упадок » (Крамаровский, Гукин 2007: 23). На рубеже XIV—XV вв. участок, где располагались мастерские, уже используется в качестве христианского некрополя (Крамаровский, Гукин 2004; Крамаровский, Гукин 2006; Крамаровский, Гукин 2007).
Дополнительные сведения о синхронных комплексах региона содержаться в публикации итогов охранных раскопок 1980 г. одной из усадеб золотоордынского селища в пойме реки Байбуги, на северо-западной окраине г. Феодосия. На основании монетных находок32 и аналогий керамическим сосудам, автор работ Е. А. Айбабина датирует комплекс в рамках втор. пол. XIV в. (Айбабина 2005: 229—246).
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований…
В целом, изданные материалы исследований сельских поселений округи Солхата и Каффы, в комплексе с отрывочными сведениями о раскопках самих этих городов, в определенной мере позволяют детализировать представление о поливной керамике ЮгоВосточного Крыма втор. пол. — кон. XIII — посл. четв. XIV вв., организации здесь гончарного ремесла и получить некоторое основания для более узкой хронологии керамических находок.
Памятники восточной оконечности Крыма рассматриваемого периода также неоднократно привлекали внимание исследователей, но, как продолжают отмечать медиевисты, обращавшиеся к изучению местных средневековых древностей, « поздневизантийский период в истории Керченского полуострова остается пока плохо изученным в археологическом плане » (Науменко, Пономарев 2015: 279). В прибрежной части этого полуострова к настоящему времени с большей или меньшей точностью локализовано девять населенных пунктов (Завида, Конестассе, Чиприко, Кавалари, Аспромити, Воспоро, Пондико, Дзукалаи, Каркавони), существовавших в XIII—XV вв. (Бочаров 2001: 157—161; Бочаров 2016; Гордеев 2014: 324—338). Масштабные археологические работы в посл. четв. XX — нач. XXI в. проводились на территории двух из них: Воспоро (в границах античного Боспора, район центральной площади современного г. Керчь, северо-восточное подножье г. Митридат), наиболее крупного города на Керченском полуострове, в котором с нач. XIV в. обосновались венецианцы, а затем генуэзцы (Айбабин 2003: 284—285; Артеменко 2006; Макарова 1991; Макарова 1998; Макарова 2003: 68—74; Сазанов 1998; Науменко, Пономарев 2015) и небольшого укрепленного поселения Пондико (территория античного Мирмекия, район Карантинного мыса, северный берег Керченской бухты, восточная часть современного г. Керчь) (Бутягин 1999; Бутягин 2004: 48—49; Бутягин и др. 2000: 23—24; Бутягин, Виноградов 2006: 47—51; Вахонеев 2007; Виноградов 2006: 29; Виноградов 2010: 452).
Несмотря на то, что итоги этих работ, в особенности, относящиеся к раскопкам храма Иоанна Предтечи и некрополей, частично представлены в публикациях (Бутягин 2004; Бутягин, Виноградов 2006: 49—51, рис. 32—33; Макарова 1998; Макарова 2003: 68—74), материалы исследований жилищно-хозяйственных объектов и культурных слоев XIII—XV вв., обычно изобилующих керамическими находками, все еще не введены в научный оборот в полном объеме. Из коллекций керамики Керченского музея, сформированной из раскопок разных лет, опубликованы лишь отдельные категории предметов, зачастую, без увязки с археологическим контекстом (Артеменко, Желтикова 2014; Иванина 1999). Таким образом, полноценное использование имеющихся материалов для изучения специфики керамического комплекса втор. пол. XIII—XV вв. этого региона, пока затруднительно.
Южный Крым
Значительное количество стратифицированных комплексов сер. — втор. пол. XIV и в особенности XV в. получены при раскопках укреплений в Алуште (крепость Алустон), на Фуне и Чабан-Куле, проводимых экспедициями отдела античной и средневековой археологии Института археологии УССР, а затем Крымского филиала Института археологии НАН Украины в 80-90-х гг. XX в. (рук. Мыц В. Л., Кирилко В. П., Тесленко И. Б.).
-
В. Л. Мыцом в научный оборот частично введена керамика различных категорий из заполнения донжона крепости Фуна, период существования которого ограничен 1459—1475 гг. (Мыц 1988: 102—109, рис. 6, 7; Мыц 1991a: 100—101, рис. 40—44; Мыц 2009: рис. 320—
Вып. 8. 2016
-
328) и слоев пожара 1475 г. внутрикрепостной застройки (Мыц 2009: рис. 329—342)33. На основании анализа стратиграфии и строительных остатков Фуны В. П. Кирилко разработал детальную строительную периодизация памятника, позволяющую датировать культурные слои, связанные с различными этапами существования крепости и материал из них, интервалами в 16—29 лет. Для чуть более полувекового существования укрепления исследователь выделяет три строительных периода: 1423 г. — в течение которого оно было возведено и разрушено в результате мощного землетрясения; 1425—1434 или 50-е гг. XV в. — восстановление укрепления и гибель строений форпоста в пожаре; 1459—1475 гг. — превращение крепостного ансамбля в замок и окончательное разорение его во время экспансии турок (Кирилко 2005a: 35—81, рис. 40, 41, 44, 45, 48—60). К безусловным заслугам В. П. Кирилко относится особая тщательность раскопок и скрупулезность фиксации архитектурно-археологических контекстов в процессе проведения полевых исследований, что позволяет использовать материалы его работ для полноценных реконструкций вещевых комплексов (в том числе керамических), а также интерьеров жилых и хозяйственных помещений (Кирилко 2005a: 65—67, рис. 47—60).
Автором этой статьи опубликованы керамические материалы Фуны «золотоордынского» времени, происходящие из объектов XIV — перв. четв. XV вв., предшествовавших строительству здесь феодоритской крепости (Тесленко 2016b), а также дана общая характеристика комплекса керамики втор. — трет. четв. XV в. фунского замка (Тесленко 2016a; Teslenko 2016).
Находки трет. четв. XV в. получены также при раскопках укрепления Чабан-Куле (предполагаемый замок Гваско) и храма на близлежащем поселении (Кирилко, Мыц 2004: 204—245, рис. 22, 26; Мыц и др. 1994: 200—207). Существование обоих объектов датируется в рамках 1459/60—1475 гг., что позволяет ограничить этим хронологическим промежутком происходящий из них археологический материал, в том числе керамику (Кирилко, Мыц 2004: 223).
Периодизация архитектурно-археологических остатков алуштинской крепости разработана менее детально. Упрощенные хронологические схемы строительных горизонтов, предложенные В. Л. Мыцом на начальном этапе исследования памятника (Мыц 1986: 278— 279; Мыц 1989: 151—152; Мыц 1997b: 187—189), были несколько усовершенствованы на основании результатов полевых работ 90-х гг. XX в. В рамках «генуэзского» периода истории укрепления (80-е гг. XIV — 70-е гг. XV вв.) В. Л. Мыц выделяет два этапа фортификационного строительства, датируя их перв. четв. XV в. и 60-ми гг. XV в. (Мыц 2009: 345). Две из трех башен последней линии обороны — круглая и квадратная (поздние тюркоязычные названия соответственно Ашага-Куле и Орта-Куле) были раскопаны в 1992 и 1993 гг. Хорошая сохранность объектов позволила получить насыщенные находками комплексы втор. пол. XV в., материалы которых, в том числе керамика, были затем частично введены в научный оборот (Алядинова, Тесленко 2015; Мыц 2002: 139—189, рис. 11—35, 41—43; Мыц 2009: 289—345, рис. 182—187, 190, 192—194, 197—209, 217—221). В разные годы также издавались наиболее выразительные находки керамики из жилой застройки XIV—XV вв. (Мыц 1991a: 99—100, рис. 39; Мыц 2009: 362, рис. 191, 211, 219, 220, 225, 226, 271, 352).
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований…
Судя по информации из отчетов и материалам музейных коллекций, при раскопках городища были обнаружены также отдельные находки и стратифицированные комплексы со слоями пожара посл. трети XIII в. (1278 г.?), соотносимые с финалом византийского периода в истории укрепления, определяемого в рамках X—XIII вв. (Мыц 1997: 189). Однако, за исключением отдельных предметов (Адаксина 1995; Адаксина 1998: 6—7, рис. 1: 2, 3 ; Мыц 1991: рис. 39: 4 ), они остались не опубликованными, также как и результаты раскопок памятника в целом.
Благодаря усилиям автора настоящего исследования были изучены отдельные участки застройки с внешней стороны оборонительных стен и, таким образом, получена информация о топографии и периодизации посада крепости (Телиженко, Тесленко и др. 2010; Тесленко и др. 2000: 40—50; Тесленко, Семин: 1999). Кроме того, в 2000 г. впервые был выполнен сводный план городских кварталов Лусты34 XIV—XV вв. (Тесленко 2005: рис. 1), а также детализированы представления об их стратиграфии. Так удалось разграничить этапы существования некоторых жилищно-хозяйственных комплексов XIV—XV вв., выделив в их заполнении 2 пачки отложений, разделенных слоем пожара трет. четв. XIV в. (Тесленко 2005: 332—333). Введены в научный оборот материалы из раскопок усадьбы «золотоордынского» периода, погибшей в этом пожаре, что позволило получить представление о специфике керамического комплекса трет. четв. XIV в. одного из городов Южного Крыма (Тесленко 2017).
Для изучения керамики XIV—XV в. существенное значение имеют материалы из проведенных автором раскопок археологических объектов длительного формирования. Это храмы с некрополями на южной окраине с. Малый Маяк (рубеж XIV—XV — посл. четв. XVIII вв.) (Тесленко, Лысенко 2004: 267—274, рис. 14—19) и на северо-восточном склоне г. Аю-Даг (XIV—XVI вв.) (Тесленко, Лысенко 2002: 79—80). Зафиксированы детальные стратиграфии объектов с подсчетами количества артефактов по контекстам и группам, благодаря чему стало возможным проследить тенденции в изменении ассортимента керамики и развитии некоторых групп изделий с XIV до кон. XVI—XVIII вв. (Тесленко 2012b; Тесленко 2015).
В период с 80-х гг. XX в. до первых десятилетий XXI в. были введены в научный оборот материалы исследований поселения Партениты (Паршина 1991: 88—89, рис. 5, 9; Паршина 2002: 106, рис. 2, 12); укреплений Исар-Кая у горного прохода Шайтан-Мердвен (Мыц 1987), Учансу-Исар близ Ялты (Бочаров 2009: 108—143), Пампук-Кая, что в 1,5 к западу от с. Нижняя Голубинка (Мыц 1991: 134, рис. 37) и замка Калиера на горе Кордон-Оба в п. Курортном (Бочаров 2015: 47—97); средневековых монастырей на г. Перчем у Судака (Баранов, Тур 1997: 46—50; Тур 1997: 117—125) и на естественной прибрежной террасе над бухтой Панаир, восточный склон г. Аю-Даг у пгт. Партенит (Адаксина 2002); храмов на Ески-Кермене (Паршина 1988), в урочище Сотера (Паршина 2001: 127—130) и у замка Фуна (Айбабина 1991b: 195—203, рис. 8: 1, 9, 10 ); селения Эски-Юрт на территории современного Бахчисарая (Белый и др. 2005: 183—189) др. Все они являются дополнительным
Вып. 8. 2016
источниками информации для изучения керамики Крыма рассматриваемого периода, хотя порой невысокое качество раскопок и фиксации не позволяет полноценно использовать приводимые сведения для детальных хронологических построений.
В целом значение работ первой группы заключается в разработке периодизации отдельных многослойных памятников поздневизантийского периода, а также во введении в научный оборот большого объема материала из разнообразных археологических комплексов, в том числе и узко датированных.
Вторую группу составляют работы, посвященные публикациям и специальным исследованиям поливной керамики из раскопок памятников Таврики XIII—XV вв., локализации местных гончарных центров и атрибуции привозных глазурованных изделий, определению направлений керамического импорта и экспорта Крыма. Их количество, по сравнению с предыдущим периодом, значительно возросло.
Определенными вехами, стимулирующими интерес к рассматриваемой теме на третьем этапе, стали 3 специализированные конференции, проведенные Крымским филиалом ИА НАНУ в 1998 и 2007 гг. («Историко-культурные связи Причерноморья и Средиземноморья X—XVIII вв. по материалам поливной керамики» и «Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья в X—XVIII вв.»), а также Национальным заповедником «Херсонес Таврический» в 2014 г. («Поливная керамика Причерноморья — Средиземноморья как источник по изучению Византийской цивилизации»), материалы которых отчасти изданы или готовятся к изданию.
Основной блок трудов второй группы ориентирован, преимущественно, на публикации находок поливной керамики, представляемые в форме отдельных статей, сводов и каталогов.
К наиболее объемным трудам этого направления относится книга А. И. Романчук «Глазурованная посуда поздневизантийского Херсона», увидевшая свет в 2003 г. (Романчук 2003a). Она подготовлена в форме каталога, основу которого составляют материалы раскопок двух кварталов в портовой части городища, а также некоторые находки из северного и северо-восточного районов Херсонеса. Достоинство работы заключается в демонстрации большого количества керамики (673 предмета) из объектов посл. трети XIII— XIV вв., как изданных ранее (Голофаст и др. 1991; Романчук 1982; Романчук 1986; Романчук 1995; Романчук 1996; Романчук 1997a; Романчук 1999; Романчук 2000; Романчук 2003b; Романчук, Перевозчиков 1990), так и новых. Среди основных недостатков каталога следует отметить отсутствие количественных и качественных характеристик керамических артефактов из представленных комплексов, ряд несоответствий между датами в описательной и иллюстративной частях, отсутствие четких принципов классифицирования, в результате чего в одну классификационную единицу объединены сосуды различного происхождения и наоборот, близкородственные изделия распределены по разным ячейкам. Кроме того, на одном классификационном уровне оказываются звенья, выделенные по различным критериям35 и пр. Также указываемое автором место находки одних и тех же
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований… предметов в публикациях разных лет порой отличается36. Из-за этих недостатков работа в целом выглядит нелогичной и сложной для восприятия, заявляемая стратиграфическая и планигафическая позиции некоторых находок, попытки выделения местной керамической продукции37 и датировки отдельных предметов вызывают сомнения, предложенная систематизация материала, лишенная последовательной структуры, не имеет практической значимости. Однако, работа все же представляет ценность как свод источников для изучения поливной керамики Крыма посл. трети XIII—XIV вв., хотя к некоторым предложенным датировкам и умозаключениям автора, которые дублируются и в более поздних статьях (Романчук 2005), следует относиться критически.
Художественная поливная посуда из слоев пожара и разрушения втор. пол. XIII в. отдельных кварталов Херсонеса и Ески-Кермена представлена в серии статей С. Н. Рыжова, Л. А. Голофаст, С. В. Ушакова, А. И. Романчук, Л. В. Седиковой, А. И. Айбабина (Айбабин 2014; Голофаст, Рыжов 2003: 198—213; Рыжов 2005; Рыжов, Голофаст 2000; Седикова 2014; Ушаков 2005). В целом, для систематизации керамики применен подход А. Л. Якобсона, основанный на технико-стилистических характеристиках декоративного оформления сосудов, дополненный в некоторых случаях терминологией, принятой ныне в англоязычной литературе38 (Айбабин 2014; Голофаст, Рыжов 2003: 198—213; Седикова 2014). С привлечением новых данных корректируются выводы исследователя о возможном происхождении некоторых групп керамики (Голофаст, Рыжов 2003: 198—213).
Кроме того, наиболее примечательные глазурованные керамические изделия XIII—XIV вв. из раскопок Херсонеса разных лет, хранящиеся в фондах НЗХТ (ныне ФГБУК «Государственный историко-археологический музей - заповедник «Херсонес Таврический») в Севастополе, ГИМа в Москве и Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, проиллюстрированы в каталогах выставок и коллекций этих музеев (Голофаст и др. 1991: 155—162, 174—198, 219—236; Залесская 1985; Яшаева и др. 2011: 352—396, 632—664). Особо следует отметить специализированное издание собрания византийской керамики X— XV вв. из Эрмитажа, подготовленное В. Н. Залесской в 2011 г., в котором представлен значительный корпус крымских материалов преимущественно из Херсонеса, а также Мангупа и Феодосии, в том числе ранее не издававшихся (Залесская 2011).
Различными исследователями также опубликованы глазурованные гончарные изделия XIII—XV вв. других памятников. В их числе находки посуды из «торговой лавки I» и «заполнения хозяйственной ямы у дома, примыкающего к католическому кафедралу св. Девы Марии», датирующихся временем не ранее 60-х гг. XIV в. из Судака (Баранов 1998: 21—24, рис. 1, 2; Баранов 2004: 528—529; Баранов, Майко 1998: 24—28, рис. 1—3)39;
Вып. 8. 2016
загородных пещерных монастырей округи Херсона (кон. XIII—XIV, XV вв.) (Яшаева 1998: 198—200, рис. 1; Яшаева 2005: 247—256), хозяйственных ям XIV—XVIII вв. средневекового Кадыкоя (территория совр. Балаклавы) (Иванов и др. 1998: 108—112, рис. 1—4). Авторы, в основном, ограничиваются описанием внешнего облика изделий с привлечением доступных аналогий в расширенных вариантах публикаций (Яшаева 2005). В тезисной форме представлены некоторые группы поздневизантийской поливной посуды из раскопок поселения в балке Бермана (южная часть Гераклейского полуострова, округа Херсонеса) (Гинькут, Яшаева 2014) и уже упомянутых двух закрытых археологических комплексов XIV в. в медресе Солхата (Крамаровский и др. 2014).
Более полную характеристику коллекций поливной посуды с применением формальнологического метода систематизации предлагают Н. В. Гинькут и А. Г. Герцен с В. Е. Науменко для материалов из раскопок «консульской церкви» крепости Чембало (сер. — втор. пол. XIV — трет. четв. XV вв.) (Гинькут 2001: 53—60) и цитадели Мангупа (X—XV вв.) (Герцен, Науменко 2005: 260—263, рис. 2—20). Их работы позволили впервые получить развернутое представление о специфике керамических комплексов рассматриваемого периода из двух крупных средневековых городов Крыма, которое впоследствии несколько корректировалось и дополнялось по мере публикации новых находок из раскопок обоих памятников. В частности, Н. В. Гинькут были детально проанализированы свидетельства производства поливной керамики в крепости Чембало, византийские и восточные традиции в местном гончарстве, семантику некоторых изображений и монограмм на глазурованных сосудах, отдельные морфологические типы изделий и пр. (Ginkut 2012; Гинькут 2005a; Гинькут 2005b; Гинькут 2011a; Гинькут 2011b; Гинькут 2012a; Гинькут 2012b; Гинькут 2014a; Гинькут 2014b; Гинькут 2014c; Гинькут 2015). А. Г. Герцен и В. Е. Науменко представили обзор материалов спорного «золотоордынского» периода в истории Мангупского городища (Герцен, Науменко 2016), а также ввели в научный оборот новые данные из слоев и узко датированных закрытых комплексов XV в., уточнив тем самым хронологическую позицию некоторых групп изделий, датируемых ими ранее более широко (Герцен, Науменко 2009: 400—411; Герцен, Науменко 2010; Герцен, Науменко 2016).
Автором настоящей работы было впервые проведено комплексное обобщающее исследование керамики из надежно датируемых комплексов Крыма XV в., результаты которого нашли отражение в кандидатской диссертации и ряде статей (Тесленко 2004; Тесленко 2005b; Тесленко 2010; Тесленко 2011; Тесленко 2012a; Тесленко 2014a; Тесленко 2015 и др.; Teslenko 2007; Teslenko 2009; Teslenko 2015). Предложена классификация, типология и детальная хронология (с точностью до четверти столетия) гончарных поливных и неполивных изделий XV в., как местного производства, так и импорта, позволяющие унифицировать методику работы с массовым керамическим материалом и детализировать его хронологию, а соответственно и датировку археологических объектов Крыма, проследить направления импортно-экспортных торговых операций, в которых была задействована продукция местных и отдаленных гончарных мастерских.
Кроме обобщающих публикаций керамического материала из отдельных памятников, на третьем этапе предпринимаются исследования по более узким направлениям.
Анализируются отдельные группы, категории или типы поливных изделий. Так представлены коллекции подсвечников и светильники XV—XVIII вв. из раскопок Каффы (Айбабина, Бочаров 1998: 195—208, рис. 1—5), Керчи и ее окрестностей (Артеменко,
XIII вв. (Голофаст, Рыжов 2003: 200—204; Майко 2013b; Романчук 1999: 189—190, 198—199; Megow 1972: 323—343; Waksman et al. 2009: 851—856).
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований…
Желтикова 2014), поливные сосуды для питья и редкие типы чаш XIV—XV вв., найденные в крепости Чембало (Гинькут 2014b; Гинькут 2015).
Рассматриваются также особенности декоративного оформления, семантика некоторых изображений, предлагается трактовка знаков и сюжетных композиций на парадной посуде пр.
В. Л. Мыц, например, предлагает анализ историко-культурного контекста отдельных монограмм и надписей как светского (имена владельцев, в том числе местных правителей Готии), так и религиозного содержания (имена святых) на поливной керамике XIV—XV вв. (Мыц 1985: 52—54; Мыц 1991b: 183—186; Мыц 1998: 157—159; Мыц 2005: 288—305).
Особое внимание уделено христианской символике на сосудах XIII—XV вв. В. Н. Залесская обращает внимание на варианты использования некоторых изделий как элементов христианского культа (Залесская 2014). Среди таких предметов XIII—XV вв. отмечены сосуды-эвлогии для святой воды или мира, снабженные монограммами святых и изображениями креста (Гинькут 2011a; Гинькут 2011b; Залесская 2014: 48—49); блюда и чаши с монограммами ТХ, скрывающими, по мнению В. Н. Залесской, благопожелательные изречения (Залесская 2014: 49—50). Довольно часты обращения к анализу образа святого воина на византийской посуде (Даниленко 1991: 51; Рыжов 2005: 63—63; Романчук 2002). С христианской тематикой связывают также крестовидные элементы в декоре различных сосудов (Гинькут 2012b), образы птиц (Адаксина 1998; Гинькут 2005b), и, возможно, некоторые рисунки кораблей (Тесленко 2003b: 55—61). Уникальным для Крыма является изображение Спасителя с тремя святыми на блюде XV в. местного производства, найденном при раскопках в Алуште (Тесленко 2001: 61—65).
Эпические сцены и сюжеты мирской жизни также удостоились специального анализа. По материалам из Херсонеса, Солхата, Каффы, Азака рассмотрено изображение человека в керамике Северного Причерноморья (Залесская, Крамаровский 1990). Особое внимание уделено теме вина и веселья в художественном оформлении византийской, сельджукской и крымской столовой посуды XII—XIV вв. (Залесская, Крамаровский 1990: 3—37; Крамаровский 1991b; Крамаровский 2000; Крамаровский 2012: 164—198, 239—252). Благодаря глубокому искусствоведческому анализу образов и привлечению широкого круга возможных аналогий, М. Г. Крамаровский приходит к важным выводам о проявлении низовой культуры разных этнических групп Византии, Малой Азии и Крыма в сюжетных сценах на керамике, а также связях керамического производства Солхата с декоративноприкладным искусством Рума (Крамаровский 2000: 248—249; Крамаровский 2016: 68—69).
Информативные возможности иного рода раскрывают детальные исследования техники, стиля, манеры и элементов декора глазурованных сосудов. В результате удается выделить серию изделий с флористическими мотивами, составляющую, очевидно, одну небольшую партию продукции какой-то из местных мастерских (Тесленко 2003a: 328—336), а также же по малозаметным особенностям рисунка определить почерк одного мастера на сосудах с изображением птиц, найденных в разных частях полуострова (Кирилко 1998: 120—124; Кирилко 2005: 349—358). Потенциал подобного подхода далеко не исчерпан.
Отдельная группа работ третьего этапа специально посвящена анализу и атрибуции импортной поливной посуды. В статье А. А. Кравченко по материалам из фондов Одесского археологического музея охарактеризованы сосуды XIII—XIV вв. западного и восточного происхождения, найденные в Каффе (Кравченко 1991: 111—120, рис. 1—5). Е. А. Айбабиной более детально проанализирована кашинная керамика из раскопок этого же города (Айбабина 1991a: 92—96). В. Н. Залесская предприняла попытку выделить три группы
Вып. 8. 2016
балканского керамического импорта XII—XIV вв., две из которых — македонская и монограмматическая — по мнению исследовательницы, поступали в Крым в XIV в. (Залесская 1993: 370—375). Ю. В. Коваль опубликовал некоторые находки импорта XII— XVIII вв. из Судака (Коваль 2002b: 129—131) и совместно с А. А. Волошиновым атрибутировал находки селадонового и псевдоселадонового сосудов из Бахчисарая (Коваль, Волошинов 2005: 457—461). М. Г. Крамаровский характеризует три разновидности поливной керамики с восточными и западными морфологическими чертами, получившие распространение в Крыму и Северном Причерноморье во втор. пол. XIII—XIV вв. (Крамаровский 1996: 96—111; Крамаровский 2012: 292—303). Возможный вариант генезиса и хронологию сосудов одной из групп — византийских кувшинов украшенных в выемчатой и сграффито технике — позднее аргументировано уточнил В. Ю. Коваль, нашедший убедительные доказательства «итальянского следа» в их морфологии и декоре40. Он также отметил отсутствие документированных фактов находок таких кувшинов в слоях ранее сер. XIV в. (Коваль 2014).
Теме византийского импорта XIII—XIV вв. в целом уделено довольно много внимания, что выразилось как в публикации находок из раскопок отдельных памятников Крыма (Каффа, Солдая, Луста, Чембало) (Бочаров 2005: 306—323; Гинькут 2005c; Гинькут 2014c; Гукин, Джанов 2013; Семин 1998: 179—181; Тесленко 2014b), так и в обобщающих исследованиях о поставках византийской керамики в Северное Причерноморье (Бочаров Масловский 2012; Масловский 2010; Тесленко 2017; Botcharov, Maslovski 2012).
Издано значительное количество материалов из раскопок торгового корабля, затонувшего в бухте Судак-Лимен в кон. XIII в., часть груза которого, как уже упоминалось, составляла глазурованная посуда, предназначенная для продажи41. В общей сложности выделено более десятка различных по происхождению групп поливной керамики из Северной Италии, Анатолии, Восточного Средиземноморья, Эгейского региона и столицы Византийской империи, две из которых (“Novy Svet Ware”, “Glased White Ware IV”), исчисляющиеся сотнями целых и реконструированных форм, несомненно, представляли основной коммерческий интерес и предназначались, скорее всего, для оптовой продажи (Зеленко и др. 2012; Морозова и др. 2016; Тесленко 2000; Morozova et al. 2013; Waksman et al. 2009: 851—853; Waksman, Teslenko 2010). Остальные («Graffita Arcaica Tirrуnica», «Venetian Lead-Glazed Ware», «Seldjuk Ware», «Cypriot Sgraffito and Slip-painted Ware», «Port Saint-Simeon Ware», различные по происхождению кувшины с росписью вертикальными полосами белого ангоба, «Beirut Cooking Ware» и др.), скорее всего, могли составлять небольшие партии товара, например, путешествующих на этом судне коммерсантов, либо, отчасти, относились к личному имуществу или кухонному инвентарю команды (Morozova 2012; Waksman et al. 2009: 853—855; Waksman, Teslenko 2010).
Более поздний керамический импорт — испанский и турецкий, поступавший на полуостров соответственно в кон. XIV—XV и сер. — втор. пол. XV вв., а также общие направления «поливного» импорта и экспорта Крыма в XV в. проанализированы в работах
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований… автора (Тесленко 2002: 238—241; Тесленко 2004: 467—494; Тесленко 2005b: 385—410; Teslenko 2007; Teslenko 2009).
Экспорт керамической продукции гончарных центров Таврики привлекает пристальное внимание специалистов на третьем этапе в целом.
Значительный прогресс в изучении крымской поливной керамики как компонента вещевых комплексов различных памятников за пределами полуострова был достигнут с внедрением в практику этнографического подхода к классификации массового керамического материала, предложенного И. В. Волковым в начале 90-х гг. XX в. Суть его заключается в первичном разделении керамических находок на основании визуально фиксируемых признаков на группы, объединяющие продукцию одной или родственных мастерских с последующим членением его на блоки (по наличию или отсутствию поливы), виды и типы (Волков 1992: 2; Волков 2005a: 131—133). По мнению исследователя, такой подход наиболее продуктивен как для обработки больших объемов керамики, так и для дальнейшего получения исторической информации о торговле и перемещениях населения. Кроме того, соотношение разных групп позволяет получить наиболее точную дату существования памятника, если отсутствуют иные датирующие находки (Волков 2005a: 133). На основании материалов из раскопок Азака И. В. Волков определяет характерные признаки крымской керамики, объединяя ее в группу Восточного или Юго-Восточного Крыма (далее ЮВК) с подгруппами Каффа, Солдая и Солхат, различаемыми, преимущественно, по концентрации шамота в тесте и способу формовки поддона (Волков 1992: 9—10; Волков 2005a: 137).
В дальнейшем этот метод разделения материала получил широкое применение в практике азовских и крымских археологов. Преимущественно по этому принципу крымская поливная керамика была выделена в вещевых комплексах кон. XIII—XIV и XV вв. Азака, Прикубанья, Поволжья, Северного Кавказа и Руси (Белинский, Масловский 1998: 209—219; Белинский, Масловский 2005: 160—177; Бочаров, Масловский 2015; Волков 1992: 9—12; Волков 2007a: 36; Волков 2007b: 27—31; Коваль 2002а; Коваль 2010: 106, 109—134; Кубанкин, Масловский 2013: 136—137; Курочкина 2012; Масловский 2006a: 355—388; Масловский 2007; Масловский 2012a; Панина, Волков 2002: 90; Панина, Волков 2012b; Пьянков 2007; Юдин 2015), что помогло значительно расширить представления о географии крымского импорта, торговле, культурных взаимосвязях, взаимовлияниях и общих тенденций в развитии гончарства на просторах Золотой Орды и Причерноморья. К тому же в некоторых случаях удалось отследить динамику поставок крымской керамики в центральные районы Золотой Орды. Например, отмечено резкое сокращение поставок крымской продукции в Поволжье после 30—40-х гг. XIV в., изменения объемов и состава импортов в керамическом комплексе золотоордынского Азака, что было обусловлено рядом политических и социальноэкономических причин, вызвавших затруднения в международной и региональной торговле (Масловский 2012b; Кубанкин, Масловский 2013: 137).
Также информативны работы коллег по синхронным материалам из близлежащих территорий, которые использовали иные методы характеристики материала. Следует отметить публикации поливной керамики средневекового Белгорода (Беляева, Фиалко 2008: 62—70; Богуславский 2002: 265—268; Карашевич 2010; Кравченко 1986: 38—80), городища Днепровское—2 (предположительно, генуэзский замок Иличе на правом берегу Днепровского лимана) (Бураков 1991: 105—109; Руссев 2015: 33), других памятников Нижнего Поднепровья (Довженок 1961: 192; Тихомолова, Попандопуло 2005), Среднего Подонцовья (Кравченко 2005: 415—430), Молдовы (Абызова и др. 1981; Полевой 1964; Полевой 1969), Румынии (Cândea 1995; Constantinescu 1972; Stănică 2009), а также восточного
Вып. 8. 2016
(Мицишвили 1976: 58—62, фото I—IX, 1, 25—9) и южного побережья Черного моря (Inanan 2012), имеющей множество общих черт с синхронными крымскими находками.
Возвращаясь к материалам из раскопок Азака важно отметить их ценность для разработки детальной хронологии керамических артефактов кон. XIII—XIV вв., так как большинство из них происходит из узко датированных комплексов, к тому же довольно обстоятельно опубликованных42, что позволяет находить множество близких параллелей с находками из Крыма и, соответственно, уточнять их датировку. Как не парадоксально, именно азовские материалы, на данном этапе исследования, позволили выяснить особенности поливной керамики Крыма с начала ее производства в посл. трети XIII и до кон. XIV в., получить представление об ассортименте и декоре изделий, а также приоритетных видах экспортной продукции43 (Белинский, Масловский 1998; Белинский, Масловский 2005; Бочаров, Масловский 2015; Дмитриенко, Масловский 2006: 236—239; Масловский 2006a; Масловский 2007; Масловский 2012a). Они же послужили базой для обобщающих работ о производстве поливной керамики в Юго-Восточном Крыму кон. XIII—XIV вв. (Bocharov et al. 2015; Bocharov, Maslovskiy 2015) и размышлений о месте и роли этого производства в формировании новой городской культуры Крыма эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации (Бочаров 2016b). Авторы высказывают предположение о возможной значительной доле армян-переселенцев в организации местного поливного производства44, хотя в целом, резонно отмечают неоднородность технических приемов и соответственно этнических групп гончаров, работавших в Юго-Восточном Крыму (Бочаров 2016b: 128; Bocharov, Maslovskiy 2015: 604). Интересны наблюдения о двух периодах массового изготовления поливной посуды в восточной части полуострова, для первого из которых (с кон. XIII — примерно до 40-х гг. XIV в.) характерно преобладание «солхатской» продукции в качестве основного объекта гончарного экспорта, для второго — «каффинской». Примечательно, что в работах, в качестве иллюстраций крымской керамики, привлекаются преимущественно находки из Азова, а не материалы из крымских памятников и производственных центров (Бочаров 2016b; Bocharov, Maslovskiy 2015).
В этой связи еще раз обратим внимания на последние достижения в изучении местных мастерских и их продукции. Несмотря на возросший интерес к гончарному ремеслу восточнокрымских городов (Солдая, Каффа, Солхат-Крым), полные публикации материалов их раскопок все еще так и не увидели свет. О новых находках горнов для обжига поливной посуды, печного припаса, полуфабрикатов и брака в Каффе и Солхате, как уже упоминалось выше, сообщается лишь вкратце.
Несколько пополнились сведения по мастерским Солдаи. А. В. Джанов публикует материалы из личных архивов М. А. Фронджуло 60—70-х гг. XX в. о раскопках двух
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований…
45 керамических мастерских на ремесленном посаде города за пределами крепостных стен (Джанов 1998: 82—89; Майко, Джанов 2015: 194, рис. 103, 104). В одной из них изготавливалась посуда со «штампованным» орнаментом (Джанов 1998: рис. 2), в другой — с декором в технике сграффито. Мастерские датированы соответственно золотоордынским (сер. XIII в. — 1365 г.) и генуэзским (втор. пол. XIV в. — 1475 г.) периодами. На иллюстрациях представлены чертежи и фотографии остатков гончарных горнов обеих мастерских, фотографии форм для изготовления тисненых сосудов, найденные в первой из них. Однако отсутствуют изображения упомянутых в тексте полуфабрикатов и многочисленных обломков поливной керамики из заполнения обжигательных сооружений и синхронных им культурных слоев, что не позволяет получить более полное представление о выпускаемой продукции46.
В то же время обнаружены новые свидетельства производства поливной посуды в Южном и Юго-Западном Крыму.
Исследователи Мангупа указывают на находки нескольких артефактов, которые могут быть связанны с таким производством: « обломков песчаника со следами высокотемпературного воздействия и каплями светло-зеленой поливы » и фрагментов « спекшихся при обжиге » доньев двух поливных сосудов открытой формы с орнаментом сграффито (Герцен и др. 2006: 387; Герцен, Науменко 2005: 262). Несомненно, эти артефакты носят следы воздействия высоких температур, но они не обязательно могли быть связаны с процессом производства керамики. Иных, более выразительных аргументов в пользу фабрикации поливной посуды на Мангупе, пока не найдено. Интересны недавние открытия нескольких разновременных мастерских, датируемых в диапазоне VI—XV вв., на южной периферии Мангупского городища. Судя по собранным здесь артефактам, мастерские специализировались, преимущественно, на изготовлении строительной керамики47 (Науменко, Душенко 2015). Не исключено, что производство разного рода посуды для нужд города также располагалось за пределами крепостных стен, ближе к источникам сырья, топлива и воды.
Более выразительные свидетельства выделки поливной керамики — печной припас, брак, полуфабрикаты и готовые изделия — обнаружены в средневековых Лусте (Алушта) и Чембало (Балаклава) (XIV—XV вв.). Эти материалы довольно обстоятельно представлены в публикациях автора настоящей статьи и Н. В. Гинькут (Гинькут 2005a: 495—512; Гинькут 2014a; Тесленко 1998: 182—184; Тесленко 2005a: 324—348; Ginkut 2012). Кроме того, в 2013—2014 гг. в Лаборатории керамологии Исследовательского отдела UMR 5138 Археометрии и археологи Французского национального исследовательского центра (CNRS)
Вып. 8. 2016
(г. Лион, Франция) под руководством доктора С. Й. Ваксман были проведены химические исследования сырья продукции обоих центров48. В результате удалось выяснить специфику химического состава формовочных масс, использованных гончарами Лусты и Чембало. Полученные характеристики позволили выявить изделия этих мастерских в керамических комплексах других объектов (продукцию Алушты — на Фуне и в Чембало, продукцию Чембало — в Херсонесе) (Teslenko, Waksman 2016; Waksman, Ginkut 2015).
Обращаясь к археометрическим исследованиям керамики Крыма отметим, что в лионской лаборатории проведены, пожалуй, самые масштабные работы в этом направлении. Изучено более трех сотен образцов местной и импортной поливной посуды из раскопок Каффы (Феодосия), Солдаи (Судак), Фуны, Херсонеса (Севастополь), кораблекрушения у пгт. Новый Свет и уже упомянутых Лусты (Алушта) и Чембало (Балаклава). Эти исследования оказались весьма информативными, во многом благодаря отработанному и неоднократно проверенному на практике методологическому подходу, значительному количеству отобранных образцов и наличию в распоряжении лаборатории обширной базы данных по керамике других центров Причерноморского и Средиземноморского регионов. В результате удалось, помимо определения химического состава сырья поливных изделий, проверить некоторые предположения о происхождении импортов, высказанные на основе визуальных наблюдений и точно, вплоть до производственного центра, определить место изготовления некоторых групп привозной поливной посуды, избавится от определенных неверных интерпретаций, а также выделить гомогенные группы импорта, точное происхождение которых еще предстоит выяснить (Waksman et al. 2009; Waksman et al. , 2014: 408, 414, fig. 15; Waksman, François 2004—2005; Waksman, Ginkut 2015; Waksman, Romanchuk 2007; Waksman, Teslenko 2010).
Интересны наблюдения С. Й. Ваксман относительно характеристик глиняного сырья в различных гончарных районах Крыма. Так глины, используемые в мастерских Чембало, Каффы и Херсонеса или его округи49, оказалось не только похожим по визуально определимым признакам в обожженном черепке, но также близкими по химическому составу, в то время как продукция алуштинской мастерской существенно отличается от них по аналогичным показателям. Это объясняется присутствием на западе и востоке полуострова глин из одной миоценовой формации, пересекающей полуостров примерно в направлении Запад—Восток, и достигающих прибрежной зоны в районе Херсонеса с одной стороны и окрестностей Феодосии и Керчи с другой (Waksman, Ginkut 2015: 722—723; Waksman, Romanchuk 2007: 389).
Таким образом, поливная керамика, которая сейчас по визуальным характеристикам черепка определяется как группа ЮВК, совершенно не обязательно может происходить исключительно из Юго-Восточного Крыма, так как по этому показателю ее практически невозможно отличить от продукции, например, Чембало или района Херсонеса.
Вып. 8. 2016
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований…
Незначительные различия можно уловить лишь по химическим анализам (Waksman, Ginkut 2012: 722—723) или по технологическим и стилистическим особенностям готовых изделий, в том случае, если они хорошо известны.
Кроме изучения глиняного сырья, различными специалистами проводились исследования химического состава глазурей Византии, Северного Причерноморья и золотоордынского Поволжья, результаты которых обстоятельно проанализированы В. Ю. Ковалем (Коваль 2010: 31—36). Для проверки полученных коллегами данных Владимир Юрьевич провел дополнительные исследования 42 образцов поливы из памятников Крыма и Руси, используя в качестве сравнительного материала пробы испанской и итальянской майолики XIV—XV вв. и полумайолики из Волжской Болгарии50. В итоге исследователь приходит к заключению об общей специфике сырья и рецептуры для глазурей Византии, Cеверного Причерноморья и золотоордынского Поволжья, которая значительно отличалась от западносредиземноморских глазурей XV в., а также отмечает, что на имеющейся ныне базе «… нельзя строить надежные выводы о существовании внутри византийско-причерноморской рецептуры приготовления свинцовых глазурей каких-либо локальных традиций » (Коваль 2010: 36—37).
Проделанная работа весьма полезна в плане выяснения технологий изготовления средневековых глазурей и оценки перспективных направлений будущих изысканий в этой области. Однако очевидно, что на данном этапе анализ химического состава глиняного сырья по методике и на сравнительной базе, используемой в лионской керамологической лаборатории, позволяет получить более полные сведения об особенностях и происхождении той или иной группы гончарных изделий.
Завершая обзор научных трудов третьего этапа отметим, что они демонстрируют значительный прогресс в исследовании поливной посуды, который проявился на разных направлениях и уровнях работы с материалом. Совершенствование методики раскопок и возрастающее количество накопленного материала позволило прийти к качественно новым выводам относительно хронологии археологических комплексов и керамики из них, сделав возможным датирование до четверти и менее столетия. Очевиден значительный прогресс в области детализации датировок керамических находок, атрибуции импортов, узкоспециальных исследований по семантике декоративного оформления, отдельным аспектам функционального назначения и роли поливных изделий в повседневной, в том числе духовной жизни обитателей Крыма. Новые методологическе подходы к анализу и систематизации массового материала способствовали разработке практичных типологохронологических классификаций, в основе которых лежит первичное разделение на родственные по происхождению группы. Это, в свою очередь, позволило уточнить объемы и направления импортно-экспортных потоков керамики в пределах Восточной Европы и Причерноморско-Средиземноморского региона, а также роль Крыма и крымской продукции в этих процессах. Археометрические исследования сырья выделяемых групп позволили определить специфику формовочных масс местных изделий, выяснить происхождение некоторых партий импортных поливных сосудов, уточнив тем самым сведения о торговых операциях и перемещениях народонаселения в регионе.
Вып. 8. 2016
Однако, по-прежнему остались весьма актуальными проблемы публикации массивов керамики из раскопок Каффы, Солдаи, Солхата и комплексов рубежа XIII—XIV — XV вв. других памятников Крыма. Это позволило бы получить существенный объем первичной информации для детальных исследований начального периода поливного керамического производства в Крыму на местном материале и заполнить более осязаемыми сведениями некоторые «хиатусы» в хронологической и типологической шкале керамических артефактов.
Заключение. В целом, среди наиболее существенных достижений 120-летних исследований поливной керамики Крыма последней трети XIII — кон. трет. четв. XV вв. можно отметить следующие.
-
1. Благодаря значительному объему раскопок на памятниках обозначенного периода Таврики и близлежащих территорий, удалось получить серию узко датированных комплексов разных типов, позволяющих разрабатывать довольно детальную хронологию шкалу происходящих из них керамических находок. Однако разные временные промежутки неравномерно обеспечены вещевым материалом, ощущается нехватка сведений о составе керамических комплексов, например, 80—90-х гг. XIII в. — первого десятилетия XIV в., 90-х гг. XIV — 20-х гг. XV вв.
-
2. На территории Крыма локализовано несколько гончарных мастерских, выпускавших поливную посуду, как для внутреннего использования, так и на экспорт. Определены визуальные и, в некоторых случаях, археометрические характеристики их продукции, которые в настоящее время позволяют практически безошибочно выделять местные гончарные изделия в керамических коллекциях разных памятников. Это, в свою очередь, дает возможность оценить как объемы самого производства, так и географию, масштабы и динамику торговли глиняным изделиями Крыма и перевозимыми в них продуктами.
-
3. Стала очевидной локальная специфика поливного керамического производства различных районов и даже отдельных населенных пунктов полуострова, однако насущной остается детализация ее во времени и пространстве. В этой связи по-прежнему актуальны публикации материалов раскопок крупных городских центров (Каффы, Судака, Солхата), являвшихся, как считается, основными производителями и поставщиками керамической продукции на рынок, а также локализация других мастерских, о существовании которых сейчас можно судить лишь по отдельным характерным признакам.
-
4. Накопленные к настоящему времени сведения позволили очертить два основных этапа развития керамического производства на территории полуострова в рассматриваемый период. Первый из них датируется в рамках посл. трети XIII — сер. — трет. четв. XIV вв. Именно в это время появляется и становиться массовым производство глазурованной керамики на полуострове51. Для декоративно-прикладного гончарства первого периода характерно многообразие приемов орнаментации, наличие ярких локальных особенностей художественного оформления изделий, которые наследуют различные по происхождению традиции, а также начало и расцвет массового импорта глазурованных изделий, в особенности в центральные регионы Золотой Орды — Поволжье и Приазовья. Второй этап начинается примерно с середины — посл. трети XIV в. и продолжается до покорения Крыма османами в 1475 г. Он характеризуется упадком золотоордынских гончарных центров в ЮгоВосточном Крыму и малых мастерских на Южном побережье, вместе с ними исчезают некоторые техники и стили декорирования изделий. Для этого этапа характерно доминирование гончарных центров Генуэзских факторий, в первую очередь — Кафы и
Вып. 8. 2016
-
5. Удалось определиться с атрибуцией и датировкой многих групп импортной посуды, а также с помощью химических анализов сырья точно установить место производства для отдельных из них. В связи с этим стало возможным проследить изменяющиеся во времени тенденции в поставках различных групп поливной керамики на полуостров. Особую важность этому достижению придает то обстоятельство, что столовая посуда и тара, большая доля которой в товарообороте, судя по археологическим находкам, несомненна, не удостаивались упоминаний в письменных источниках, вероятно, из-за своей обыденности по сравнению с иными более ценными товарами.
Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до Османских завоеваний: 120 лет исследований…
Чембало52. Формируется единое направление в отделке глазурованных изделий с незначительными локальными вариациями, а также наблюдается расширение экспорта крымского художественного посуды в пределах прибрежной части Циркумпонтийского региона.
Наполнение этой схемы более конкретным содержанием — безусловно, одна из задач будущих изысканий.
Таким образом очевидно, что к настоящему времени накоплен значительный объем разного рода информации по керамике Таврики втор. пол. XIII—XV вв., достойный новых обобщающих монографических исследований, которые позволят составить целостное представление о производстве поливных изделий в Крыму и обороте керамического товара в Причерноморско-Средиземноморском регионе в период беспрецедентного торгового бума эпохи средневековья.
Список литературы Поливная керамика Крыма от эпохи Золотой Орды и генуэзской колонизации до османских завоеваний: 120 лет исследований (историографический очерк)
- Абызова Е. Н., Бырня П. П, Нудельман А. А. 1981. Древности Старого Орхея (золотоордынский период). Кишинев: Штиинца.
- Адаксина С. Б. 1995. Сюжет на блюде из Алустона. Эрмитажные чтения 1986-1994 годов памяти В. Г. Луконина: 25.I.1932-10.IX.1984. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 188-192.
- Адаксина С. Б. 1998. Изображения животных и птиц на средневековой керамике Крыма. В: Солодовникова С. Н., Кузнецова В. К., Неведрова Р. Г. (ред.). Историко-культурные связи Причерноморья и Средиземноморья X-XVIII вв. по материалам поливной керамики: тезисы докладов научной конференции (Ялта, 25-29 мая 1998 г.). Симферополь: ДС «Каламо», 5-7.
- Адаксина С. Б. 2002. Монастырский комплекс X-XVI вв. на горе Аю-Даг. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Адаксина С. Б., Кирилко В. П., Мыц В. Л. 2003. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2002 году. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Адаксина С. Б., Кирилко В. П., Мыц В. Л. 2004. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2003 году. Санкт-Петербург; Симферополь: Государственный Эрмитаж.
- Адаксина С. Б., Кирилко В. П., Мыц В. Л. 2006. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2005 году. Санкт-Петербург; Симферополь: Государственный Эрмитаж.
- Адаксина С. Б., Мыц В. Л. 2007. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2006 году. Санкт-Петербург; Симферополь: Государственный Эрмитаж.
- Адаксина С. Б., Мыц В. Л. 2008. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2007 году. Санкт-Петербург; Симферополь: Государственный Эрмитаж.
- Адаксина С. Б., Мыц В. Л., Ушаков С. В. 2010. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2008-2009 годах. Санкт-Петербург; Симферополь: Государственный Эрмитаж.
- Адаксина С. Б., Мыц В. Л., Ушаков С. В. 2011. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2010 году. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Адаксина С. Б., Мыц В. Л., Ушаков С. В. 2012. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2011 гг. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Адаксина С. Б., Мыц В. Л., Ушаков С. В. 2014. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2012-2013 гг. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Адаксина С. Б., Мыц В. Л. 2015. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2014 г. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Адаксина С. Б., Мыц В. Л. 2016. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2015 г. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Айбабин А. И. 2003. Города и степи Крыма в XIII-XIV вв. по археологическим свидетельствам. МАИЭТ X, 277-306.
- Айбабин А. И. 1991. Основные этапы истории городища Эски-Кермен. МАИЭТ II, 43-51.
- Айбабин А. И. 2014a. О дате разрушения городища на плато Эски-Кермен. АДСВ 42, 215-227.
- Айбабин А. И. 2014b. Поливная керамика из слоев разрушения на плато Эски-Кермен. Поливная керамика Причерноморья -Средиземноморья как источник по изучению Византийской цивилизации. Тезисы докладов. Севастополь, 8-11.
- Айбабина Е. А. 1988. Оборонительные сооружения Каффы. В: Бибиков С. Н. (отв. ред.). Архитектурно-археологические исследования в Крыму. Киев: Наукова думка, 67-81.
- Айбабина Е. А. 1991a. Кашинная керамика из Каффы. МАИЭТ II, 92-96.
- Айбабина Е. А. 1991b. Двухапсидный храм близ крепости Фуна. В: Толочко П. П. (отв. ред.). Византийская Таврика. Киев: Наукова Думка, 194-205.
- Айбабина Е. А. 2001. Декоративная каменная резьба Каффы XIV-XVIII вв. Симферополь: Сонат.
- Айбабина Е. А. 2005. Керамика из раскопок золотоордынского поселения близ Феодосии. В: Бочаров С. Г., Мыц В. Л. (ред.). Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Т. I. Киев: Стилос, 229-246.
- Айбабина Е. А., Бочаров С. Г. 1994. Работы Феодосийской экспедиции. В: Кутайсов В. А. (отв. ред.). АИК 1993 года. Симферополь: Таврия, 17-21.
- Айбабина Е. А., Бочаров С. Г. 1997а. Раскопки в Феодосии. В: Кутайсов В. А. (отв. ред.). АИК 1994 год. Симферополь: Сонат, 16-18.
- Айбабина Е. А., Бочаров С. Г. 1997b. Новые материалы по истории средневековой армянской колонии Каффы. ВВ 57, 211-233.
- Айбабина Е. А., Бочаров С. Г. 1998. Керамические подсвечники и светильники XV-XVIII вв. из Кафы. ХСб. IX, 195-208.
- Айбабина Е. А., Бочаров С. Г. 2002. Греческие православные церкви средневековой Каффы. В: Юрочкин В. Ю. (ред.-сост.). Православные древности Таврики: сборник материалов по церковной археологии. Киев: Стилос, 159-168.
- Алексеенко Н. А. 1996. К вопросу о деятельности Херсонесского монетного двора в XIII столетии. ХСб. VII, 187-191.
- Алексеенко Н. А. 1999. Находки монет на территории генуэзской крепости Чембало. ХСб. X, 371-378.
- Алексеенко Н. А., Гинькут Н. В., Дьячков С. В., Столяренко Е. Н. 2015. Археологической экспедиции Чембало 15 лет. В: Посохов С. И., Сорочан С. Б. (ред.). Laurea I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы. Харьков: ООО «НТМТ», 150-162.
- Алядинова Д. Ю., Тесленко И. Б. 2015. Некоторые древности османского периода из селения Алушта. В: Рудницкая В. Г., Тесленко И. Б. (ред.-сост.). Terra Alustiana MMXI. сборник научных трудов по материалам X научной конференции посвященной 110-летию города Алушты и 1460-летию со времени основания крепости. Симферополь: Антиква, 157-199.
- Артеменко Е. Д. 2006. Iталiйська колонiя Воспоро (XII-XV ст.). В: Сидоренко В. Д. (гол. ред.). Сучаснi проблеми дослiждення, реставрацiї та збереження культурної спадщини. Вип. 3(I). До 180-рiччя Керченського музею старожитностей. Київ: Видавничий дiм А+С, 73-80.
- Артеменко Е. Д., Желтикова А. Л. 2014. Гончарные светильники и подсвечники XIV-XVIII вв. из фондов Керченского заповедника. Научный сборник Керченского заповедника IV. Симферополь: Бизнес-Информ, 144-174.
- Бабенчиков В. П. 1958. Итоги исследования средневекового поселения на холме Тепсень. В: Домбровксий О. И. (ред.-сост.). История и археология средневекового Крыма. Москва: АН СССР, 88-146.
- Баранов И. А. 1971. Археологическая разведка на территории Сюйреньского укрепления в Крыму. АПУ 1968. Вып. 3, 88-92.
- Баранов И. А. 1988. Главные ворота средневековой Солдаи. В: Бибиков С. Н. (отв. ред.). Архитектурно-археологические исследования в Крыму. Киев: Наукова думка, 81-97.
- Баранов И. А. 1991. Застройка византийского посада на участке главных ворот Судакской крепости. В: Толочко П. П. (отв. ред.). Византийская Таврика. Киев: Наукова думка, 101-121.
- Баранов И. А. 1998. Поливная керамика XIV в. из Судака. В: Солодовникова С. Н., Кузнецова В. К., Неведрова Р. Г. (ред.). Историко-культурные связи Причерноморья и Средиземноморья X-XVIII вв. по материалам поливной керамики: тезисы докладов научной конференции (Ялта, 25-29 мая 1998 г.). Симферополь: ДС «Каламо», 21-24.
- Баранов И. А. 2004. Комплекс третьей четверти XIV века в Судакской крепости. В: Куковальская Н. М. (гл. ред.). ССб. Вып. I. Киев; Судак: Академпериодика, 524-559.
- Баранов И. А., Тур В. Г. 1997. Средневековый монастырь на г. Перчем. В: Кутайсов В. В. (отв. ред.). АИК 1994 г. Симферополь: Сонат, 46-50.
- Баранов И. А., Майко В. В. 1998. Комплекс поливной керамики XIV в. из раскопок храма Девы Марии в Сугдее. В: Солодовникова С. Н., Кузнецова В. К., Неведрова Р. Г. (ред.). Историко-культурные связи Причерноморья и Средиземноморья X-XVIII вв. по материалам поливной керамики: тезисы докладов научной конференции (Ялта, 25-29 мая 1998 г.). Симферополь: ДС «Каламо», 24-28.
- Барсамов Н. С. 1929. Археологические раскопки в Отузах 1927 и 1928 года. ИТОИАЭ. Т. 3(60). Симферополь: Крымполиграфтрест, 165-169.
- Белинский И. В., Масловский А. Н. 1998. Типологическая характеристика материалов раскопок участка золотоордынского Азака (г. Азов, ул. Московская, 7). Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1995-1997 гг. 15, 179-252.
- Белинский И. В., Масловский А. Н. 2005. Импортная поливная керамика Азака. В: Бочаров С. Г., Мыц В. Л. (ред.). Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Т. I. Киев: Стилос, 160-177.
- Белинский И. В., Масловский А. Н. 2007. Три закрытых комплекса из раскопок средневекового Азака. В: Гугуев Ю. К. (отв. ред.). Средневековые древности Дона. Вып. II. Москва; Иерусалим: Гешарим, 325-344.
- Белый А. В., Волошинов А. А., Карлов С. В. 2005. Поливная керамика золотоордынского времени из района Ески-Юрта. В: Бочаров С. Г., Мыц В. Л. (ред.). Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Т. I. Киев: Стилос, 183-189.
- Беляева С. А., Фиалко Е. Е. 2008. Аккерманская керамика сграффито (по материалам раскопок 2004 г.). РА 2, 62-70.
- Богуславский Г. С. 2002. Поливная керамика из раскопок Белгород-Тирской экспедиции (1996-1998 гг.). Tyras -Cetatea Albă/Belhorod-Dnistros'kyj I. Săpături 1996-1999. Taf. 1, 265-268.
- Боданинский У. А. 1935. Черкес-Керменское укрепление Кыз-Куле по разведкам 1933 г. ИГАИМК. Вып. 117. Ленинград: Государственная Академия истории материальной культуры (B: Димитров С. Д. (отв. ред.). Материалы Эски-Керменской экспедиции 1931-1933 гг.), 81-87.
- Бочаров С. Г. 1997. Бронзолитейная мастерская XV в. в Каффе. V Мiжнародна археологiчна конференцiя студентiв та молодих вчених. (Київ, 22-24 квiтня 1997 р.). Науковi матерiали. Київ: КДУ, 283-285.
- Бочаров С. Г. 1998. Фортификационные сооружения Каффы (конец XIII -вторая половина XV вв.). Причерноморье в средние века 3, 82-166.
- Бочаров С. Г. 1999. Генуэзско-татарские медные монеты Каффы. Stratum plus 6, 130-136.
- Бочаров С. Г. 2000. Историческая топография Кафы, конец XIII -1774 г. Фортификация, культовые памятники, система водоснабжения. Автореф. дис.... канд. ист. наук. Москва.
- Бочаров С. Г. 2001. Заметки по исторической географии Генуэзской Газарии XIV-XV веков. В: Иваненко П. И. (ред.). 175 лет Керченскому музею древностей. Материалы международной конференции. Керчь: Рэг-Тайм, 157-161.
- Бочаров С. Г. 2005. Группа византийских поливных чаш второй половины XIV в. В: Бочаров С. Г., Мыц В. Л. (ред.). Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Т. I. Киев: Стилос, 306-323.
- Бочаров С. Г. 2007. Рубеж XIII-XIV вв., по материалам керамического комплекса Посидима (Коктебель). Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья в X-XVIII вв.: Вторая Международная научная конференция (Ялта, 19-23 ноября 2007 г.). Ялта: , 12-17.
- Бочаров С. Г. 2009. Предварительные итоги археологического изучения средневекового укрепления Учан-Су. В: Бочаров С. Г., Кожокару В. М. (ред.). Северное и Западное Причерноморье в античную эпоху и средневековье. Симферополь: Таврия, 108-143.
- Бочаров С. Г. 2011. Заметки по исторической географии Генуэзской Газарии XIV-XV веков (Кампанья Каффы). В: Васильев Д. В., Зеленеев Ю. А., Ситдиков А. Г. (ред.). Диалог городской и степной культур на Евразийском пространстве. Материалы Международной научной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Г. А. Федорова-Давыдова. Казань: Институт истории Академии наук Республики Татарстан, 137-145.
- Бочаров С. Г. 2015a. Генуэзский замок Калиера. В: Бочаров С. Г., Ситдиков А. Г. (ред.). Генуэзская Газария и Золотая Орда. Кишинев: Stratum Plus, 47-98 (Археологические источники Восточной Европы).
- Бочаров С. Г. 2015b. Венецианское присутствие в Крыму и якорная стоянка Провато в 1356-1382 гг. Stratum plus 6, 303-315.
- Бочаров С. Г. 2015c. Средневековое селение Посидима (Коктебель, Крым). Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств 3, 123-126.
- Бочаров С. Г. 2016a. Историческая география Генуэзской Газарии 1275-1475 гг. В: Бочаров С. Г., Ситдиков А. Г. (ред.). Диалог городской и степной культур на Евразийском пространстве. Историческая география Золотой Орды. Материалы Седьмой Международной конференции, посвящённой памяти Г.А. Фёдорова-Давыдова. Казань; Ялта; Кишинев: Stratum Plus, 263-268 (Археологические источники Восточной Европы).
- Бочаров С. Г. 2016b. Изменение городской культуры в Крыму во второй половине XIII -первой половине XIV в. (на примере возникновения местного производства поливной керамики). Stratum plus 5, 125-131.
- Бочаров С. Г., Коваль В. Ю., Масловский А. Н., Ситдиков А. Г., Френкель Я. В. 2013. Использование естественнонаучных методов в изучении средневековой поливной керамики (на примере средневековой посуды Юго-Восточного Крыма). В: Тишкин А. А. (отв. ред.). Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. Барнаул: Алтайский университет, 50-53.
- Бочаров С. Г., Масловский А. Н. 2012. Византийская поливная керамика в городах Северного Причерноморья золотоордынского периода (вторая половина XIII -конец XIV вв.). Поволжская археология 1, 20-36.
- Бочаров С. Г., Масловский А. Н. 2015. Наиболее массовые типы поливных импортов Крымского производства и некоторые вопросы торговли в Восточной Европе в XIV в. Поволжская археология 4, 189-201.
- Булгаков В. В. 2005. Глазури северопричерноморской поливной керамики XIII-XV вв. (Предварительные результаты). В: Бочаров С. Г., Мыц В. Л. (ред.). Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Т. I. Киев: Стилос, 359-378.
- Бураков А. В. 1991. Полив'яний посуд з городища Днiпровське-2. Археологiя 4, 105-109.
- Бутягин А. М., Виноградов Ю. А., Чистов Д. Е. 2000. Раскопки городища Мирмекий в 1999 г. Отчетная археологическая сессия Государственного Эрмитажа за 1999 год. Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 23-25.
- Бутягин А. М. 2004. Пять лет работ Мирмекийской экспедиции. В: Зинько В. Н. (ред.-сост.). Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Этнические процессы. V Боспорские чтения. Керчь, 48-53.
- Бутягин А. М., Виноградов Ю. А. 2006. История и археология древнего Мирмекия. Мирмекий в свете новых археологических исследований: каталог выставки Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 4-51.
- Вахонеев В. В. 2007. Средневековая крепость Пондико в Восточном Крыму. Просемiнарiй. Медiєвiстика, iсторiя Церкви, науки та культури 6, 5-22.
- Веймарн Е. В. 1963. Археологiчнi роботи в районi Iнкермана. АПУ 13, 5-17.
- Веймарн Е. В. 1968. О двух неясных вопросах средневековья Юго-Западного Крыма. В: Домбровский О. И. (ред.-сост.). Археологические исследования средневекового Крыма. Киев: Наукова думка, 45-82.
- Виноградов Ю. А. 2006. Акрополь Мирмекия в свете археологических исследований. Боспорские исследования 13, 16-30.
- Виноградов Ю. А. 2010. Городище Мирмекий. В: Тункина И. В. (сост., отв. ред.). Дюбрюкс П. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 1: Тексты. Санкт-Петербург: Коло.
- Волков И. В. 1992. Керамика Азова XIV-XVIII вв. (классификация и датировка). Автореф. дис. … канд. ист. наук. Москва.
- Волков И. В. 1993. О происхождении и эволюции некоторых типов средневековых амфор. Донские древности 1, 143-157.
- Волков И. В. 2005. Поливная керамика комплекса Кабарди. В: Бочаров С. Г., Мыц В. Л. (ред.). Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Т. I. Киев: Стилос, 122-159.
- Волков И. В. 2007a. Поливная керамика Маджара. Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья в X-XVIII вв.: II международная научная конференция (Ялта, 19-23 ноября 2007 г.). Ялта: , 33-42.
- Волков И. В. 2007b. Поливная керамика могильника Черный Ерик-1. Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья в X-XVIII вв.: II международная научная конференция (Ялта, 19-23 ноября 2007 г.). Ялта: , Ялта, 26-32.
- Воронин Ю. С., Даниленко В. Н., Кутайсов В. А., Михайловский Е. В., Мыц В. Л., Петрова Э. Б. 1979. Работы в Бахчисарайском районе. Археологические открытия 1978 г. Москва: Наука, 313-315.
- Воронин Ю. С., Майко В. В., Кутайсов В. А. 2014. Археологические раскопки Сюйреньского укрепления 1978-79 гг. Раскоп I. История и археология Крыма I, 458-479.
- Гаврилов А. В., Майко В. В. 2014. Средневековое городище Солхат-Крым (материалы к археологической карте города Старый Крым). Симферополь: Бизнес-Информ.
- Гайдукевич В. Ф. 1952. Раскопки Мирмекия в 1935-1938 гг. МИА. № 25. Москва; Ленинград: АН СССР, 135-220.
- Герцен А. Г., Науменко В. Е. 2005. Поливная керамика из раскопок цитадели Мангупа. В: Бочаров С. Г., Мыц В. Л. (ред.). Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Т. I. Киев: Стилос, 257-287.
- Герцен А. Г., Землякова А. Ю., Науменко В. Е., Смокотина А. В. 2006. Стратиграфические исследования на юго-восточном склоне мыса Тешкли-Бурун (Мангуп). МАИЭТ XII, 371-494.
- Герцен А. Г., Науменко В. Е. 2009. Археологические исследования в районе церкви св. Константина (Мангуп): II горизонт застройки (XV в.). МАИЭТ XV, 389-431.
- Герцен А. Г., Науменко В. Е. 2010. Археологический комплекс третьей четверти XV в. из раскопок княжеского дворца Мангупского городища. Труды Государственного Эрмитажа. Т. LI. Византия в контексте мировой культуры. Материалы конференции, посвященной памяти А. В. Банк (1906-1984). Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 387-419.
- Герцен А. Г., Науменко В. Е. 2015. Стратиграфия Мангупского городища: антропогенный и природно-географический контекст. В: Зинько В. Н., Зинько Е. А. (ред.-сост.). XVI Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Географическая среда и социум. Керчь, 88-100.
- Герцен А. Г., Науменко В. Е. Душенко А. А., Корзюк Д. В., Лавров В. В., Смекалова Т. Н., Шведчикова Т. Ю., Чудин А. В. 2015. Новые материалы к изучению исторической топографии Мангупского городища и его округи (по результатам междисциплинарных исследований 2015 г.). Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Исторические науки». Т. 1(67). № 2, 3-28.
- Герцен А. Г., Науменко В. Е. 2016. К вопросу о выделении золотоордынского периода в истории Мангупского городища в Юго-Западном Крыму. Золотоордынская цивилизация 9, 247-258.
- Гинькут Н. В. 2001. Поливная керамика XIV-XV вв. из раскопок «консульской церкви» Чембало. В: Бабинов Ю. А. (гл. ред.). Взаимоотношения религиозных конфессий в многонациональном регионе: сборник научных трудов. Севастополь: Вебер, 53-60.
- Гинькут Н. В. 2005a. Византийские и восточные традиции в культуре генуэзской крепости Чембало (Крымский полуостров) по данным поливной керамики. B: Solomon F. (ed.). Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to the Ottoman Conquest. Iaşi: Trinitas, 495-512.
- Гинькут Н. В. 2005b. Изображение птиц на поливной керамике крепости Чембало: техника, декор, символика. В: Бабинов Ю.А. (гл. ред.). Символ в религии и философии. Севастополь: ЧП Арефьев, 19-36.
- Гинькут Н. В. 2005c. Поливная керамика византийского круга из раскопок «Консульской церкви» генуэзкой крепости Чембало. ХСб. XIV, 99-120.
- Гинькут Н. В. 2011a. Чашка-евлогия XIV в. из раскопок храмового погребения на территории крепости Чембало. ХСб. XVI, 57-64.
- Гинькут Н. В. 2011b. Изображения и монограммы святых на керамике Херсона и Чембало в поздневизантийский период. Херсонес -город святого Климента. VI Международная конференция по церковной археологии (Севастополь, 12-18 сентября 2011 г.). Тезисы докладов и сообщений. Севастополь: СПД Арефьев, 13-14.
- Гинькут Н. В. 2012a. Монограммы на поливной посуде местного производства из раскопок крепости Чембало и близлежащей округи. В: Алексеенко Н. А. (ред.-сост.). IV Международный Византийский Семинар «ΧΕΡΣΟΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: империя и полис» (Севастополь 31.05.-05.06.2012). Тезисы докладов и сообщений. Севастополь: СПД Арефьев, 14-15.
- Гинькут Н. В. 2012b. Группа поливных кувшинов и чаш XIV в. с элементами христианской символики из раскопок византийского Херсона и генуэзской крепости Чембало. XIV Международная конференция по религиоведению. «Человек в мире религиозных представлений» (Херсонес, 27-31.05.12). Севастополь: СПД Арефьев, 22-23.
- Гинькут Н. В. 2014a. Производство поливной во второй половине XIV -середине XV вв. керамики в крепости Чембало. МАИЭТ XIX, 311-344.
- Гинькут Н. В. 2014b. Редкая группа поливных чаш XIV -начала XV вв. из раскопок генуэзской крепости Чембало. Международный научный семинар «Поливная керамика Причерноморья-Средиземноморья как источник по изучению византийской цивилизации» (Севастополь, 5-8 сентября 2014 г.). Тезисы докладов. Севастополь, 36-40.
- Гинькут Н. В. 2014c. Византийская поливная керамика и ее имитации из раскопок генуэзской крепости Чембало. B: Алексеенко Н. А. (ред.-сост.). VI Византийский семинар «ΧΕΡΣΟΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: империя и полис» (Севастополь, 2-6 июня 2014 г.). Тезисы докладов и сообщений. Севастополь: СПД Арефьев, 20-21.
- Гинькут Н. В. 2015. Поливные сосуды для питья XIV-XV столетий из раскопок крепости Чембало. В: Алексеенко Н. А. (ред.-сост.). VII Международный Византийский семинар «ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: империя и полис» (Севастополь, 1-5 июня 2015 г.). Материалы научной конференции. Севастополь: СПД Арефьев, 39.
- Гинькут Н., Яшаева Т. 2014. Некоторые группы поздневизантийской поливной керамики из раскопок К.Э. Гриневича в балке Бермана. Международный научный семинар «Поливная керамика Причерноморья-Средиземноморья как источник по изучению византийской цивилизации» (Севастополь, 5-8 сентября 2014 г.). Тезисы докладов. Севастополь, 40-43.
- Голофаст Л. А. 2008. Ремесла и промыслы Херсона в XIII в. (по находкам из слоя пожара). МАИЭТ XIV, 345-384.
- Голофаст Л. А. 2009. Градостроительный облик Херсона в XIII веке. МАИЭТ XV, 275-377.
- Голофаст Л. А., Рыжов С. Н. 2003. Раскопки квартала X в северном районе Херсонеса. МАИЭТ X, 182-260.
- Голофаст Л. А., Романчук А. И., Рыжов С. Н. 1991. Византийский Херсон: Каталог выставки. Москва: Наука.
- Гончаров Е. Ю. 2011. «Стремявидная» тамга -тамга Берке? (Джендский вклад в нумизматику Крыма). В: Боряк Г. В. (вiдп. ред.). Спецiальнi iсторичнi дисциплiни: питання теорiї та методики 18. Актуальнi проблеми нумiзматики у системi спецiальних галузей iсторичної науки. Київ, 58-65.
- Гордеев А. Ю. 2014. Топонимия побережья Черного и Азовского морей на картах-портоланах XIV-XVII веков. Киев: Academia.edu.
- Гукин В. Д., Джанов А. В. 2013. Новые находки керамики византийского круга из раскопок портовой части средневековой Сугдеи в 2010-2011 годах. Труды Государственного Эрмитажа 69. Византия в контексте мировой культуры: сборник научных трудов, посвященный памяти А. В. Банк (1906-1984). Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 30-39.
- Даниленко В. Н. 1991. Из истории прикладного искусства средневекового Херсона. В: Толочко П. П. (отв. ред.). Византийская Таврика. Киев: Наукова думка, 46-64.
- Даниленко В. Н. 1996. Белоглиняная поливная керамика Херсонеса. МАИЭТ V, 135-145.
- Даниленко В. Н., Романчук А. И. 1969. Поливная керамика Мангупа. АДСВ 6, 116-138.
- Дергачева Л. В., Зеленко С. М. 2008. Монеты Трапезунда с кораблекрушения XIII века в бухте поселка Новый Свет. ССб. Вып. III. Киев; Судак: Академпериодика, 425-439.
- Довженок В. Й. 1961. Татарське мiсто на Нижньому Днiпрi часiв пiзнього середньовiччя. АПУ. Вып. X, 184-187.
- Домбровский О. И. 1968а. Средневековые памятники Бойки. В: Домбровский О. И. (ред.-сост.). Археологические исследования средневекового Крыма. Киев: Наукова думка, 83-96.
- Домбровский О. И. 1968б. Средневековый храм в Массандре. Археологические исследования на Украине в 1967 г. Киев: Наукова думка, 70-74.
- Домбровский О. И. 1974. Средневековые поселения и «Исары» Крымского Южнобережья. В: Бибиков С. Н. (отв. ред.). Феодальная Таврика. Киев: Наукова думка, 5-56.
- Джанов А. В. 1998. Гончарные печи XIV-XV вв. на посаде Сугдеи. В: Солодовникова С. Н., Кузнецова В. К., Неведрова Р. Г. (ред.). Историко-культурные связи Причерноморья и Средиземноморья X-XVIII вв. по материалам поливной керамики: тезисы докладов научной. конференции (Ялта, 25-29 мая 1998 г.). Симферополь: ДС «Каламо», 82-89.
- Джанов А. В. 2006. Судакская крепость. Двести лет исследований. В: Кулаковская Н. М., Плешков В. Н. (отв. ред.). Е.Ч. Скржинская. Судакская крепость. История -археология -эпиграфика. Киев; Судак; Санкт-Петербург: Академпериодика, 322-358.
- Дмитриенко В. Н., Масловский А. Н. 2006. Комплекс 1310-х годов из раскопок Азака. Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2005 г. Вып. 22. Азов, 231-257.
- Дьячков С. В. 2004. Консульская церковь крепости Чембало (XIV-XV вв.). В: Мыц В. Л. (гл. ред.). «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических»: Сборник научных трудов (по материалам конференции в честь 210-летия со дгя рождения Петра Ивановича Кеппена). Киев: Стилос, 246-255.
- Дьячков С. В. 2005. Археологические исследования генуэзской крепости Чембало в 2000-2005 гг. Древности 2005, 212-227.
- Залесская В. Н. (сост.) 1985. Византийская белоглиняная расписная керамика IX-XII вв. Каталог выставки/Государственный Эрмитаж. Ленинград.
- Залесская В. Н. 1993. Балканская поливная керамика в Северном Причерноморье в позднее средневековье. Преслав 4, 368-376.
- Залесская В. Н. 2011. Памятники византийского прикладного искусства. Византийская керамика IX-XV веков. Каталог коллекции. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Залесская В. Н., Калашник Ю. П. 1992. XX квартал Херсонеса по данным археологии и вещественных памятников. Археологiя 3, 69-82.
- Залесская В. Н., Крамаровский М. Г. 1990. Изображение человека в керамике Северного Причерноморья XII-XIV веков. Ленинград: Государственный Эрмитаж.
- Зеест И. Б., Якобсон А. Л. 1965. Раскопки в Керчи в 1963 г. КСИА 104, 62-69.
- Зеленко С. М. 1999. Итоги исследований подводно-археологической экспедиции Киевского университета имени Тараса Шевченко на Черном море в 1997-99 гг. Vita Antiqua 2, 223-234.
- Зеленко С. М. 2008. Подводная археология Крыма. Киев: Стилос.
- Зеленко С., Тимошенко М. 2011. Торговые отношения между Анатолийским регионом и Таврикой в Поздневизантийский период. Археологiя i давня iсторiя України 6, 121-126.
- Зеленко С., Морозова Я. 2012. Редкие товары и тарная керамика в морской торговле 13 века в бассейне Черного моря. В: Гендлек Л., Кшижовский Т., Михальский М. (ред.). Regiones euxinum spectantes. Культурные, этнические и религиозные отношения на протяжении веков. Краков, 187-202.
- Зеленко С. М., Тесленко И. Б., Ваксман С. Й. 2012. Несколько групп поливной посуды с кораблекрушения конца XIII в. вблизи Судака (Крым) (Морфологическая типология и лабораторные исследования). В: Гладкiх М. I. (гол. ред.). 1000 рокiв вiзантiйської торгiвлi (V-XV столiття). Збiрка наукових праць. Київ: СПД ФОП Чальцев, 129-148.
- Зильманович И. Д., Крамаровский М. Г. 1992. Солхат -Крым: Ремесленная мастерская на объекте XII. В: Отчетная археологическая сессия. Краткие тезисы докладов. Июнь 1992 года. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 7-8.
- Золотарев М. И., Коробков Д. Ю., Ушаков С. В. 1998. Кладовая дома XIII века в северо-восточном районе Херсонеса. ХСб. IX, 182-194.
- Иванина О. А. Византийское блюдо из Керчи. 1999. Археология и история Боспора III, 213-218.
- Иванов А. В., Савеля О. Я., Филиппенко А. А. 1998. Комплекс поливной керамики средневекового Кадыкоя. В: Солодовникова С. Н., Кузнецова В. К., Неведрова Р. Г. (ред.). Историко-культурные связи Причерноморья и Средиземноморья X-XVIII вв. по материалам поливной керамики: тезисы докл. науч. конф. (Ялта, 25-29 мая 1998 г.). Симферополь: ДС «Каламо», 108-112.
- Карашевич I. В. 2010. Середньовiчнi матерiали iз розкопок Бiлгород-Днiстровської експедицiї 1946-1947, 1949-1950 рр. Археологiя i давня iсторiя України 3, 129-135.
- Кирилко В. П. 2005а. Крепостной ансамбль Фуны 1423-1475 гг. Киев: Стилос.
- Кирилко В. П. 2005б. К вопросу об авторской идентификации некоторых средневековых керамических изделий. В: Бочаров С. Г., Мыц В. Л. (ред.). Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Т. I. Киев: Стилос, 349-358.
- Кирилко В. П. 2007. Фунская супница. В: Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья в X-XVIII вв.: II междунар. науч. конф. (Ялта, 19-23 ноября 2007 г.). Ялта, 53-56.
- Кирилко В. П. 2014. Крепостные сооружения средневековой Алушты. Stratum plus 6, 177-234.
- Кирилко В. П., Мыц В. Л. 2004. Укрепление Чобан-Куле (по материалам раскопок 1992-1993 гг.). В: Мыц В. Л. (гл. ред.). «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических»: Сборник науных. трудов (по материалам конференции в честь 210-летия со дня рождения Петра Ивановича Кеппена). Киев: Стилос, 205-245.
- Коваль В. Ю. 2002a. Керамика Восточного Крыма в средневековой Руси. В: Куковальская Н. М. (гл. ред.). Сугдея, Сурож, Солдайя в истории и культуре Руси-Украины: материалы научной конференции (Судак, 16-22 сентября 2002 г.). Киев; Судак: Академперiодика, 127-128.
- Коваль В. Ю. 2002b. Заметки о керамическом импорте средневековой Сугдеи. В: Куковальская Н. М. (гл. ред.). Сугдея, Сурож, Солдайя в истории и культуре Руси-Украины: материалы научной конференции (Судак, 16-22 сентября 2002 г.). Киев; Судак: Академперiодика, 129-131.
- Коваль В. Ю. 2010. Керамика Востока на Руси IX-XVII вв. Москва: Наука.
- Коваль В. Ю., Волошинов А. А. 2005. Псевдоселадон из Бахчисарая. В: Бочаров С. Г., Мыц В. Л. (ред.). Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Т. I. Киев: Стилос, 457-461.
- Коваль В. Ю. 2014. О новейшем «открытии» византийских глазурованных кувшинов в Италии второй половины XIII века. Международный научный семинар «Поливная керамика Причерноморья-Средиземноморья как источник по изучению византийской цивилизации» (Севастополь, 5-8 сентября 2014 г.). Тезисы докладов. Севастополь, 60-62.
- Когонашвили К. К. 1974. Средневековая Фуна. В: Бибиков С. Н. (отв. ред.). Феодальная Таврика. Киев: Наукова думка, 111-123.
- Косцюшко-Валюжинич К. К. 1901. Извлечение из отчета о раскопках в Херсонесе Таврическом в 1899 году (с 1 табл. и 55 рис.). ИАК. Вып. 1. Санкт-Петербург: Главное управление уделов, 1-55.
- Косцюшко-Валюжинич К. К. 1902. Извлечение из отчета о раскопках в Херсонесе Таврическом в 1900 году (с 3 табл. и 40 рис.). ИАК. Вып. 2. Санкт-Петербург: Главное управление уделов, 1-39.
- Кравченко А. А. 1986. Средневековый Белгород на Днестре. Киев: Наукова думка.
- Кравченко А. А. 1991. Импортная поливная керамика XIII-XIV вв. из Каффы. В: Ванчугов В. П. (отв. ред.). Северо-Западное Причерноморье -контактная зона древних культур. Киев: Наукова думка, 111-120.
- Кравченко Э. Е. 2005. Средневековая поливная керамика Среднего Подонцовья. В: Бочаров С. Г., Мыц В. Л. (ред.). Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Т. I. Киев: Стилос, 415-430.
- Крамаровский М. Г. 1980. Клад серебряных платежных слитков из Старого Крыма и золотоордынские сумы. СГЭ XLV, 68-72.
- Крамаровский М. Г. 1989. Солхат-Крым: к вопросу о населении и топографии города в XIII-XIV вв. В: Смирнова Г. И. (науч. ред.). Итоги работ археологических экспедиций Государственного Эрмитажа: Сборник научных трудов. Ленинград: Государственный Эрмитаж, 141-157.
- Крамаровский М. Г. 1991a. Гончарные печи Солхата. К итогам полевого сезона 1990 г. В: Отчетная археологическая сессия Государственного Эрмитажа за 1990 год. Краткие тезисы докладов научной конференции. Ленинград: Государственный Эрмитаж, 19-23.
- Крамаровский М. Г. 1991b. Чаша со сценой пира из Солхата. В: Микляев А. М. (науч. ред.). Древние памятники культуры на территории СССР. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 69-91.
- Крамаровский М. Г. 1994. Исследование средневекового Солхата. АИК 1993 г., 163-166.
- Крамаровский М. Г. 1996. Три группы поливной керамики из Северного Причерноморья. Византия и византийские традиции. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 96-116.
- Крамаровский М. Г. 1997. Золотоордынский город Солхат-Крым. К проблеме формирования городской культуры (новые материалы). Татарская археология 1, 105-110.
- Крамаровский М. Г. 2000. Византийская и сельджукская керамика с орнаментом сграффито с темой вина и веселья кон. XII -первой пол. XIV в. (по материалам Крыма и Черноморского побережья Болгарии). АДСВ 31, 233-250.
- Крамаровский М. Г. 2003. Джучиды и Крым: XIII-XV вв. МАИЭТ Х, 506-532.
- Крамаровский М. Г. 2009. Редкая сельджукская (?) лампа XII -начала XIII в. из пригорода Солхата. АДСВ 39. К 60-летию доктора исторических наук, профессора В. П. Степаненко, 301-313.
- Крамаровский М. Г. 2012. Человек средневековой улицы. Золотая Орда. Византия. Италия. Санкт-Петербург: Евразия.
- Крамаровский М. 2016. Крым и Рум в XIII-XIV столетиях (Анатолийская диаспора и городская культура Солхата). Золотоордынское обозрение 1, 55-88.
- Крамаровский М. Г., Зильманович И. Д. 1993. Работы на городище средневекового Солхата в Крыму в 1992 году. В: Отчётная археологическая сессия. Май 1993 г. Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 21-22.
- Крамаровский М. Г., Зильманович И. Д., Хаврин С. Л., Френкель Я. В. 1997. Работы Золотоордынской (старокрымской) археологической экспедиции. В: Кутайсов В.В. (отв. ред.). АИК 1994 г. Симферополь: Сонат, 157-159.
- Крамаровский М. Г., Гукин В. Д. 2002. Золотоордынское поселение Кринички (результаты полевых исследований). Материалы Старокрымской археологической экспедиции. Вып. I. Раскопки в Старом Крыму в 1998-2000 гг. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Крамаровский М. Г., Гукин В. Д. 2003. Работы золотоордынской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в сельской округе Солхата (исследование памятника Бокаташ II в 2002 г.). В: Отчетная археологическая сессия за 2002 г. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 44-49.
- Крамаровский М. Г., Гукин В. Д. 2004. Поселение Бокаташ II (результаты полевых исследований Золотоордынской экспедиции Государственного Эрмитажа в 2001-2003 гг.). Материалы Старокрымской археологической экспедиции. Вып. II. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Крамаровский М. Г., Гукин В. Д. 2006. Поселение Бокаташ II (результаты полевых исследований Золотоордынской экспедиции Государственного Эрмитажа в 2004 г.) Материалы Старокрымской археологической экспедиции. Вып. III. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Крамаровский М. Г., Гукин В. Д. 2007. Отчет об археологических исследованиях средневекового поселения Бокаташ II в 2005 г. Материалы Старокрымской археологической экспедиции. Вып. IV. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Крамаровский М. Г., Науменко В. Е., Сейдалиев Э. И. 2014. Глазурованная керамика из двух закрытых археологических комплексов XIV в. в медресе Солхата (по материалам исследований 2013 г.). Международный научный семинар «Поливная керамика Причерноморья-Средиземноморья как источник по изучению византийской цивилизации» (Севастополь, 5-8 сентября 2014 г.). Тезисы докладов. Севастополь, 64-69.
- Кубе А. Н. 1926. Глиняные черепки, найденные на южном берегу Крыма в имении Ласпи. Сообщения ГАИМК 1, 246-257.
- Кубанкин Д. А., Масловский А. Н. 2013. Предметы импорта с Увекского городища (случайные находки из фондов Саратовского областного музея краеведения). Поволжская археология 3, 130-155.
- Курочкина С. А. 2012. Альбарелло нижневолжских столиц Улуса Джучи. Поволжская археология 1, 78-93.
- Леппер Р. Х. 1913. Археологические исследования в Мангупе в 1912 г. ИАК. Вып. 47. Санкт-Петербург: Главное управление уделов, 73-79.
- Ломакин Д. А. 2016. «Работы по исследованию золотоордынского периода в Крыму не могут быть начаты, чтобы не быть законченными»: к новейшей истории исследования сельской периферии средневекового поселения Солхат. Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. Т. 12 (1). URL: http://j-spacetime.com/actual%20content/t12v1/2227-9490e-aprovr_e-ast12-1.2016.42.php (дата обращения: 31.12.2016).
- Майко В. В. 2008. Средневековая Посидима. Штрихи к археологическому портрету. В: Куковальская Н.М. (гл. ред.). ССб. Вып. III. Киев; Судак: Академпериодика, 466-480.
- Майко В. В. 2013a. Закрытый комплекс середины XIII в. из раскопок в портовой части средневековой Сугдеи. В: Ганкевич В. Ю., Непомнящий А. А. (ред.). Актуальные вопросы истории, культуры и этнографии Юго-Восточного Крыма. Материалы VI Международной научной конференции (Новый Свет, 6-7 октября 2012 г.). Симферополь: Новый Свет, 185-194.
- Майко В. В. 2013b. Закрытый комплекс первой половины XIII в. в портовой части среденевековой Сугдеи. В: Алексеенко Н. А. (ed.). ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ «империя» и «полис». Сборник научных трудов. Севастополь: СПД Арефьев, 69-90.
- Майко В. В., Джанов В. В. 2015. Археологические памятники Судакского региона Республики Крым. Симферополь: Ариал.
- Макарова Т. И. 1965. Средневековый Корчев (по раскопкам 1963 г. в Керчи). КСИА 104, 70-76.
- Макарова Т. И. 1991. Боспор-Корчев по археологическим данным. В: Толочко П. П. (отв. ред.). Византийская Таврика. Киев: Наукова думка, 121-147.
- Макарова Т. И. 1998. Археологические раскопки в Керчи около церкви Иоанна Предтечи. МАИЭТ VI, 344-393.
- Макарова Т. И. 2003. Боспор-Корчев. В: Макарова Т. И., Плетнева С. А. (отв. ред.). Крым, Северное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. Москва: Наука, 68-74.
- Масловский А. Н. 2006a. Керамический комплекс Азака. Краткая характеристика. Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2004 году 21, 308-472.
- Масловский А. Н. 2006b. О времени возникновения Азака. Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2005 году 22, 257-295.
- Масловский А. Н. 2007. Восточнокрымский поливной импорт в Золотоордынском Азаке. В: Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья в X-XVIII вв.: II Международная научная конференция (Ялта, 19-23 ноября 2007 г.). Ялта, 86-87.
- Масловский А. Н. 2008. Подвал купеческого дома конца первой половины XIV века из Азака. Степи Европы в эпоху средневековья 6, 93-124.
- Масловский А. Н. 2009. Керамический комплекс поселения Мартышкина балка (Койсугское) (вторая половина XIII в.). Вестник Южного научного центра 5(3), 59-68.
- Масловский А. Н. 2010. Об одной группе византийской поливной керамики кон. XIII -перв. пол. XIV в. из раскопок золотоордынского Азака. Степи Европы в эпоху средневековья 8. Золотоордынское время, 231-252.
- Масловский А. Н. 2012a. Начало производства поливной керамики в Юго-Восточном Крыму в последней четверти XIII -первой половине XIV в. Филология и культура 1(27), 192-196.
- Масловский А. Н. 2012b. Изменение объемов и состава импортов в керамическом комплексе золотоордынского Азака, как отражение событий политической жизни и изменений в экономике Золотой Орды. Известия высших учебных заведений. Северокавказский регион. Общественные науки 2(168), 42-46.
- Масловский А. Н., Белинский И. В. 2007. Три закрытых комплекса из раскопок золотоордынского Азака. Средневековые древности Дона. Материалы и исследования по археологии Дона 2, 325-344.
- Мицишвили М. Н. 1976. Из истории производства грузинской поливной керамики (XI-XVIII вв.). Тбилиси: Ганатлеба.
- Моисеев Л. А. 1918. Раскопки в Мангупе. ОАК за 1913-1915 годы. Петроград: Девятая государственная типография, 72-84.
- Морозова Я. И., Зеленко С. М. 2012. Средневековая испанская амфора с кораблекрушения в Черном море. В: Гладких М. И. (гол. ред.). 1000 рокiв вiзантiйської торгiвлi (V-XV столiття). Бiблiотека VITA ANTIQUA. Збiрка наукових праць. Київ: СПД ФОП Чальцев, 83-86.
- Морозова Я. И., Тимошенко М. Е., Зеленко С. М. 2016. Византийская белоглиняная керамика из раскопок корабля XIII века (каталог находок). Вып. 1. Феодосия: Арт Лайф.
- Мыц В. Л. 1987. Средневековое укрепление Иаср-Кая. СА 2, 228-245.
- Мыц В. Л. 1988. Некоторые итоги изучения средневековой крепости Фуна. В: Бибиков С. Н. (отв. ред.). Архитектурно-археологические исследования в Крыму. Киев: Наукова думка, 97-115.
- Мыц В. Л. 1989. Основные этапы развития средневековой Алушты. Проблемы истории и археологии древнего населения Украинской ССР. Киев: Наукова думка, 151-152.
- Мыц В. Л. 1991a Укрепления Таврики X-XV вв. Киев: Наукова думка.
- Мыц В. Л. 1991b. Несколько заметок по эпиграфике средневекового Крыма XIV-XV вв. В: Толочко П. П. (отв. ред.). Византийская Таврика. Киев: Наукова думка, 179-193.
- Мыц В. Л. 1997a. О дате гибели византийского Херсона: 1278 г. Международная конференция «Византия и Крым» (Севастополь, 6-11 июня 1997 г.). Тезисы докладов. Симферополь, 65-67.
- Мыц В. Л. 1997b. Ранний этап строительства крепости Алустон. ВВ 57 (82), 187-203.
- Мыц В. Л. 2002. Генуэзская Луста и Капитанство Готии в 50-70-е гг. XV в. В: Рудницкая В. Г., Тесленко И. Б. (сост.). Алушта и Алуштинский регион с древнейших времен до наших дней. Киев: Стилос, 139-189.
- Мыц В. Л. 2005. Историко-культурный контекст некоторых букв, монограмм и надписей на поливной керамике Крыма XIV-XV вв. В: Бочаров С. Г., Мыц В. Л. (ред.). Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Т. I. Киев: Стилос, 288-305.
- Мыц В. Л. 2007. Поливная керамика XIV в., как хронологический индикатор политических событий средневекового Крыма. В: Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья в X-XVIII вв.: II междунар. науч. конф. (Ялта, 19-23 ноября 2007 г.). Ялта, 88-89.
- Мыц В. Л. 2009. Кафа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты. Симферополь: Универсум.
- Мыц В. Л. 2015. «Крымский поход» Тимура в 1395 г.: историографический конфуз, или археология против историографической традиции. В: Бочаров С. Г. (отв. ред.). Генуэзская Газария и Золотая Орда. Кишинев: Stratum Plus, 99-123 (Археологические источники Восточной Европы).
- Науменко В. Е., Душенко А. А. 2014. Византийская глазурованная керамика из раскопок дворца правителей княжества Феодоро (Мангуп) по материалам исследований 2006-2010 гг. Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья в X-XVIII вв.: II международная научная конференция (Ялта, 19-23 ноября 2007 г.). Ялта, 93-95.
- Науменко В. Е., Душенко А. А. 2015. Новые данные о хозяйственно-культурном использовании южной периферии Мангупского городища: средневековые гончарные центры. В: Зинько В. Н., Зинько Е. А. (ред.-сост.). Боспорские чтения. Вып. XVI. Боспор киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Географическая среда и социум. Керчь: Центр археологических исследований Бф «Деметра», 243-250.
- Науменко В. Е., Пономарев Л. Ю. 2015. К изучению исторической топографии средневековой Керчи: византийская каменная икона из «Нового Карантина». АДСВ 43, 275-288.
- Панина Э. Л., Волков И. В. 2000. Штампованная керамика золотоордынских городов. В: Алпаткина Т. В. (ред.). Средняя Азия. Археология, история, культура. Материалы международной конференции, посвященной 50-летию научной деятельности Г. В. Шишкиной. Государственный музей Востока, Москва, 14-16 декабря 2000 г. Москва: Пересвет, 89-91.
- Паршина Е. А. 1971a. Средневековые памятники на побережье от Голубого Залива до Ялты. Археологические исследования на Украине в 1968 г. Киев: Наукова думка, 57-64.
- Паршина Е. А. 1971b. Средневековый храм в Ореанде. Археологические исследования на Украине в 1968 г. Киев: Наукова думка, 65-70.
- Паршина Е. А. 1974. Средневековая керамика Южной Таврики (по материалам раскопок и разведок 1965-1969 гг.). В: Бибиков С. Н. (отв. ред.). Феодальная Таврика. Киев: Наукова думка, 56-94.
- Паршина Е. А. 1988. Эски-Керменская базилика. В: Бибиков С. Н. (отв. ред.). Архитектурно-археологические исследования в Крыму. Киев: Наукова думка, 36-59.
- Паршина Е. А. 1991. Торжище в Партенитах. В: Толочко П. П. (отв. ред.). Византийская Таврика. Киев: Наукова думка, 64-100.
- Паршина Е. А. 2002a. Древний Партенит (по материалам раскопок 1985-1988 гг.). В: Рудницкая В. Г., Тесленко И. Б. (сост.). Алушта и Алуштинский регион с древнейших времен до наших дней. Киев: Стилос, 89-109.
- Паршина Е. А. 2002b. Средневековое поселение в урочище Сотера. В: Рудницкая В. Г., Тесленко И. Б. (сост.). Алушта и Алуштинский регион с древнейших времен до наших дней. Киев: Стилос, 117-131.
- Паршина Е. А. 2015. «Дом священника» на театральной улице Херсонеса. Археологический альманах 33. Сборник статей, посвященный юбилею Елены Александровны Паршиной, 17-38.
- Петерс Б. Г., Айбабина Е. А., Катюшин Е. А. 1976. Раскопки Феодосийской экспедиции. Археологические открытия 1975 года. Москва: Наука, 377-379.
- Полевой П. П. 1964. Поливная керамика из раскопок гончарного района на поселении XIV в. у с. Костешты. Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдавской ССР. Кишинев, 166-181.