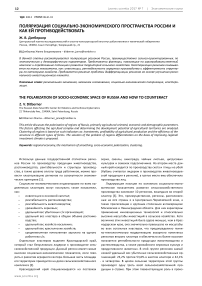Поляризация социально-экономического пространства России и как ей противодействовать
Автор: Дитбернер Ж.В.
Журнал: Juvenis scientia @jscientia
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 7, 2017 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается поляризация регионов России, преимущественно сельхоз-ориентированных, по экономическим и демографическим параметрам. Представлены факторы, повлиявшие на агропродовольственный комплекс и определившие потенциал развития территорий сельского хозяйства. Кластеризация регионов основывается на таких показателях, как: инвестиции, рентабельность аграрного производства и эффективность структуры по категориям хозяйств. Предлагается решение проблемы дифференциации регионов на основе улучшения регионального инвестиционного климата.
Региональная экономика, механизм сглаживания, социально-экономическая поляризация, кластеризация
Короткий адрес: https://sciup.org/14110295
IDR: 14110295 | УДК: 338.2
Текст научной статьи Поляризация социально-экономического пространства России и как ей противодействовать
Используя данные государственной статистики регионов России по производству продукции животноводства, растениеводства, рентабельности и структуры производства, а также уровню оплаты труда работников, можно провести кластеризацию регионов по совокупности экономических критериев [1].
Социально-экономическими индикаторами по всем выделенным кластерам могут послужить такие показатели, как:
– инвестиции в основной капитал;
– рентабельность растениеводства;
– рентабельность животноводства;
– урожайность зерновых;
– удельный вес убыточных с/х организаций;
– удельный вес кластера в общем объеме растениеводства;
– удельный вес хозяйств населения;
– удельный вес крестьянских хозяйств;
– среднемесячная начисленная зарплата на одного работника с/х.
Отдельным кластером выделен Краснодарский край, который стал безусловным лидером в производстве сельскохозяйственной продукции. Данный регион имеет самые высокие социально-экономические показатели, если говорить о развитии аграрного сектора. Большая часть площади его территории приходится на долю сельскохозяйственного комплекса [2].
Краснодарский край специализируется на поставках зерна, свеклы, винограда, чайных листьев, цитрусовых культурах и семенах подсолнечника. На втором месте данный край находится по производству скота и птицы на убой (Кубань считается лидером в производстве животноводческой продукции в регионе), а третье место ему обеспечило производство яиц.
Лидирующие позиции по основным социально-экономическим показателям развития сельскохозяйственного производства занимают 10 регионов, вошедших во второй кластер [3]. Это, преимущественно, регионы, расположенные на юге страны и в Центрально-Черноземной зоне, а также прилегающие к крупным столичным агломерациям Московская и Ленинградская области. Для них характерны применение инновационных технологий и относительно высокие масштабы инвестиций в сельское хозяйство. Хотя величина этих инвестиций была вдвое меньше, чем в Краснодарском крае, она значительно превышала их масштабы во всех остальных кластерах, что предопределило технико-технологическую модернизацию аграрного комплекса регионов второго кластера и обеспечило их более высокие показатели рентабельности продукции животноводства и растениеводства, a также урожайности зерновых культур и продуктивности животных. В этой группе регионов самый низкий удельный вес убыточных сельскохозяйственных организаций: 23,2% против 53,6% в шестом кластере и 42,1% - в четвертом. В целом сельские территории этой группы производят одну треть всей сельскохозяйственной продукции в стране. При этом главенствующую роль в произ- водстве продукции играют крупные сельскохозяйственные организации, на долю хозяйств населения приходится 36% а удельный вес продукции крестьянских (фермерских) хозяйств в данном классе регионов составляет 7,5%. Среднемесячная заработная плата превышает соответствующий показатель менее успешных регионов более чем в 1,5 раза. Тем не менее, ее величина даже в процветающем Краснодарском крае значительно меньше средней заработной платы по экономике в целом. Очевидно, что аграрный труд повсеместно недооценивается [4].
Наиболее наполненный третий кластер образуют сельские регионы Центрального Черноземья, Поволжья, а также пригодные для земледелия часть регионов Западной Сибири и Урала, которые производят более 40% сельскохозяйственной продукции. Здесь основными товаропроизводителями являются сельскохозяйственные организации и хозяйства населения. Крестьянские (фермерские) хозяйства производят менее 10% сельхозпродукции. Относительно высокие инвестиции в основной капитал обеспечили рентабельность растениеводческой и животноводческой продукции.
Тем не менее, с учетом сложности ведения сельского хозяйства в поволжских, уральских и сибирских регионах, попавших в данный кластер [5], инвестиционных ресурсов для масштабной модернизации технической базы отрасли у них явно недостаточно. Судя по низким показателям урожайности зерновых (17,1 ц/га) и надоев молока (4427,8 кг), сельхозпроизводители этой группы еще не смогли технологически «нивелировать» природно-климатический фактор и отработать наиболее эффективные для их местностей, включая зоны рискованного земледелия, способы выращивания растениеводческой и животноводческой продукции. В силу дефицита средств, выделяемых на интенсификацию производства, развитие идет по экстенсивной траектории – по пути чрезмерной эксплуатации природы и человека.
Здесь зафиксирован один из самых низких показателей заработной платы работников сельского хозяйства, который уступает уровню менее успешного четвертого кластера.
На мой взгляд, потенциал именно этих регионов, обладающих значительными сельскохозяйственными угодьями и составляющих костяк аграрного сектора России, следует максимально задействовать для решения задачи продовольственной самодостаточности страны. Первые два кластера, о которых шла речь выше, уже приблизились к максимальным параметрам использования природных и социальных ресурсов и почти достигли предела роста продуктивности. Но применяемый в этих двух случаях «рецепт успеха», когда в роли драйвера аграрного развития выступал крупный бизнес, в данном случае вряд ли годится. Риски ведения сельского хозяйства в регионах третьего кластера намного выше, чем на Кубани или в черноземной полосе центральной России, что серьезно ослабляет их инвестиционную привлекательность для крупнейших компаний и агрохолдингов. В связи с этим представляется необходимым создать условия для развития средних и малых хозяйств, в том числе семейных, на новом качественном уровне [6]. Предстоит принять меры для повышения доступности кредитных средств для данной группы сельхозпроизводителей, а также обеспечить организационнотехническую поддержку их хозяйственной деятельности. А именно, нужно стимулировать формирование кооперативных или интегративных механизмов снабжения ресурсами и предоставления технического обслуживания, создание коллективных мощностей по переработке продукции и инфраструктуры ее реализации с акцентом на расширение действующих каналов сбыта и на открытие новых рынков небольших партий продовольственных товаров.
Четвертый кластер образуют северо-западные и восточные территории и районы Нечерноземья. Различия между севером и югом страны по степени сельскохозяйственной освоенности и характеру расселения связаны с природной рентой и сложились исторически. Не менее выразительны и различия в инфраструктурной обустроенности, которые также имеют выраженный ингредиент «север-юг». В типично нечерноземной Костромской области, вошедшей в четвертый кластер регионов, шли постоянное сокращение сельскохозяйственного производства, уменьшение поголовья крупного рогатого скота и посевных площадей. Однако объем производства сокращался более медленными темпами, что свидетельствует о наличии жизнеспособных очагов при общем сжатии пространства сельскохозяйственной деятельности. Пространственные «подвижки» последних 20 лет связаны с тем, что хозяйственная деятельность вне городов приходит во все большее соответствие с наличием природного и человеческого потенциалов [7].
Пятый кластер сельских территорий по своему географическому положению занимает приграничные территории Сибири и Дальнего Востока, а также Республику Калмыкию и ряд республик Северного Кавказа. В этой группе 30% всех сельскохозяйственных организаций убыточны. Инвестиции в основной капитал минимальные. Здесь производство животноводческой продукции нерентабельно, надои молока одни из самых низких. Основными товаропроизводителями в этих регионах являются хозяйства населения и фермерские хозяйства, которые в совокупности дают около 80% производимой здесь сельскохозяйственной продукции. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства не превышает 10 тысяч рублей [8].
Ясных перспектив и механизмов развития приграничных территорий на основе взаимовыгодного партнерства с Китаем или Монголией нет. Рассчитывать на промышленный бум в обозримой перспективе местному населению не приходится. Поэтому личные подворья стали для многих семей единственной сферой занятости и источником средств существования. Местные власти такое положение дел устраивает, так как худо-бедно осуществляется социальный контроль над территорией, а приграничью не грозит полное обезлюдение. Брошенные на произвол судьбы забайкальцы не идентифицируют себя ни с Сибирским федеральным округом, ни с Дальним Востоком. Для них родным остается Байкальский край. В настоящее время в регионе развиваются тепличные хозяйства под руководством китайских фермеров. Однако, по результатам мониторинга управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю, в них зафиксированы случаи превышения содержания химических веществ в готовой продукции, нарушения в обращении с пестицидами и удобрениями, которые также завозятся (иногда нелегально) из сопредельного государства [9].
Местное население беспокоит также новая угроза – среднеазиатская экспансия. В поисках лучшей доли из бывших среднеазиатских союзных республик мигранты приезжают целыми семьями и оседают в Забайкалье на постоянное жительство. Другими словами, восточное приграничье России активно осваивается гражданами сопредельных государств. Очевидно, что трансграничное сотрудничество требует четкого законодательного регулирования и пристального внимания со стороны как местных властей, так и федерального центра [10].
Экстремально низкие показатели развития аграрного производства отмечаются в шестом кластере. Производство сельскохозяйственной продукции здесь сосредоточено в основном в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах. Доля сельскохозяйственных организаций, половина из которых убыточны, незначительна. В них производится менее 15% сельхозпродукции. Территориально этот кластер весьма разнороден. Он включает в себя как отдаленные северо-восточные территории – Республику Саха (Якутия) и Магаданскую область, так и часть южных регионов – Астраханскую область, Чеченскую Республику и Республику Дагестан. Специфика указанных территорий требует неординарных подходов в выборе форм и механизмов государственной поддержки сельхозпроизводителей.
Кластеризация сельских регионов России по существу показала существующие социально-экономические контрасты в их развитии [11]. Наиболее успешные сельские регионы расположены в благоприятной природно-климатической зоне, представлены южными и центрально-европейскими регионами (первый и второй кластеры), тяготеют к крупным агломерациям и транспортным магистралям.
Исследование показало, что важными факторами дифференциации сельских регионов являются объем инвестиций в основной капитал и характер политики, осуществляемой властями в отношении агропродовольственного комплекса. Наряду с крупными сельхозпроизводителями значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности регионов по-прежнему играют хозяйства населения. Их доля в общем объеме сельскохозяйственного производства колеблется от 35 до 65%. Вклад крестьянских (фермерских) хозяйств не столь значителен. Они специализируются в основном на производстве зерна. Многоуклад-ность сельскохозяйственного производства обеспечивает гибкость, устойчивость развития сельских территорий, в том числе в кризисный период. Практика показала, что ориентация государства на преимущественную поддержку крупных товаропроизводителей не является оптимальной, так как используется потенциал малых форм хозяйствования, которые выполняют роль социального буфера в условиях турбулентности рынка [12].
Перспективы большинства деревень ухудшаются из-за их невыгодного транспортно-географического положения, не позволяющего расширит перечень драйверов развития. А это значит, что они объективно обречены в лучшем случае на стагнирование. Единственный шанс – поиск новых индивидуальных ниш для извлечения доходов. Производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции, конечно, возможно, но цена ее будет велика и она вряд ли выдержит конкуренцию с аналогичной продукцией, которая производится гораздо ближе к конечному потребителю. Развитие туризма тоже возможно, но отсутствие в настоящее время какой бы то ни было инфраструктуры сдвигает реализацию этого варианта на долгосрочную перспективу.
Экономические санкции и последовавшее за ними продовольственное эмбарго предоставили аграрному сектору страны исторический шанс доказать свою способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и решить задачу обретения продовольственной независимости и самообеспечения страны.
Список литературы Поляризация социально-экономического пространства России и как ей противодействовать
- Регионы России: Социально-экономические показатели. 2016: Стат. сб/Росстат. М., 2016
- Веселова Э.Ш. Что делает Татарстан успешным регионом//ЭКО. 2015. № 5. С. 93-97
- Кудряшов В.С., Миронов Д.Е. Стратегические подходы к формированию государственной кластерной политики на региональном уровне//Петербургский экономический журнал. 2014. №4. С. 75-80
- Забелина И.А., Клевакина Е.А. Приграничное сотрудничество и его влияние на качество ЭКОномического роста (на примере Забайкальского края)//ЭКО. 2013. №3. С. 61-67
- Нефедова Т.Г. Десять актуальных вопросов о сельской России: Ответы географа. М.: ЛЕНАНД, 2013. 364 с.
- Кудряшов В.С. Теоретические и методологические аспекты формирования промышленных кластеров в регионах России на основе системного подхода//Петербургский экономический журнал. 2013. №4. С. 74-78
- Покровский Н.Е. Перспективы российского Севера: сельские сообщества//Мир России. 2011. С. 36-42
- Смирнов С.Н. Российская деревня: вечное на фоне трансформаций: Заметки непрофессионала//Мир России. 2013. С. 24-29
- Фадеева О.П. Приграничные сельские территории Забайкалья: равитие или деградация? (заметки социолога)//ЭКО. 2014. № 11. С. 53-58
- Кудряшов В.С. Анализ процесса стандартизации государственного финансового контроля//Экономика, предпринимательство и право. 2016. Т.6. №3. С. 291-302.
- Лимонов Л.Э., Батчаев А.Р. Региональная экономика и пространственное развитие. М.: Юрайт, 2016. 268 с.
- Кудряшов В.С., Миндлин Ю.Б. Кластерный подход как элемент формирования национальной экономики//Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право». 2017. №2. С. 19-23.