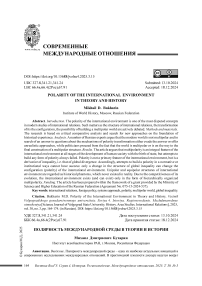Полярность международной среды в теории и истории
Автор: Бухарин М.Д.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Современные международные отношения
Статья в выпуске: 3 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Полярность международной среды – одна из наиболее актуальных концепций в современных исследованиях международных отношений. В практической плоскости дискурс ведется вокруг структуры современных международных отношений, трансформации конфигурации международных отношений, возможности построения многополярного мира. Методы и материалы. Исследование основано на сравнительном и критическом методах, поиске новых подходов к решению поставленных вопросов на основе данных истории. Анализ. В российском экспертном сообществе нет единого мнения по этому поводу: одни эксперты утверждают, что современный мир не многополярен – и либо уходят от ответа, либо предлагают нереалистичные подходы; другие руководствуются тем, что мир многополярен или находится на пути к окончательному построению многополярной структуры. Результаты. В статье утверждается, что многополярность – неотъемлемое свойство международной среды на всех этапах развития человеческого общества с появлением государства, однако никогда попытки искусственно сформировать тут или иную структуру полярности не приводили к желаемому результату. Полярность не является первичным свойством международной среды, но производной от неравенства, то есть следствием глобальной дивергенции. Соответственно, попытки нормативным или институциональным образом сформировать ту или иную полярность заведомо обречены на неудачу: лишь изменение структуры глобального неравенства может трансформировать конфигурацию (полярность) международной среды. Однополярные и равнополярные структуры рассматриваются как исторические фантомы, никогда не имевшие место в действительности. Международная среда ввиду конкурентности ее эволюции существует (и может существовать) лишь в форме иерархически организованной многополярности. Финансирование. Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2024-537).
Международные отношения, внешняя политика, системный подход, полярность, многополярный мир, глобальное неравенство
Короткий адрес: https://sciup.org/149148818
IDR: 149148818 | УДК: 327.8,341.21,341.24 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.3.15
Текст научной статьи Полярность международной среды в теории и истории
DOI:
Цитирование. Бухарин М. Д. Полярность международной среды в теории и истории // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 3. – С. 164–174. – DOI:
Введение. Полярность, а также производные этого понятия – многополярность, биполярность, однополярность, понимаемые как общая форма международной среды, которая, в свою очередь, определятся возможностями ее компонентов (игроков / акторов), – один из наиболее устойчивых оборотов в современном политическом дискурсе, в предпринимаемых сейчас исследованиях по международным отношениям, в том числе по теории и по истории международных отношений. Если абстрагироваться от терминологии, то этот спор – формирование и анализ той или иной структуры международной среды с одним доминирующим полюсом или несколькими, хотя бы двумя, – имеет длинную историю. Обсуждение этого феномена или, во всяком случае, использование самого понятия «многополярность» как необходимого фона в исследованиях по истории всех исторических периодов – древности, Средневековья [4], Нового и Новейшего времени [20] – продолжается в настоящее время со все нарастающей интенсивностью [11; 12; 15].
Для понимания исторической динамики развития концепции полярности международной среды интересны наблюдения над древневосточной традицией, задействованной в теории международных отношений значительно слабее, чем античная. Так, классическим примером много- и равнополярности можно считать так называемый амарнский международный порядок – стабилизацию обстановки, сложившейся на Ближнем Востоке к первой половине ХIV в. до н. э., когда такие государства, как Митанни, касситская Вавилония и Египет, установили добрососедские отношения друг с другом [5, c. 227]. Подобные ситуации активно обсуждались и в древневосточной, и в античной политической мысли. Ярким примером осознания наличия нескольких равных по статусу очагов влияния в глобальном по меркам своей эпохи масштабе является концепция пяти «великих царств», которые контролировали нильский (Египет), эгейский (Аххийава), анатолийский (Хеттское царство), верхнемесопотамско-сирийский (Мита-нии) и нижнемесопотамский (Вавилония) регионы в ХV–ХIII вв. до н. э. В них могла править только одна династия, а их представители именовали друг друга «великими царями» и «братьями» [5, c. 231], осознавая равный статус по отношению друг к другу.
Исключительно богата рассуждениями на тему полярности международной среды древнекитайская традиция, особенно тех пе- риодов, которые характеризуются раздробленностью, отсутствием доминирующей силы. Многочисленные примеры многополярного баланса сил, который из состояния равновесия (сбалансированности) приходит в разбалансированное состояние, приводят «Планы сражающихся царств», отражающие события V–III вв. до н.э. [1, c. 207, 210–211, 215].
В «Планах сражающихся царств» неоднократно употребляется оборот «объединиться в союз по вертикали». Вероятно, под данной формулой имеется в виду формирование иерархического союза с доминирующим центром и рядом остальных относительно равноправных (по отношению к центру) полюсов. Эта схема была универсальной: Pax Romana строился по такой же модели.
Впрочем, первым систематическим анализом концепции баланса сил и, соответственно, полярности международной среды считается работа флорентийского историка Франческо Гвиччардини (1483–1540) «Истории Италии» (1537) [2], первым же воплощением на практике многополярного баланса сил (в Европе Нового времени) – Утрехтский мир 1713 г. [13, p. 43]. Эту точку зрения можно было бы принять, только если не рассматривать международные договоры древности или Средневековья (например, Лодийский мир 1454 г.), также богатые принципами распределения власти среди нескольких равных по статусу игроков.
Термин «многополярность», как и само обсуждение проблемы полярности, может показаться новым словом в общественных науках.
Уже в довоенный период обсуждение структуры международной среды занимало видное место в исторических исследованиях. Отсутствие таких терминов, как «теория международных отношений» или «многополярность», не помешало в 1922 г. выпустить, вероятно, первый обобщающий том по «истории и природе» международных отношений, в котором академик М.И. Ростовцев (1870– 1952) представил очерк, посвященный анализу проблемы структуры международной среды в древневосточной и античной, в основном древнеримской, политической мысли [20].
Однако и еще ранее, то есть до того, как международные отношения конституирова- лись как самостоятельная научная дисциплина (за дату ее рождения условно принимается 1919 г., когда в валлийском Абериствуде была организована первая профильная кафедра), и юристы-международники, и историки занимались вопросами эволюции политической мысли применительно к динамике международной среды. Своеобразным полигоном (впрочем, не единственным, но наиболее популярным), на котором отрабатывались теоретические подходы к анализу структуры международных отношений, была история античного мира.
Так, американский юрист-международник, специалист в области политической истории Европы, но отнюдь не антиковед, Амос Херши (1867–1933), не используя термин «полярность» определил (другой вопрос – правильно или нет) основной тренд в понимании структуры международной среды в древней Греции – поиск баланса сил, Херши выделил и основной стержень Pax Romana – опору на единственную доминанту (“Common superior”), идея которой была унаследована и политической мыслью Средневековья, на смену которой снова приходит идея баланса сил, реализованная в Италии ХV в. [16, p. 931–932]. Впрочем, антиковеды, медиевисты, историки Нового времени и до выделения международных отношений в самостоятельную научную дисциплину плодотворно исследовали представления древних политиков и мыслителей (а иногда – политиков-мыслителей) о структуре международных отношений, однако в профессиональный лексикон специалистов по истории древности этот термин так и не проник. Во всяком случае, исследование феномена полярности имеет значительно более длинную историю, чем может показаться на первый взгляд.
Само понятие «многополярность» было, вероятно, привнесено в исследование структуры международных отношений из ряда направлений, развивавшихся на стыке медицины и биологии (неврологии, цитологии), ряда смежных сфер химии и физики в 1950-е годы. Это заимствование было связано с развитием системного подхода в общественных науках, в том числе в изучении международных отношений. Значительный вклад в обсуждение сути этого явления в рамках системного подхода, устойчивости той или иной системы международных отношений в контексте полярности и анализа объективной реальности или иллюзорности этих систем в 1950-е–1970-е гг. внесли Мортон Каплан (1921–2017), Стенли Хоффманн (1928–2015), Хэдли Булл (1932– 1985), Кеннет Уолтц (1924–2013) и другие крупные исследователи [21; 24]. Впрочем, первые же дискуссии второй половины 1950-х гг. показали, что одной из основных проблем теоретического анализа международных отношений является слабое соответствие ряда принципиальных выводов теоретиков историческим реалиям. Однако влияние инерции, заданной еще в 1950-е гг., явственно ощущается и в современной науке.
Методы и материалы. Возможно, далеко не все эксперты и политики понимают под одно- и многополярностью одну и ту же материю, прибегая к излишне усложненным толкованиям, чем и объясняется наличие невероятного количества публикаций на этот счет. Мнение Эвана Уилсона относительно различных форм полярности представляется наиболее ясным и ближе всего отражающим суть явления: «В однополярной системе имеется одно государство, по отношению к которому никакое другое государство не может поддерживать равновесие; в биполярной системе действуют два государства, которые могут поддерживать равновесие по отношению друг к другу; в многополярной системе имеется множество государств, способных поддерживать взаимное равновесие. Это достаточно просто и ясно, понятно даже слишком хитромудрым историкам» (“A unipolar system has one state against whom no other state can balance; a bipolar system has two that can balance against each other; and a multipolar system has multiple states capable of balancing against each other. That much is simple and straightforward, comprehensible even to fuzzy-headed historians” [19, p. 1]). С этой точки зрения полярность определяется возможностью того или иного государства или, добавим, иного другого игрока на международной арене оказывать влияние на международную среду, то есть являться «полюсом силы», а начинается многополярность ровно там, где заканчивается биполярность, то есть со взаимодействия трех игроков. Уровень влияния на международную среду и определяет мощь того или полюса. Впрочем, и многополярная структура может иметь совершенно различную конфигурацию, а различия этих контуров, не отмечаемые экспертами, могут объяснять разницу во мнениях относительно самого существования полярной и многополярной структуры миропорядка.
Анализ . Нельзя не отметить того, что в современных исследованиях нет не только единообразного понимания полярности, но и тесно связанной с данной концепцией идеи баланса сил. Так, Мартин Уайт (1913–1972) – один из основателей английской школы международных отношений – насчитывал их до десятка [23, p. 164–179]. Достаточно, однако, одного, Уайтом не приведенного: категория баланса сил валидна только в контексте полярности, и если полярность характеризует общую структуру международной среды, то баланс сил – соотношение сил между полюсами, определяющее ее равно- или неравновесность, то есть наличие плоскостной или иерархической структуры. При этом равнополярность не следует путать с равноправием : равноправие, зафиксированное в тех или иных правовых документах, как правило, является лишь одной из стартовых предпосылок для развития взаимоотношений, но редко воплощается на практике в иерархических системах. Даже структура ООН не основана на равноправии ее членов – лишь немногие избранные являются постоянными членами Совбеза и обладателями права вето. Общая структура систем (и несистемных комплексов) международных отношений, как правило, сочетает на разных уровнях равнополярные и иерархические подсистемы (несистемные комплексы). Соответственно, однополярность – в теории и в исторической практике – не может быть чем-либо иным, кроме как иерархически организованной многополярностью с одним доминирующим и многими другими полюсами с меньшим потенциалом воздействия на международную среду. При этом однополярные структуры «в чистом виде» никогда не существовали: в противном случае придется признать, что воздействие на международную среду мог оказывать только один источник.
В современной политической практике многополярность представляет собой не только
СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ предмет споров среди исследователей, то есть теоретиков, но и основу базовых документов, определяющих практическую деятельность во внешнеполитической сфере. Так, Концепция внешней политики РФ (далее – КВП РФ) в редакции от 31 марта 2023 г. утверждает: «Россия... выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы » (ст. 5); «Продолжается формирование более справедливого, многополярного мира» (ст. 7). Таким образом, утверждается, что многополярный мир можно построить, что процесс построения в настоящее время продолжается и что чем более полярен мир, тем он более справедлив.
Ведущие политические деятели также исходят из того, что многополярность представляет собой уже сложившуюся реальность. Так, президент РФ В.В. Путин 4 июля 2024 г. на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил: «Многополярный мир стал реальностью» [6]. С одной стороны, структура глобальной среды, безусловно, может менять свои очертания, в том числе трансформируясь из однополярной в многополярную. Именно об этом писал еще выдающийся антиковед М.И. Ростовцев в первом специализированном очерке истории международных отношений в древности уже более ста лет назад [20, p. 37–38], однако разница в полтора года между принятием КВП РФ и утверждением президента В.В. Путина, сделанным на саммите ШОС, свидетельствует о том, что это утверждение если не противоречит, то подводит итог деятельности по реализации тех принципов, которые заложены в КВП РФ, принятой в 2023 г., исходящей из того, что многополярный мир еще только нуждается в построении, и того, что этот процесс не находится в финальной фазе.
Концепция внешней политики РФ также констатирует этот факт: некоторые страны «отказываются признавать реалии многополярного мира и договариваться на этой основе о параметрах и принципах мироустройства» (ст. 8). Также «реалии многополярного мира» упоминаются в статьях 13, 39 и в других статьях концепции.
ОТНОШЕНИЯ
Декларация, подписанная по итогам Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC) 6 сентября 2024 г. также призывает к формированию многополярного равного упорядоченного мира с опорой на международное право и Устав ООН: «Китай и Африка совместно призывают к равному и упорядоченному многополярному миру, твердо защищают международную систему с ООН в ее основе, международный порядок, подкрепленный международным правом, и основные нормы, регулирующие международные отношения, подкрепленные целями и принципами Устава ООН» (“China and Africa jointly call for an equal and orderly multipolar world, and firmly safeguard the international system with the U.N. at its core, the international order underpinned by international law, and the basic norms governing international relations underpinned by the purposes and principles of the U.N. Charter”) [8].
Уверенность большей части экспертов в наличии многополярности международной среды или постулируется как данность [19, p. xv], или, реже, является предметом исследования и требует обоснования. Интересно отметить, что для глав государств мир мно-гополярен и многополярность – объективная реальность, что бы под этим термином ни понималось, тогда как некоторые российские эксперты в области международных отношений исходят из обратного. Можно сказать, что рассмотрение структуры международной среды как немногополярной свойственно части именно российского экспертного сообщества. Вероятно, доминирование США в глобальном масштабе имплицитно определяет и их воззрения на структуру международной среды.
Так, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) в 2011–2023 гг. А.В. Кортунов утверждал в 2018 г., что мир так и не становится многополярным. Начав поиски причин отсутствия движения к многополярности, он пришел к выводу, что «если вчитаться в современные российские нарративы, описывающие “новую” многополярность XXI столетия, то за пышным многополярным фасадом очень часто вырисовывается все та же железобетонная биполярная конструкция мировой политики, отражающая до конца не преодоленную советскую ментальность». Взамен многополярности предлагается строить новый миропорядок на основе многосторонности, то есть «путем накопления элементов взаимозависимости и выхода на новые уровни интеграции» [3].
Впрочем, эта схема, очерченная уже более ста лет назад в классической работе либерала-утописта Нормана Энджелла «Великая иллюзия» (точка зрения Энджелла, однако, претерпевала с течением времени серьезные изменения), неоднократно доказывала свою нереалистичность, и эта нереалистич-ность до некоторой степени признается и самим А.В. Кортуновым: «В отличие от многополярной модели мира, многосторонняя модель не имеет возможности опираться на опыт прошлого и в этом смысле может показаться идеалистической и практически неосуществимой» [3]. Итоговый вывод А.В. Кортунова звучит следующим образом: «Что же касается концепции многополярности, то она должна остаться в истории как вполне оправданная интеллектуальная и политическая реакция на самоуверенность, высокомерие и разнообразные эксцессы незадачливых строителей однополярного мира. Не менее того, но и не более. А с закатом концепции однополярного мира неизбежно начинается закат и ее противоположности – концепции мира многополярного» [3].
С другой стороны, не желая замечать ту или иную «полярную» структуру международной среды, А.В. Кортунов полагает, что на смену многополярности придет мир «более сложный и противоречивый», в котором «найдется место множеству комбинаций самых разнообразных участников мировой политики, взаимодействующих друг с другом в различных форматах». По мнению А.В. Кортунова, эта структура – «более сложная и противоречивая» – многополярной являться не будет. Возможно ли совместить сложный и противоречивый облик международной среды с немногополярностью – этот вопрос оставлен без ответа. Эта публикация Кортунова вызвала к жизни бурную полемику, и целый ряд экспертов посчитал нужным высказаться.
Оппонируя А.В. Кортунову, А.В. Фенен-ко исходит из отсутствия многополярности в международной среде: «...“многополярный мир” начнется с того момента, когда одна или несколько держав начнут не “игру по правилам”, а “игру без правил” или, точнее, “игру за ревизию существующих правил”» [7]. Из этого заявления можно сделать вывод, что многополярность следует трактовать как наличие различных подходов в нормативном форматировании миропорядка. Такая позиция оставляет еще больше вопросов:
– есть ли в настоящий момент некий единый свод правил, по которому, якобы, играет все мировое сообщество и который нужно изменить?
– сможет ли глобальная среда существовать при множественности нормативных и, как следствие, институциональных констант? Ответ, как представляется, очевиден, во всяком случае, никто из субъектов международных отношений не заявлял на официальном уровне об отказе соблюдать нормы Устава ООН.
– как понимать в связи с этим смену парадигмы одной доминирующей силой, например США? Становится ли мир многополярным при смене американского внутри- и внешнеполитического курса?
Подобные вопросы можно задавать и далее. Смена нормативной составляющей миропорядка никак не определяет само наличие многополярности, она может лишь зафиксировать, но и не сформировать, некий status quo. Позицию Фененко можно уподобить предложению ко всем участникам дорожного движения не соблюдать имеющиеся правила, а придумывать собственные и пользоваться ими в противовес общепринятым. Нетрудно представить, что итогом такой нормативной деятельности станет глобальный хаос со значительным количеством жертв.
Результаты. Полярность, если под ней понимать наличие того или иного источника влияния на международную среду, существует ровно столько, сколько существуют трансграничные отношения. В настоящее время полюсов в международной среде столько же, сколько в ней насчитывается так называемых акторов международных отношений: государств, их союзов, межгосударственных организаций, негосударственных акторов разного рода, систем и несистемных игроков. Если иметь в виду под полюсом именно источник влияния, то с этой точки зрения современный мир многополярен , так как таких центров как минимум существенно больше одного. Так как таких источников в ис-
СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ тории человечества всегда было больше одного, то, соответственно, глобальная среда никогда не была однополярной. Многополярность всегда была неравновесной, иерархичной, однако наличие одной доминирующей силы (полюса) в тот или иной период не означает, что других полюсов не было.
Интерпретируя современный дискурс о многополярности и документы, в частности КВП РФ, эксперты исходят, с одной стороны, из того, что многополярность, а равно и поли-центричность, подразумевают не столько наличие большого количества полюсов, хотя бы трех [14], а то, что эти полюсы или центры должны быть равновесны, то есть обладать равным влиянием в международной среде (в официальных документах для характеристики этого предполагаемого свойства международной среды используется понятие «равноправный»). Об этом говорится в ст. 18 КВП РФ: многополярность понимается как суверенное равенство при отсутствии гегемонии во всех ее проявлениях. С другой стороны, п. 8 ст. 18 говорит об «ответственном лидерстве ведущих государств». Таким образом, и в КВП РФ речь идет, прежде всего, о такой структуре международной среды, в которой бы не было явно доминирующего гегемона, а именно США, о чем говорится в ст. 19 (п. 1), при этом суверенное равенство государств должно каким-то образом уживаться с представлением о лидерстве ведущих государств, то есть с сохранением иерархич-ной структуры международной среды.
Таким образом, в КВП РФ речь ведется не столько о многополярности, которая и без того имеется, а о двухуровневой равно-полярности международной среды , в которой некоторые игроки, так называемые государства-лидеры, все равно «равнее» других, то есть занимают доминирующее (ответственное!) положение. Иными словами, сама концепция внешней политики РФ делит государства на лидеров (ответственных и безответственных) и всех прочих, то есть фактически речь идет о поддержании двухэтажной схемы многополярности: сверху – государства-лидеры, «великие державы», обладающие равным статусом, снизу – все остальные, также равные. Этот двухэтажный дом и называется многополярностью.
ОТНОШЕНИЯ
И ранее уже утверждалось, что «равноправие» и «многополярность» концептуально несовместимы: «Если мы согласимся с принципом равноправия государств в международной системе, то должны отказаться от фундаментальных основ концепции многополярности. Ведь эта концепция в явной или неявной форме предполагает, что в мире будущего всегда останутся отдельные государства или их группы, которые наделены особыми правами. То есть будут закреплены привилегии силы, подобно тому, как победители во второй мировой войне закрепили свои привилегии при создании системы ООН в 1945 году», – полагал А.В. Кортунов [3]. Однако сам по себе тезис о несоответствии двух указанных теоретических концепций не дает ответа на следующие связанные между собой вопросы: можно ли искусственно построить (сформировать) ту или иную структуру международной среды, искусственно менять полярность и, в частности, трансформировать более иерар-хичную структуру международной среды в менее иерархичную, менять или создавать заново полярность? имеются ли для этого те или иные нормативные или институциональные инструменты? где лежат критерии «ответственности» лидерства и как можно доказать тому или иному лидеру, что его лидерство безответственно и что если оно безответственно, то он должен от этого лидерства отказаться или сменить политический курс?
Попытки искусственно выстроить ту или иную конфигурацию международной среды в направлении много- и равнополярности известны для каждой исторической эпохи. Однако так или иначе любая номинально равноправная многополярная структура эволюционировала в сторону иерархичной полярности.
Нормативные и институциональные инструменты по формированию многополярности были задействованы при создании ООН. Однако уже на первых порах ее функционирования стало ясно, что ООН не является инструментом по поддержанию равнополярного мира. Постоянные члены СБ ООН, обладатели права вето по своим возможностям резко отличаются от остальных членов ООН, в этой связи уже в 1950-е гг. были разработаны проекты полного реформирования ООН [10], впрочем, совершенно утопические.
В связи с этим ответа требует следующий вопрос: если искусственное, то есть нормативно-институциональное, построение многополярности невозможно, то по какой причине?
Ни в какой период истории обнаружить ту или иную структуру международных отношений, которая была бы одновременно много- и равнополярной, не удается. Объяснение лежит на поверхности: полярность международной среды понимается в том числе в таких документах, как Концепция внешней политики РФ, как первичный фактор , эволюционирующий по собственным законам. Именно это понимание представляется в корне неверным . Структура международных отношений, а именно полярность, является не более чем отражением других, собственно первичных процессов , и изменения в полярности международной среды возможны лишь тогда, когда эволюционируют эти первичные процессы. В качестве такового следует рассматривать неравенство со своими уровнями развития – локальным, региональным, глобальным. Соответственно, уровней в структуре международной среды будет столько же, сколько их насчитывается в схеме глобального неравенства. На каждом уровне, в том числе «лидерском», может располагаться любое количество игроков, да и сама структура мирового лидерства не может иметь плоскостную конфигурацию. Несмотря на то что различные статистические параметры выделяют три-четыре основных лидерских полюса, к ним по тем или иным параметрам добавляются и другие лидеры в отдельных областях, баланс сил среди лидеров также не является плоскостным.
Многополярность является отражением структуры глобального неравенства. Соответственно, искусственно, то есть непосредственным внешним воздействием, сформировать или изменить тем или иным способом – нормативным, институциональным, еще каким-то, полярную структуру невозможно, если сама структура глобального неравенства остается неизменной: комплекс норм и институтов международной среды придет в несоответствие с текущими реалиями. Впрочем, как показывает исторический опыт, эта структура динамична и подвержена различным трансформациям, а неизбежность смены гегемона в системе международных отношений, то есть в многополярной иерархичной системе ни для кого не является секретом. Внутренние эволюционное механизмы этого процесса за последние пятьсот лет блестяще раскрыты, в частности П. Кеннеди в многократно переиздававшейся монографии «Взлет и падение великих держав» [18].
Реалии международной среды, то есть ее конкурентность и анархичность – в том смысле, в котором об анархичности международной среды говорили классики политического реализма, таковы, что с течением веков полярность, а значит, глобальное лидерство, меняется: «центры силы» перемещаются по планете, одна доминанта рано или поздно сменяется другой. Однако эти перемены происходят не потому, что кто-то решил «построить многополярный мир», а потому что меняется соотношение сил внутри всего комплекса международных отношений. Одни игроки переживают подъем, другие – кризис, соответственно влияние одного полюса увеличивается, другого – ослабевает.
Однако никакие эволюции не изменяют иерархичную структуру полярности. Многополярный иерархичный мир не становится и никогда не станет равнополярным. Даже внутри так называемых лидеров нет и в обозримой перспективе не намечается выравнивания уровня влияния. Верхний слой полюсов («государства-лидеры») столь же неоднороден по своей структуре, как и нижний. Пирамидальная структура никогда не становилась и не станет плоскостной. И даже искусственно уменьшить высоту этой пирамиды невозможно, так как полярность вторична по отношению к неравенству.
Оправданным выглядит и следующий вопрос: даже если бы искусственное построение многополярного мира было возможно, то нужно ли его строить? В таком случае в мире на равноправной основе действовали бы тысячи так называемых акторов с собственным потенциалом, собственными различающимися проблемами. На повестке дня немедленно бы многократно обострился вопрос об управляемости международной среды. Как показывает опыт истории, чем меньше доминиру- ющих акторов, тем проще им договориться. Теоретические исследования так же подтверждают этот тезис. Наиболее устойчивой структурой международных отношений до настоящего времени являлась та, которую Мортон Каплан в первом издании «Системы и процесса в международной политике» 1957 г. обозначил как loose bipolar system [17, p. 46–51], то есть мягкая биполярная система: существует два доминирующих центра силы, которые не только конкурируют между собой, избавляя мир от гегемонии одного игрока и давая возможность тем или иным акторам примкнуть к одному из лагерей, а помимо двух полюсов есть и межполюсное пространство, в котором действуют те, кто не примкнул ни к одному из этих лагерей. Теоретическое построение М. Каплана в данном случае имеет исторический прототип – структуру международной среды, сложившейся после 1945 г., когда при наличии советского и американского лагерей существовал еще и мир неприсоеди-нившийся, так же канализировавший энергию противоборствующих сторон. Этот «неприсо-единившийся мир» также являлся структурным полюсом международной среды, соответственно, название «loose bipolar system» не вполне точно отражает историческую реальность. Иногда эту «систему» называют Ялтинско-Потсдамской, что также представляется не очень верным, так как финальная точка в ее нормативном оформлении была поставлена лишь в 1975 г. в Хельсинки.
Систему «баланса сил» тот же М.А. Каплан на основе исторического опыта считал неустойчивой, склонной, как и «универсальную международную систему», при нарушении общего равновесия к трансформации в биполярную систему [17, p. 45–46, 53]. Кеннет Уолтц, один из классиков структурного неореалистического мышления, также считал, что многополярность ведет к нестабильности, так как взаимодействия в международной среде будут провоцировать поиск инструментов воздействия на те ли иные полюсы за счет заключения альянсов между другими полюсами. Ход истории подтвердил теоретическое положение о большей эффективности поддержания безопасности в рамках биполярной системы, чем в многополярной структуре, когда «собственная победа тождественна убытку оппонента» (“Each power viewed another’s loss as its own gain” [22, p. 70]); ср. также: «Есть несколько причин, по которым можно утверждать, что надежность альянса в биполярной системе выше, чем в многополярной» (“There are several reasons why it will be argued that alliance reliability is greater in the bipolar system than it is in the multipolar one…” [9, p. 702])). Впрочем, до тех пор, пока глобальное неравенство будет усиливаться, структура международной среды будет все более иерархичной, ступеней в этой иерархии будет все больше, а ведущие державы будут все интенсивнее стремиться утвердить на практике свое доминирующее положение. Открыто декларировать стремление к построению миропорядка с единственным центром принятия решений, как в древнем Риме [20, p. 61–65], никто из нынешних супердержав не будет, но практика, как правило, сильно расходится с теорией.
Действительно, если бы в мире действовали сотни, а то и тысячи равных по влиянию субъектов международных отношений, то мир погрузился бы в хаос, ни один вопрос международной повестки дня не мог бы быть решен, и единственным выходом из такого положения была бы иерархизация структуры международной среды.
Фактически, рассуждая о многополярности, никто из серьезных политиков и не стремится низвести возможности более могущественных государств до уровня наименее развитых. Речь в настоящее время идет, конечно, только о том, чтобы трансформировать международную среду, лишив ее гегемонии одного игрока, а именно США и их союзников. Однако никакие форумы, никакие документы – концепции, меморандумы и пр. не могут сами по себе менять структуру международной среды. Изменить ее можно лишь меняя внутренний потенциал ее узловых участников. Концепция искусственного формирования многополярности, создания многополярного мира с помощью норм и институтов является утопией , каковой ранее являлись Священный союз, глобальный мир пролетарской солидарности или иные конструкции вроде «международной системы единичного вето» (“Unit Veto International System”) [17, p. 57–58].