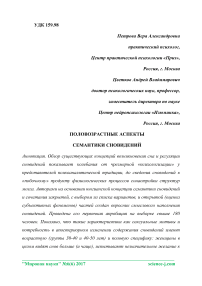Половозрастные аспекты семантики сновидений
Автор: Петрова В.А., Цветков А.В.
Журнал: Мировая наука @science-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 6 (6), 2017 года.
Бесплатный доступ
Обзор существующих концепций возникновения сна и регуляции сновидений показывает колебания от чрезмерной «психологизации» у представителей психоаналитической традиции, до сведения сновидений к «побочному» продукту физиологических процессов сонастройки структур мозга. Авторами на основании юнгианской концепции семантики сновидений и сочетания закрытой, с выбором из списка вариантов, и открытой (оценка субъективных феноменов) частей создан опросник смыслового наполнения сновидений. Проведена его первичная апробация на выборке свыше 180 человек. Показано, что такие характеристики как сексуальные мотивы и потребность в апостериорном изменении содержания сновидений имеют возрастную (группы 30-40 и 40-50 лет) и половую специфику: женщины в целом видят снов больше (и чаще), испытывают незначительное желание к их сюжетной редакции и проявляют стабильно высокий интерес к сексу во сне. В это же время мужчины демонстрируют рост как интереса к сексу, так и стремления к редакции содержания сна с возрастом.
Сновидения, психотерапия, семантика, опросник
Короткий адрес: https://sciup.org/140262874
IDR: 140262874
Текст научной статьи Половозрастные аспекты семантики сновидений
Классические теории происхождения сна связаны в основном с их физиологической основой, не затрагивая по сути роль сновидений как компонента психики.
Так, в начале ХХ в. конкурировали теория «центра сна» фон Экономо и гипотеза «разлитого торможения коры» И.П. Павлова [5].
К настоящему моменту эти взгляды объединены в энергетическо-компенсаторную теорию, полагающую, что активация передней гипоталамической зоны или «центра» сна находится под реципрокным тормозящим влиянием коры мозга, которое ослабевает по мере утомления [3].
Примыкает по сути к этим концепциям и информационная теория сна, полагающая, что засыпание связано с ослабеванием сенсорного потока, активирующего ретикулярную формацию [9]. В свою очередь, количество ощущений снижается ввиду «переполнения» высших психических функций информацией и отказом субъекта от дальнейшего поиска ощущений из-за этого.
Предположение З. Фрейда [цит. по 2] об «исполнении желаний» в сновидениях нашло неожиданную нейрофизиологическую поддержку в виде открытия «разобщения» контролирующих областей коры (главным образом, префронтальных) и лимбической системы [цит. по 6]. Правда, трактовка данного феномена сильно различается. Скажем, А. Хобсон [цит. по 7] полагает сновидения «побочным продуктом» гиперсинхронизации определенных нейронных ансамблей в зрительной коре и лимбической системе. Функция такой гиперсинхронизации – облегчение проведения информации, формирование т.н. когерентности (фазовой согласованности) работы разноуровневых мозговых структур. Правда, остается неясным, отчего: а) содержание снов часто имеет глубокую личностную значимость; б) почему из гиперсинхронизации исключена лобная кора, составляющая с лимбической системой и ретикулярной формацией единый контур регуляции. Противоположное воззрение у Ф. Крика и Г. Митчисона [цит. по 10], относящих сновидения к следствиям «зачистки» ненужных нейронных связей, «разобучению». Это должно было бы привести к возникновению в снах большого количества «странных» образов и эмоций, основанных на «паразитных» или неадекватных связях нейронных ансамблей. Однако опыт электрофизиологической фиксации быстрого сна как у животных, так и у людей (у последних – в сочетании с самоотчетом о содержании сновидений) показало, что подавляющее большинство снов по смыслу являются проигрыванием или моделирование повседневных событий. К примеру, у собак и крыс отмечалась параллельная активация центров голода и сенсомоторной коры, с внешними движениями в виде элементов пищедобывательного поведения.
Из этого, по мнению С. Левеллина [8], следует роль сна в закреплении «нужных» следов памяти, а вовсе не отбраковке «дефектных энграмм»: категоризация и кодировка, по мнению автора, происходят в бодрствовании, а перевод из краткосрочной памяти в долгосрочные процедурные и семантические хранилища – во сне.
При этом нельзя не отметить, что, если на начальном этапе изучения сна и сновидений превалировала избыточная «психологизация» (в особенности, психоаналитическая), то современные теории пытаются обойтись без личности как управляющей инстанции сна [1].
Исходя из этого, была предпринята попытка создания полу-стандартизованного опросника или анкеты, способной проверить встречаемость тех или иных символических феноменов в разных социальнодемографических стратах. С одной стороны, частичная стандартизация в сочетании с контент-анализом индивидуальных ответов на «открытые» вопросы позволяет быстро и с небольшими материальными затратами на фронтальный опрос выявить социо-культурные особенности превалирующих сюжетов сновидений. В дальнейшем эти, обусловленные влиянием общества, феномены можно смело «отсекать» от физиологических явлений, общих для большинства высших животных. С другой стороны, возможность соотнесения тех или иных мотивов в сюжете сновидений с физиологическими изменениями в организме респондентов (возраст, хронические заболевания и т.д.) служит целям доказательства двойственной, социально-биологической, детерминации поведения человека.
Поэтому наибольший интерес с позиции авторов данной работы, представляют лица двух возрастных групп - от 30 до 40 лет и от 40 до 50 лет, с делением групп по полу. В социальном плане эти два десятилетия не имеют кардинальных отличий, в концепции Э. Эриксона они объединены как «средняя зрелость» с задачей борьбы за самоуважение и признание компетентности. А вот с позиций биологии развития, 40 лет - четкий рубеж инволюционных процессов, т.е. старения.
Методически для отбора перечня «стандартных» символов использовалось исследование Дж. Холла, юнгианского аналитика [4].
На этом основании был сформулирован 31 вопрос, касающийся как событийной так и эмоциональной канвы сновидения. Все возможные варианты ответов были сгруппированы по шкалам. Т.к. одна и та же группа символов (например, места происходящих событий) могут в традициях аналитической психологии трактоваться весьма различным образом, то в шкалы объединялись конкретные версии ответов, а не вопросы.
Были выделены следующие шкалы или семантические группы символов: временные (настоящее, прошлое, будущее), отражающие ориентацию клиента на решения реальных или мнимых (имевших место ранее или предполагаемых в будущем) проблем; активность субъекта (героя) сновидения; комфорт происходящего, характеризующий «ресурсность» сновидения для личности; агрессия; тревожно-фобические симптомы; стремление к трансформации (изменению себя или событийной канвы) как показатель выраженности «фантазийной» стратегии совладания со стрессом; поиск помощи (признание бессилия перед событиями реальной жизни); сексуальные мотивы; само удовлетворенность (удовлетворенность текущим состоянием своей личности).
Поскольку уравнять число пунктов в каждой шкале не представлялось возможным из-за использования заранее заданного (работой Дж. Холла) перечня символов, то после подсчета «сырых» баллов осуществляется перевод их в процентную шкалу путем деления числа полученных баллов на максимальное возможное число по шкале (т.е. по баллу за все перечисленные пункты), с умножемнием результата на 100%.
При первичной апробации опросника с привлечением слушателей курсов повышения квалификации для практикующих психологов было отмечено, что далеко не все присутствовавшие в реальных сновидениях события охватываются данным перечнем. В связи с большим разбросом семантических групп при контент-анализе описаний собственных снов слушателей было принято решение о включении «открытой» (второй) части в опросник.
В этой части респондентов просили припомнить пять объектов (включая людей) и пять действий, встретившихся им во сне и оценить каждый стимул по семибалльной шкале по трем параметрам: опасность, интерес и «победа» (достижение субъективно позитивного результата). Эти параметры были выделены контент-аналитически как наиболее частотные.
Для валидизации обеих частей опросника проводился набор респондентов случайным методом, с использованием электронных анкет по всей территории РФ. Общее количество респондентов, которым было предложено участие – 220. Общее количество полностью заполненных анкет 182. Количество частично заполненных анкет – 5, количество незаполненных анкет – 33. Частично заполненные анкеты – все от мужчин, в аналитическую базу данных не включались, их общий процент (менее 20%) в пределах общих значений отказов в рамках проведения социологических и психологических исследований. В связи с соответствием с общими значениями, данный фактор не требует дополнительного анализа.
Исследуемые возрастные группы представлены 80 анкетами, из них 38 мужчин и 42 женщины, с равным число респондентов по возрастам.
Опираясь на богатый опыт психодинамических клинических описаний снов как терапевтического инструмента, в первую очередь при анализе результатов фокусировались на двух группах мотивов: либидозных и стремлении к изменению сюжета сна как показателе компенсаторной символической переработки повседневного опыта.
Сексуальные мотивы в сновидениях имеют возрастные различия: так, при анализе двух групп эпохи зрелости, 30-40 и 40-50 лет: наличие сексуального опыта в снах увеличивается с 60% в первой возрастной группе до 85% во второй.
Это, в частности, может быть связано с физиологическим старением и началом климатерических изменений, когда на фоне сокращения функциональных возможностей организма либидиозная энергия все больше отреагируется альтернативно – через эротику, сновидения, творчество.
Все мужчины в возрасте 40-50 лет ответили положительно относительно сексуального опыта в сновидениях, по сравнению с 50% мужской половину выборки 30-40 лет. У женщин динамика более плавная, при «высоком старте»: в младшей возрастной подгруппе 70% опрошенных признавали сексуальные мотивы сновидений, в старшей – около 75%.
Что интересно, мужчины в 30-40 по большей части не склонны что-либо менять в своих сновидениях (37,5% «не хотели бы ничего менять», еще 25% считают изменения невозможными), в то время как в 40-50 лет 60% респондетов мужского пола хотели бы что-то изменить (из них 20% «многое»). У женщин распределение ответов на этот вопрос с возрастом не меняется.
Данный перелом совпадает с кризисом среднего возраста у мужчин, а происходящие личностные и психические изменения, вероятно, компенсаторно «перерабатываются» в сновидческой продукции.
Женщины видят сны чаще по сравнению с общей группой. При этом их сны не столь подвержены трансформациям с возрастом – существенные изменения содержания наступают только в возрасте 70-80 лет.
Подводя итоги работы , следует отметить, что даже предварительные результаты показывают двойственную, социо-биологическую природу сновидений: с одной стороны, существенное влияние оказывает гормональный статус лиц среднего возраста, с другой – у женщин, чье переживание климакса считается более острым и физиологически заметным, не происходит сколько-нибудь существенного изменения семантики снов.
Это позволяет говорить о биологических изменениях как контексте, но не детерминанте развития личности.
Список литературы Половозрастные аспекты семантики сновидений
- Вейн, А.М. Сон - тайны и парадоксы. - М.: Эйдос Медиа - 2003. - 63 с.
- Ковальзон, В. М. Основы сомнологии: физиология и нейрохимия цикла бодрствование-сон. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 239 с.
- Пигарев И.Н. Висцеральная теория сна // Журнал высшей нервной деятельности. - 2013. - том 63, № 1. - С. 86-104.
- Холл Джеймс А. Юнгианское толкование сновидений. - С-Пб.: БСК, 1996. - 168с.
- Шпорк П. Сон. Почему мы спим и как нам это лучше всего удается / пер. с нем.; под ред. В. М. Ковальзона. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.- 234 с.
- Guang Y., Cora S.W., Joseph C. et al. Sleep promotes branch-specific formation of dendritic spines after learning // Science. - 2014. - V.344 (6188). - P.1173-1178.
- Hoss J Robert. The Neuropsychology of Dreaming: Studies and Observations. - NY, 2013. - P.18
- Llewellyn, S. Such stuff as dreams are made on? Elaborative encoding, the ancient art of memory, and the hippocampus // Behavioral and Brain Sciences. - 2013. - V.36. - P.589-607.
- Lim M.M., Szymusiak R. Neurobiology of arousal and sleep: updates and insights into neurological disorders // Curr. Sleep Med. Rep. - 2015. - V. l. - P. 91-100.
- Murillo-Rodríguez E, Arias-Carrión O, Abraham Zavala-García et al. Basic Sleep Mechanisms: An Integrative Review // Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry. - 2012. - V.12. - P.38-54.