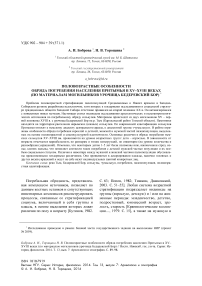Половозрастные особенности обряда погребения населения Притымья в XV-XVIII веках (по материалам могильников урочища Бедеревский бор)
Автор: Боброва Анна Ивановна, Торощина Наталья Витальевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Археология Евразии
Статья в выпуске: 7 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Проблема половозрастной стратификации палеопопуляций Средневековья и Нового времени в Западно-Сибирском регионе разработана недостаточно, хотя интерес к гендерными исследованиям и социальной структуре традиционных обществ Западной Сибири отчетливо проявился во второй половине XX в. Он активизировался с появлением новых методов. Настоящая статья посвящена исследованию археологических и палеоантропологических источников по погребальному обряду селькупов. Материалы происходят из двух могильников XV - первой половины XVIII в. с урочища Бедеревский Бор на р. Тым (Каргасокский район Томской области). Памятники находятся на территории расселения нарымских (южных) селькупов. По современной классификации селькупов Притымья относят к тымскому диалекту центрального ареала, к диалектной группе «чумылькуп». В работе отражены особенности обряда погребения взрослой и детской, женской и мужской частей палеопопуляции, выделенных на основе половозрастной и социокультурной идентичности. Основные различия в обряде погребения тымских селькупов XV-XVIII вв. проявляются на уровне возрастных групп: дети - взрослые. В зависимости от возраста отмечается вариабельность по размерам и типам конструкций, по инвентарю (на уровне количества и разнообразия украшений). Отмечено, что некоторым детям 1-5 лет были положены нож, наконечники стрел, копье, клинок пальмы, что позволяет соотнести такие погребения с детской мужской частью популяции и их особым социальным статусом. Различия в инвентаре между мужской и женской частями палеопопуляции обусловлены прижизненными гендерными различиями. Они проявляются в декорировании одежды, наличии головных и других видов украшений и несут на себе налет индивидуальных занятий конкретных лиц.
Река тым, бедеревский бор, селькупы, чумылькуп, погребение, палеопопуляция, половозрастная идентификация
Короткий адрес: https://sciup.org/147219153
IDR: 147219153 | УДК: 902
Текст научной статьи Половозрастные особенности обряда погребения населения Притымья в XV-XVIII веках (по материалам могильников урочища Бедеревский бор)
Погребальная обрядность, представленная комплексом источников, позволяет по данным костных останков и сопутствующих инвентарных комплексов реконструировать процессы, связанные со стратификацией социума, включающей в себя группы и классы, в основе выделения которых лежат различия по полу и возрасту [Бутинов, 1982.
С. 63; Попов, 1982; Тишкин, Дашковский, 2003. С. 51–55]. Любая система возрастной стратификации подразделяет индивиды на группы (взрослую, детскую) и / или на жизненные периоды: младенчество, детство, подростковый, юношеский возраст, зрелость, старость [Краниологические коллекции…, 1979. С. 15], а также на мужскую и
∗ Исследование проведено в рамках базовой части
№ 2059).
государственного задания на выполнение НИР (проект
Боброва А. И. , Торощина Н. В. Половозрастные особенности обряда погребения населения Притымья в XV– XVIII веках (по материалам могильников урочища Бедеревский Бор) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 7: Археология и этнография. С. 89–98.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 7: Археология и этнография
женскую части палеопопуляции реконструируемой культуры. Эти группы находят отражение в погребальной символике, сохраняя основные статусные характеристики покойных в социальной структуре.
Археологические материалы XV – первой половины XVIII в., используемые в статье, являются результатом многолетних раскопок двух могильников в урочище Бедеревский Бор в Каргасокском районе Томской области на левом берегу р. Могильная Акка, справа впадающей в р. Тым (правый приток Оби). Они представляют собой полноценный источник для реконструкции этнокультурных процессов в регионе, объективно отражающий этапы формирования местного населения. Без них невозможно обращение к палеодемографии социума и социокультурной идентификации отдельных его групп. Исследования базируются на определениях пола и возраста, выполненных специалистами-антропологами, а также анализе состава инвентаря и особенностей погребальных сооружений, сопутствующих разным категориям населения. Недостаточная разработанность проблем половозрастной стратификации по погребальным комплексам XV – первой половины XVIII в. делает обращение к данной теме актуальным.
Цель исследования – выявить особенности обряда погребения, связанные с социокультурной идентификацией притымского населения в позднем Средневековье – Новом времени. Задачи исследования – дать характеристику источниковой базы, описать погребальный обряд населения, выявить половозрастные особенности конкретной палеопопуляции.
Могильники в урочище Бедеревский Бор находятся на северо-восточной окраине территории расселения нарымских селькупов, известных в дореволюционных источниках под именем «остяко-самоедов». Среди них исследователи выделяют северный, центральный и южный диалектные ареалы. Согласно данной классификации, селькупов Притымья относят к тымскому диалекту центрального ареала, к диалектной группе «чумылькуп» [Тучкова и др., 2011. С. 50, 52]. На их землях в XVII в. была образована Тымская (1 половина) инородческая волость, которая административно относилась к Сургутскому уезду. В конце 1701 г., после разделения ее на две части, население Приты-мья вошло в Нарымский уезд [Долгих, 1960.
С. 84–85]. Проживание предков селькупов на северо-востоке Нарымского Приобья подтверждается данными топонимики [Дульзон, 1950] и антропологическими материалами [Багашёв, 2002. С. 90–103].
Исследования в Притымье были начаты в конце 1930-х гг. П. И. Кутафьевым, который является не только первооткрывателем археологических древностей Севера Томской области, но и тем исследователем, кто впервые произвел раскопки на позднесредневековых могильниках, а также собрал этнографический материал, в том числе, по погребальному обряду тымских селькупов.
Им был открыт и частично исследован могильник Бедеревский Бор I, на котором, из четырех раскопанных впадин, две оказались могилами и содержали костные останки и инвентарь. П. И. Кутафьев определил относительную «давность» захоронений, сделав вывод о функционировании могильника на протяжении ряда поколений, обратил внимание на общность погребальных конструкций, характерных для «нарымских культур» в целом 1. Материалы с Бедеревского Бора I были опубликованы А. П. Дульзоном, который отнес их к XV– XVI вв.; Л. А. Чиндина на основании керамического комплекса датировала могильник первой четвертью II тыс. н. э.; хронология памятника в пределах XIV–XVII вв. позднее была уточнена А. И. Бобровой по результатам раскопок 17 могил [Дульзон, 1956, Т. 5. С. 233; Чиндина, 1977. С. 135–136]. Таким образом, всего на Бедеревском Бору I было вскрыто 19 могил. Общее количество индивидов в них составило 19, причем в одном случае останки не были обнаружены, в другом зафиксировано захоронение двух мужчин 40 и 18–20 лет. Антропологические определения сделаны для 15, среди которых 9 взрослых мужчин, 1 женщина, 2 юношей, 1 девушка и 2 ребенка в возрасте до 7 лет 2.
Могильник Бедеревский Бор II был обнаружен в 1974 г. Н. М. Зиняковым. Памятник находится в 0,2 км к северо-востоку от Бе-деревского Бора I и расположен на более высокой террасе того же берега р. Могильная Акка. Н. М. Зиняков вскрыл одну моги- лу 3 . В 1989–1991 гг. работы продолжила А. И. Боброва. В итоге на памятнике вскрыта 51 могила XVI–XVIII вв. Пол и возраст установлены для 46 индивидов: среди них 28 взрослых (16 муж., 12 жен.), 18 детских, включая юношей и девушек (в двух могилах отмечены коллективные захоронения – взрослый и ребенок, взрослый и юноша). Две могилы, не содержавшие костных останков, по размерам конструкций условно отнесены к детским. Таким образом, в общей сложности на двух могильниках были получены данные из 70 могил, включая коллективные. Объединенная краниологическая серия содержит сведения по 61 индивиду: 38 – это взрослое население (25 муж., 13 жен.) и 23 – дети. В девяти случаях пол и возраст не определены.
По способу захоронения относительно уровня горизонта оба могильника относятся к грунтовым. В современном рельефе объекты различаются в виде овальных и подпрямоугольных впадин, образуя ряды вдоль кромки берега.
На Бедеревском Бору I взрослые и дети были похоронены на общем могильном поле, причем детей хоронили рядом со взрослыми в индивидуальных могилах. На Бедеревском Бору II на начальном этапе функционирования детей хоронили также, но на завершающем этапе для них в северной части могильного поля был отведен специальный участок. По внешним контурам впадин различаются могилы малых и больших размеров (от 1,1 × 0,4 до 3,3 × 1,35 м). Они отражают возрастные особенности и связаны с ростом похороненных лиц – максимальные размеры преобладали в погребениях мужчин. Малые размеры обычны для детских погребений в биологическом возрасте Infantilis I (от прорезывания зубов до 6–7 лет). На могильнике Бедеревский Бор II эта тенденция прослежена, как на захоронениях, совершенных по обряду повторных похорон, так и на тех, где анатомический порядок не был нарушен. Умерших хоронили в ямах глубиной от 0,2 до 1,5 м. Выявлена определенная зависимость глубины могильной ямы от возраста и пола индивида: максимальная отмечена при погребении взрослых мужчин, минимальная – детей.
На могильнике Бедеревский Бор I практиковалась ингумация: тело укладывали вы- тянуто на спине, с руками, расположенными вдоль туловища, головой на юг (с отклонением к ЮЮЗ), вниз по течению р. Тым. Существовал обычай хоронить покойных ярусами, одного над другим, с использованием имеющейся могильной ямы, не нарушая целостности останков предыдущего погребенного. На могильнике Бедеревский Бор II практиковался обряд повторных похорон, но и ингумированные погребения с непотревоженными останками в небольшом количестве присутствовали на общем могильном поле. Независимо от состояния останков, тех и других укладывали головой на юг, вниз по течению р. Тым, но с отклонением к ЮЮВ.
Захоронения носили преимущественно индивидуальный характер, и только в двух случаях на могильнике Бедеревский Бор II зафиксированы коллективные (по два человека), когда в общем погребальном сооружении были похоронены мужчина 18 лет и ребенок до года, а также женщина 50–60 и мальчик (?) 10–12 лет. В том же могильнике есть случаи подхоранивания в общую могильную яму с нарушением костей скелета предшествующего погребенного. Подзахоронение произведено при погребении женщин 50–60 и 25 лет; мужчин 30–40 и 50–60 лет; ребенка 8–10 и мужчины 30 лет. В одном случае, возможно, при повторном характере погребения, юноша 16–18 лет был под-хоронен в могилу мужчины 50 лет. В одном из погребений могильника Бедеревский Бор I ребенок 3–5 лет был подхоронен к мужчине 40 лет.
На дне могил устанавливали домовину – погребальные конструкции из дерева и бересты. Различаются простые и сложные. Первые представляли собой ящики из плах или жердей, берестяные тиски. Обычно их использовали при погребении детей в возрасте Infantilis I. В сложных сооружениях, имевших внешнюю (сруб в два венца, рама-обкладка) и внутреннюю (долбленые колода и лодка, ящик из плах) камеры, хоронили взрослую часть палеопопуляции. Мужчин, как правило, укладывали в долбленых лодках и колодах, а женщин в бревенчатых рамах и редко – в половине лодки. Внутри-могильные конструкции в группе детей Infantilis II по размерам и конструкциям приближаются к группе взрослых и представлены половиной лодки, долблеными колодами. Последние использовали также при единовременном погребении взрослого с ребенком. В обеих возрастных группах практиковались обертывание тела в берестяное полотнище, застилание дна сооружения и перекрытия берестой.
В целом, материалы из могильников с урочища Бедеревский Бор позволяют проследить эволюцию обряда погребения. Традиционными для этого времени и почти не претерпевшими изменения можно считать следующие структурные элементы: пространственная организация некрополей (приуроченность к краю террасы малой реки); рядность в расположении могил; ориентация покойных головой на юг, вниз по течению р. Тым; использование общего могильного поля при погребении разновозрастных групп; общие типы внешних погребальных камер (бревенчатые рамы-обкладки); использование бересты; снабжение инвентарем; наличие предметов шаманской атрибутики; отсутствие христианских символов веры. Все эти признаки обряда были характерны для селькупского этноса XV–XVIII вв. Наряду с отмеченными общими чертами, наблюдаются и различия, объясняемые хронологией конкретных погребений. Так, к началу XVII в. на могильнике Бедеревский Бор II нашли отражение новые тенденции. Они проявляются в выделении специального места для захоронения детей. У взрослой части палеопопуляции – в повторном способе погребения; в появлении жердевых перекрытий над могилами и новых типов внутренних камер (лодок-долбленок); переориентации головы покойного с юго-западного на юго-восточное направление. По этим признакам обнаруживается близость с обрядом средневекового населения Сургутского Приобья, что, вероятно, отражает общность исторических судеб притымского населения, территориально входившего в Сургутский уезд до 1701 г.
Сопутствующий инвентарь, его специфика, количественный и качественный состав являются важными маркерами статус-ности погребенного и могут определяться существовавшими в средневековом обществе гендерными стереотипами. Появление в могилах XVII в., наряду с предметами вооружения, шаманского культа, статусных предметов массового русского привоза, можно рассматривать в контексте социальной идентичности их обладателей на фоне обычной картины в сопутствующем инвентаре основной массы погребенных.
Рассмотрим по возрастным характеристикам группы детской и взрослой частей палеопопуляции. Группа детей, биологический возраст которых определяется от раннего детства до 22 лет, характеризуется наибольшим разнообразием в обряде и инвентаре. Присутствие детских останков различных возрастных периодов позволяет провести исследования в области возрастной антропологии, что особенно важно при рассмотрении категорий разных стадий детского и подросткового периодов. По-видимому, вариабельность обряда отражала переход ребенка на очередную возрастную ступень.
Смертность детей в раннем возрастном периоде (в последние месяцы внутриутробного развития и первые десять дней после рождения) при антропологических определениях редко дифференцируется. Таких детей обычно относят к группе «новорожденные» или «ребенок до года». Подобных погребений в могильниках с урочища Беде-ревский Бор не зафиксировано. Однако археологические материалы из других могильников Нарымского Приобья XV–XVIII вв. (Тискинский, Барклай, Мигалка) свидетельствуют о том, что традиция погребения матери с мертворожденным ребенком у предков нарымских селькупов существовала [Чиндина, 1995. С. 186]. С введением христианской похоронной обрядности детей последних месяцев внутриутробного развития и новорожденных полагалось хоронить на общих кладбищах, но в отдельных могилах 4.
Особое отношение к этой категории социума подтверждается этнографическими данными. Селькупы (северные и нарым-ские) хоронили мертворожденных и детей, умерших до появления зубов, в дуплах деревьев или пнях, далеко от мест, посещаемых людьми: мальчиков – в стволах лиственницы, девочек – в стволах кедра. В 1971 г. такие захоронения у тазовских селькупов еще наблюдал И. Н. Гемуев [1980. С. 127, 133–135]. Ненцы и манси, заворачивая тело в кусок бересты, шкуру или ткань, поступали аналогичным способом. У северных манси для детей этого возраста существовали отдельные кладбища, но иногда их хоронили в стороне от обычного кладбища, а восточные ханты могли похоронить таких де- тей на отдельном кладбище, а иногда в одной могиле с взрослыми [Хомич, 1988. С. 75; Федорова, 1988. С. 92–93; Кулемзин, 1976. С. 28]. Наличие или отсутствие зубов у детей служило у кетов дифференцирующим признаком двух разных способов погребения в случае смерти ребенка. Выкидыши и новорожденных младенцев помещали в пне срубленного дерева, с появлением зубов детей хоронили в земле, как и взрослых, поблизости от их могил [Алексеенко, 1988. С. 13–14]. Не исключено, что и селькупы Притымья до появления христианской обрядности хоронили детей, скончавшихся в раннем возрастном периоде, иначе, чем детей старшего возраста и взрослых.
Появление зубов у ребенка маркировало его переход в очередную возрастную группу (группа Infantilis I). C этого времени он считался полноправным членом коллектива, и в случае смерти его хоронили на общем кладбище. На могильнике Бедеревский Бор II таких погребений (от 0,5 до 1–3 лет), предположительно выделено четыре. Погребения детей в возрасте нейтрального детства (1–5 лет) и 5–7 лет из могильников с урочища Бедеревский Бор, из-за слабой дифференцированности, объединены в общую подгруппу, соотносящуюся с Infantilis I. Она представлена 14 (?) могилами, в которых наблюдается определенная зависимость инвентаря от возраста. Детей 1–2 лет хоронили с серьгами-подвесками с большим диаметром колец, литыми шаровидными подвесками и крестовидными накладками, стеклянными бусами. Комплект одежды и украшений трехлетних детей включал медные пронизи, 2-, 3-частные накладки. У детей 4–5 лет в инвентаре присутствовали штампованные 4-частные накладки и лун-ницы, железные застежки кольцевидной и восьмерковидной форм. В отдельных случаях с детьми 1–2 лет клали ножи, посуду (бронзовый котел), железные наконечники стрел. Эти погребения выделялись богатством украшений в виде арочных и колесовидных подвесок из цветных металлов, бус, бисера, что свидетельствует об их особом прижизненном социальном статусе.
К возрастной группе 8 – 13–17 лет (возраст второго детства и подростковый) на могильнике Бедеревский Бор II относятся 5 погребений. Погребальные конструкции приближаются по размерам к взрослым (от 1,8 × 0,4 до 2,3 × 0,9 м), превышая таковые у детей Infantilis I. Внутренняя камера в виде половины долбленой лодки отмечена в двух случаях. В инвентаре присутствуют железные наконечники стрел, копье, клинок пальмы. Набор украшений включает перстни-печатки, серьги-подвески «знак вопроса» обычных размеров, нарядные пояса, расшитые медными накладками, с подвесками различной формы. Для этой возрастной группы в двух погребениях могильника Бедерев-ский Бор II половая идентификация определена В. А. Дремовым и Г. А. Аксяновой. «Вероятно, девочка 7-9 лет» похоронена с набором железных наконечников стрел, «мальчик 10–12 лет» (могила 54) – с серьгами, наперстком, костяным гребнем, тканым поясом с подвесками и накладками. Набор предметов с этим ребенком по этнографическим данным символизирует женское начало (наперсток относится к атрибутам рукоделия), наконечники же стрел обычно маркируют мужские захоронения. Выявленное противоречие и очевидное несоответствие инвентаря в двух этих могилах, возможно, объясняется предположительным определением пола, объективно установить который в данном возрасте крайне сложно. Поэтому, вполне вероятно, что с женщиной 50–60 лет была похоронена девочка-подросток, а не мальчик, как определено по костным останкам. Дополнительным аргументом в пользу такого утверждения может служить наличие пояса, аналогичного женским поясам из могильника Мигалка [Чиндина, 1995. С. 183– 187] и поясу селькупской шаманки из с. Кана-нак с р. Тым.
В соответствии с традицией к 15–16 годам юноши и девушки в селькупском обществе получали основные производственные и хозяйственные навыки, усваивали основные нормы общественной и семейной жизни, необходимые для самостоятельной жизни. К 13–14 годам селькупская девочка обладала минимумом хозяйственных знаний и навыков и самостоятельно могла вести дом, а юноши с этого возраста могли вступать в брак [Гемуев, 1980. С. 107, 113–114]. Обряд захоронения подтверждает прижизненные установки и отношение к лицам этого возраста взрослого населения.
В юношеском возрасте (16–21–22 года) на обоих могильниках похоронено 8 чел.: четверо юношей и одна девушка (могильник II); двое юношей и одна девушка (могильник I). По погребальным конструкциям и инвента- рю эта группа мало отличается от взрослой части палеопопуляции. По богатству и неординарности предметного комплекса выделяются лишь погребения двух мужчин юношеского возраста (Бедеревский Бор II). Один похоронен с предметами шаманского культа и в шаманском облачении, другой – в праздничной одежде с оружием. На том же могильнике одно из захоронений, в котором юноша был похоронен в общей могиле с мужчиной 50 лет, было безынвен-тарным. Отмеченные различия в обряде погребения связаны с социальным статусом покойных, а преобладание смертности мужской части над женской объясняется вступлением юношей на новую социальную ступень, связанную как с производственной сферой, так и возможным участием в боевых действиях в XV–XVII вв.
Большую часть палеопопуляции составляет взрослое население от 22 до 60 лет. Мужская ее часть включает 25 лиц в возрасте от 20 до 30 лет (7 чел.), 30–40 лет (9 чел.), 40–50 лет (8 чел.), 50–60 лет (1 чел.). Из них на могильнике Бедеревский Бор I захоронено 9 чел., на Бедеревском Бору II – 16 чел. Погребальный обряд этой группы характеризуется наличием жердевых перекрытий над могильными ямами, разнообразием внутримогильных конструкций (лодки-долбленки, колоды, бревенчатые рамы-обкладки). Мужчин чаще, чем женщин, хоронили в лодках-долбленках. Соответственно, размеры их внешних камер имели б о льшие размеры. Захоронения в долбленых колодах – также показатель принадлежности к мужским погребениям и, вероятно, связан с основным видом хозяйственной деятельности этой группы взрослого населения – рыболовством.
На могильнике Бедеревский Бор I, хронологически более раннем, практиковался обряд ингумации (положение в анатомическом порядке), на Бедеревском Бору II преобладал обряд повторных похорон. Инвентарный комплекс мужских захоронений довольно беден, за исключением отдельных статусных. Стандартный набор представлен бытовыми предметами (ножи) и орудиями охоты (железные и костяные наконечники стрел). Судя по остаткам фурнитуры (железные и бронзовые кольца, пряжки – поясные и для обуви), покойных хоронили в повседневной одежде, поскольку украшения (серьги-подвески «знак вопроса», подвески
«крыжовник», накладки) встречались довольно редко. Лица старческого возраста и близкие к рубежу 50–60-летнего возраста похоронены с минимальным количеством инвентаря. Специфические признаки обряда отмечены среди мужского населения в возрасте 22–25–50 лет. На могильнике I это череп медведя, оставленный на могиле, железные наконечники стрел, воткнутые в могилу. На могильнике Бедеревский Бор II – погребение в сопровождении собаки, с шаманскими подвесками «шекты», с антропоморфными личинами и куклой [Боброва, Торощина, 2013].
Женская часть популяции в возрасте от 20 до 60 лет представлена 13 могилами: на могильнике Бедеревский Бор I – 1 чел., на могильнике Бедеревский Бор II – 12 чел. Возраст определен для лиц от 20 до 30 лет (4 чел.), 30–40 лет (4 чел.), 50–60 лет (2 чел.). Треть могильных ям в погребениях женщин, как и у мужчин, была перекрыта жердевыми настилами. Внутримогильные конструкции в их группе отличаются большим разнообразием по сравнению с группой мужчин. Они представлены сооружениями в виде ящиков из плах, срубами в 1–2 венца, бревенчатыми рамами-обкладками трапециевидной формы, половиной долбленой лодки, нижней частью колоды. Стандартный набор инвентаря включал предметы быта и украшения. Практически в каждом погребении присутствовал нож и довольно редко, но встречались железные наконечники стрел. В женской группе различались украшения головы (головной убор, серьги), шейные и нагрудные (бусы, бисер), наручные (перстни, браслеты) и поясные (накладки, подвески). Судя по этим материалам, у селькупов р. Тым было принято хоронить женщин в праздничной, возможно, погребальной одежде.
Таким образом, основные различия в обряде погребения тымских селькупов XV– XVIII вв., прежде всего, зафиксированы на уровне возрастных групп: дети – взрослые. Анализ распределения материалов по возрастным категориям среди детской части палеопопуляции свидетельствует об отсутствии погребенных детей последних месяцев внутриутробного развития (результат выкидыша, смерти при родах) и смерти в первые 10 дней после рождения (новорожденные). В группе детских в зависимости от возраста отмечается вариабельность по размерам и типам погребальных конструкций, по глубине могил, по сопроводительному инвентарю. Отличия проявляются на уровне количества и разнообразия украшений. Кроме того, следует отметить, что некоторым детям в возрасте 1–5 лет, как и взрослым, могли положить нож, железные наконечники стрел, копий, клинок пальмы. Подобные находки позволяют соотнести такие погребения с детской мужской частью популяции и особым социальным статусом этих детей. Различия в инвентаре между мужской и женской частями палеопопуляции обусловлены прижизненными гендерными различиями и наиболее ярко проявляются в декорировании одежды, наличии головных, наручных, поясных украшений. Они также нашли отражение в погребальной обрядности и несут на себе налет индивидуальных занятий конкретных лиц, как мужской, так и женской части популяции.
Список литературы Половозрастные особенности обряда погребения населения Притымья в XV-XVIII веках (по материалам могильников урочища Бедеревский бор)
- Алексеенко Е. А. Ребенок и детство в культуре кетов//Традиционное воспитание детей у народов Сибири. Л.: Наука, 1988. С. 9-37.
- Багашёв А. Н. Генезис южных самодийцев по данным антропологии//Междисциплинарные исследования в археологии и этнографии. Томск: Изд-во ТГУ, 2002. С. 90-103.
- Боброва А. И., Торощина Н. В. Антропоморфные личины из могильника Бедеревский Бор II//Вестн. Томск. гос. ун-та. Серия: История. 2013. № 2 (22). С. 18-21.
- Бутинов Н. А. Половозрастная организация//СЭ. 1982. № 1. С. 63-68.
- Гемуев И. Н. К истории семьи и семейной обрядности селькупов//Этнография Северной Азии. Новосибирск: Наука, 1980. С. 86-138.
- Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 624 с.
- Дульзон А. П. Древние смены народов на территории Томской области по данным топонимики//Учен. зап. ТГПИ. Томск, 1950. Т. 6. С. 175-187.
- Дульзон А. П. Археологические памятники Томской области//Тр. ТОКМ. Томск, 1956. Т. 5. С. 89-316.
- Краниологические коллекции Кабинета антропологии Томского университета. Томск: Изд-во ТГУ, 1979. 118 с.
- Кулемзин В. М. Шаманство васюганско-ваховских хантов (конец XIX -начало XX в.)//Из истории шаманства. Томск: Изд-во ТГУ, 1976. 189 с.
- Попов В. А. Половая стратификация в этносоциологических реконструкциях первобытности. (Вместо ответа оппонентам)//СЭ. С. 68-79.
- Тишкин А. А., Дашковский П. К. Возможности проведения палеосоциальных исследований на основе археологических данных//Археология Южной Сибири. Новосибирск, 2003. С. 51-55.
- Тучкова Н.А., Глушков С.В., Кошелева Е.Ю., Головнёв А.В., Байдак А.В., Максимова Н.П. Селькупы. Очерки традиционной культуры и селькупского языка. Томск: Изд-во ТГУ, 2011. 318 с.
- Федорова Е. Г. Ребенок в традиционной мансийской семье//Традиционное воспитание детей у народов Сибири. Л.: Наука, 1988. С. 80-95.
- Хомич Л. В. Обычаи и обряды, связанные с детьми, у ненцев//Традиционное воспитание детей у народов Сибири. Л.: Наука, 1988. С. 63-79.
- Чиндина Л. А. Могильник Релка на Средней Оби. Томск: Изд-во ТГУ, 1977. 193 с.
- Чиндина Л. А. О ритуальной одежде селькупской женщины XVII века//«Моя избранница наука, наука, без которой мне не жить». Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1995.