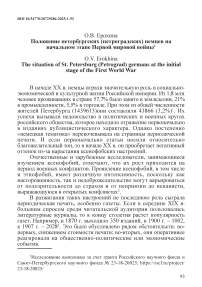Положение петербургских (Петроградских) немцев на начальном этапе Первой мировой войны
Автор: Ерохина О.В.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Россия и мир
Статья в выпуске: 1 (83), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа материалов столичных газет предпринята попытка охарактеризовать положение немецких граждан в Санкт-Петербурге (Петрограде) в начальный период Первой мировой войны. В этот период правительство и политические партии стремились использовать периодическую печать для решения социально экономических, а иногда и политических проблем. Нами были проанализированы газеты по нескольким направлениями особое внимание уделено наиболее часто встречающимся публикациям: антинемецкий погром в Санкт-Петербурге, отношение к германским подданным, положение немецких преподавателей и школ, восприятие российским обществом переименования столицы, борьба с «немецким засильем» в промышленности. В результате было установлено, что независимо от политической окраски издания в первые несколько недель негодование газет было направлено непосредственно против Германии и германцев. О немцах российских подданных упоминалось в связи с пожертвованиями для армии с их стороны, но затем тон газет становится менее благожелательным. На страницах газет рисуется облик «внутреннего немца», с которым надо бороться. Особенно заметным это явление становится после переименования столицы, когда раздаются призывы убрать всю немецкую топонимику. Затем наступила очередь немецких школ, которые являлись рассадниками антироссийских взглядов. Завершается первый период войны началом разработки «ликвидационного законодательства», высылкой немецких мастеров, инженеров, а иногда и колонистов из Петрограда вглубь страны. Однако в российском обществе не все поддерживали действия властей, но их голоса тонули в развязавшейся антинемецкой кампании.
Петербург, антинемецкая кампания, петроградские газеты, немецкое засилье, германофобия, немецкие колонисты, первая мировая война
Короткий адрес: https://sciup.org/149147718
IDR: 149147718 | DOI: 10.54770/20729286-2025-1-93
Текст научной статьи Положение петербургских (Петроградских) немцев на начальном этапе Первой мировой войны
В начале ХХ в. немцы играли значительную роль в социальноэкономической и культурной жизни Российской империи. Из 1,8 млн человек проживавших в стране 57,7% было занято в земледелии, 21% в промышленности, 5,5% в торговле. При этом из общей численности жителей Петербурга (1439613)они составляли 43866 (3,2%)1. Их успехи вызывали недовольство в политических и военных кругах российского общества, которое находило отражение первоначально в изданиях публицистического характера. Однако постепенно «немецкая тематика» перекочевывала на страницы периодической печати. И если первоначально статьи носили относительно благожелательный тон, то в начале ХХ в. он приобретает негативный оттенок из-за нарастания ксенофобских настроений.
Отечественные и зарубежные исследователи, занимающиеся изучением ксенофобий, отмечают, что их рост приходится на период военных конфликтов. Проявление ксенофобий, в том числе и этнофобий, имеет различную интенсивность, поскольку как настороженность, так и недоброжелательство могут варьироваться от подозрительности до страхов и от неприязни до ненависти, выражающуюся в открытых конфликтах2.
В разжигании таких настроений не последнюю роль сыграла периодическая печать, особенно газеты. Если в середине XIX в. большим спросом среди читательской аудитории пользовались литературные журналы, то к концу столетия растет популярность газет. Например, в 1870 г. выходило 350 изданий, в 1900 г. – 1002, к 1907 г. – 20283. Это было обусловлено рядом обстоятельств: во-первых, снижением стоимости печати; во-вторых, они оперативнее реагировали на общественно-политические или экономические события.
В результате появляется возможность использовать прессу в пропагандистских целях для формирования необходимых взглядов и установок. Д. Сатурин считал, что «пресса – могущественное оружие для выработки общественного мнения, для придания ему того или иного направления», потому что «…находится в тесной зависимости от здорового или болезненного состояния всех общественных органов и классов»4.
В этом отношении период Первой мировой войны является наиболее показательным, потому что на страницах периодической печати развернулась дискуссия о лояльности российских немцев и одновременно раздавались призывы к борьбе с «немецким засильем». Цель нашего исследования охарактеризовать положение немецких граждан в Санкт-Петербурге (Петрограде) в 1914 г.
Советские исследователи к «немецкой теме» впервые обратились в конце 1960-х годов5, но свое развитие она получит только в постсоветское время. В связи с возможностью использования новых источников, в том числе и архивных, ученые обратили внимание на рассмотрение следующих проблем: обсуждения «немецкого вопроса» в Государственной Думе, процесс разработки и реализации «ликвидационного законодательства» в 1915-1916 гг., анализ общественных настроений в стране в годы Первой Мировой войны, формировании «образа врага» в лице немцев. Но большинство этих исследований было опубликовано в сборниках научных конференций6.
Вместе с тем следует отметить, что в конце 1990-х гг. исследователи в качестве источника чаще стали привлекать периодическую печать. Это позволило им акцентировать внимание на сравнении проводимой политики центральных и местных властей, анализе применения «ликвидационных законов» в конкретных регионах, изучении немецких погромов в Санкт-Петербурге и Москве. Некоторые исследователи вышеперечисленные вопросы рассматривали исключительно по материалам газет7.
В качестве источниковой базы для нашей статьи мы использовали материалы газет, которые издавались в Санкт-Петербурге (Петрограде) в 1914 г.: «Вечернее время», «Земщина», «Санкт-Петербургские ведомости», «Петроградский курьер», «Петроградский листок», «Утро России», «Голос Руси». Кроме того, были привлечены архивные документы, хранящиеся в Российском государственном историческом архиве (ф. 821) и Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ф. 139, 253, 258).
19 июля 1914 г. Германия объявила войну России. После этого Николай II обращается с призывом к народу объединиться и отразить «как один человек, дерзкий натиск врага»8.
Начало войны естественным образом спровоцировало волну манифестаций и митингов в поддержку Сербии и осуждением Германии с Австро-Венгрией. Хотя еще 13 июля санкт-петербургским губернатором А. Адлербергом было издано постановление, запрещавшее «публичные демонстрации… всякие сходбища и сборища с целями, противными государственному порядку или общественному спокойствию»9.
Газеты, размещая информацию о них на своих страницах, отмечали социальный состав участников: рабочие, священники, мужики, студенты, курсистки, прислуга, мелкие чиновники. Правда «Русский инвалид» придерживался другой точки зрения, считая, что большинство манифестантов составляла беснующаяся молодежь10.
Французский посол М. Палеолог, наблюдавший за происходившими событиями в столице, задавался вопросом: «…в этих манифестациях, столь многолюдных и проявляющихся через такие правильные промежутки времени, какую часть надо приписать полиции»11? На третий день войны Петербург покинуло 62 члена германского посольства совместно с послом Ф. фон Пурталесом12.
В «патриотических» толпах происходило брожение ксенофобских настроений, перераставшее в немцефобию и готовое вылиться в немецкие погромы. После очередного такого митинга на Невском проспекте кто-то из «патриотов» предложил пойти к немецкому посольству, и толпа устремилась к нему. Завершился такой поход разгромом здания.
Газеты на своих страницах отмечали, что вместе с немецким посольством пострадали кафе Рейтера, аптека Штоль и Шмит, магазин Шухардта и Шютте, две колбасные, а также издательство газеты «Sankt-PeterburgischeZeitung»13. Однако в подобных «манифестациях» многие газеты видели угрозу для страны, так как считали, что в будущем они могли привести только к анархии.
Представители интеллигенции публиковали в периодической печати осуждающие статьи. По мнению С. Глинки, такие способы выражения народного гнева совершенно не приемлемы для цивилизованного общества, потому что «вымещение злобы на мирно живущих среди нас немцах» в основном свидетельствовало о нашем бессилии14.С ним был согласен И.Е. Репин, который также осуждал хулиганскую «вылазку в здание прусского посольства в Питере», потому что это указывало на глупость и невежество тех, кто в ней участвовал15.
Редактор «Вечернее время» Б.А. Суворин писал, что в редакцию поступает много жалоб на бездействие правительства в отношении немцев, которые не только продолжали вести свои дела в России, но стоят во главе многих крупнейших русских учреждений. Он считал, что правительство должно информировать о мерах, предпринимаемых правительством в отношении немецких граждан. Это могло привести к «успокоению разгоряченных умов и … содействовало бы тому, чтобы такие факты, как ужасный разгром германского посольства, не имели места»16. Газета не оправдывала действия митингующих, потому что «проявленная дикость хулиганствующей толпы произвела крайне удручающее впечатление» на общественность17.
Вместе с тем «Петроградский листок» выступил в защиту действий манифестантов. Редакция газеты видела в этом реакцию российского народа на действия германских властей в отношении Императрицы Марии Федоровны. Акцентировалось внимание на том факте, когда она пыталась на поезде проехать в Россию через Берлин, то ее не пропустили и заставили вернуться в Копенгаген18.
***
Следует отметить, что наряду с такими статьями в начальный период войны соседствовали заметки, в которых рассказывалось о возмущении «акклиматизировавшихся» немцев политикой, проводимой Германией. Они считали себя русскими подданными и хотели всеми доступными им способами доказать это. Например, владелец ресторана на Крестовском острове В.В. Мунд и главный агент страхового общества «Россия» А.А. Эргардт намеревались предоставить свои помещения для лазаретов. Немцы колпинских колоний пожертвовали 600 руб., чтобы в одном из лазаретов содержать койку для раненых воинов19.
Житель колонии Фриденталь А.Ф. Мундингер предложил выделить в своем доме место для 15-20 детей, чьи отцы погибли на полях сражений. Для этого им было отремонтировано шесть комнат с кухней, закуплена утварь и на содержание приюта готов был ежемесячно выделять 65 рублей20.
С началом войны газеты публиковали сообщения о молебствиях в православных храмах о даровании победы русскому воинству и призывы к сплочению, чтобы дать отпор врагу. Но вместе с тем они писали о подобных явлениях в лютеранских и католических кирхах. Так, «Петроградский листок» сообщал о богослужении 29 июля в евангелическо-лютеранской церкви св. Петра совершенном на двух языках: на русском ректором евангелического общества В.А. Ферманом и немецком генерал-суперинтендантом Г.В. Пенгу.
Для сбора пожертвований лютеранские общины создали Комитет для организации полевого лазарета, который располагался по адресу Конногвардейский переулок, 4. Для него только прихожанами Царского Села и Павловска было пожертвовано 245 руб. и в пользу семей запасных и ополченцев 78 руб., а также 400 шт. разного белья21. 17 августа было совершено богослужение по случаю отправления на войну госпиталя, оборудованного на пожертвования прихожан. Сообщалось, что на службе присутствовали епископ К.П. Фрейфельдт, обер-шталмейстер А.А. фон-Гринвальд, профессор В.О. фон Петерсен, генерал А.А. Адлерберг, сенатор Р.В. фон Фрейман и другие22.
***
28 июля 1914 г. Николай II подписал указ «О правилах коими Россия будет руководствоваться во время настоящей войны», согласно которому подданные неприятельских государств лишались всех льгот и преимуществ. Мужчины от 18 до 40-летнего возраста включительно считались военнообязанными неприятельских государств, т.е. военнопленными. Поэтому они должны были уехать из России или власти могли выселить их в «другие губернии и области»23. Их семьям разрешено было остаться на прежнем месте проживания или поехать вместе с главой семейства, но за собственный счет.
В начале августа петроградский губернатор А.В. Адлерберг издал постановление о выселении ряда лиц во внутренние губернии империи и «установления над ними полицейского надзора» по решению Министерства внутренних дел24.Так как Санкт-Петербургская губерния в период войны стала приграничной территорией, то в Петроградском, Петергофском и Царскосельском уездах была проведена регистрация жителей. Местное население обязали «содержать караулы для охранения в пределах их владений порядка и безопасности»25.
С этого момента газеты стали отслеживать численность выселяемых и периодически обсуждали данную тему на своих страницах. Некоторые газеты даже создали постоянную рубрику «Высылка немцев из Петрограда». Петроградский городской голова И.И. Толстой считал, что «правительство не осознает, что, поощряя травлю немцев известного рода газетами, оно играет в опасную игру чисто демагогического свойства, забывая, что палка о двух концах»26.
Уже 2 августа 1914 г. «Петроградский курьер» сообщал о 120 задержанных в Санкт-Петербурге германских и австрийских подданных в возрасте от 18 до 45 лет, разделенных на две группы. Одну группу оставляли в городе под надзором полиции, а вторую должны были выслать в отдаленные губернии27. За две недели из Петербургской губернии было выселено до 500 человек28.
Петроградский градоначальник А.Н. Оболенский обращал внимание полицейских на то, что выселяемые из города немцы по 97
проходным свидетельствам могут сами выбирать для местожительства губернию, кроме состоящей на военном положении, но в действительности такого не происходило29. Окончательное решение по выселению принимал петроградский губернатор А.В. Адлерберг, а после этого списки передавались полиции и публиковались в газетах.
Однако очень часто в них обнаруживались ошибки. Поэтому канцелярии губернатора и градоначальника осаждали толпы просителей. Например, выслать должны были 65-летнюю Марию Фредерику Герман и 52-летнюю Ольгу Николаевну Грубер, но они имели русское подданство и власти вынуждены были отменить свое распоряжение30.
Интересен случай двух женщин из земледельческой колонии Извар. За них написал прошение петроградскому губернатору директор земледельческой колонии и приюта для малолетних Теклешов. Они должны были следовать за своими мужьями, высланными в Олонецкую губернию, но у них на руках были дети от 7 месяцев до 15 лет. Директор просил оставить их на месте, потому что среди детей были больные, а также они не имели в достаточном количестве теплой одежды и обуви. Но главное – он был убежден в их безобидности и хотел избавить от лишних страданий31.
Прошения писали и уже высланные немцы. Так, бывший инженер-технолог Шлиссельбургского порохового завода К.К. Витте просил пересмотреть его дело и разрешить вернуться в Петроград из с. Черное Тобольской губернии. У него в городе остались жена с сыном, которые из-за его отъезда лишились средств к существованию32.
Выселяемые немцы, оказавшись под таким психологическим прессингом, пытались использовать любые способы, чтобы затянуть процесс выселения или вообще его избежать. Так, германская подданная Иордан вышла замуж за русского подданного Кундышева и из списка высылаемых ее исключили33.
Иногда газеты писали и о довольно трагичных историях. «Петроградский листок» 21 августа сообщил о самоубийстве 20 летнего немецкого парикмахера Александра Фан-дер-Фур, проживавшего на Горушечной улице. Из-за увольнения с работы с началом военных действий он остался без средств к существованию. Им было принято решение отравиться, так как поиски новой работы не увенчались успехом и помочь ему никто не смог34.
В связи со сложившейся ситуацией по распоряжению петроградского градоначальника А.Н. Оболенского полиция начала проверять причину задержек лиц, внесенных в списки высылаемых. Большинство из них ссылались на внезапную болезнь, предъявляя медицинские свидетельства полицейских и вольнопрактикующих врачей35. В газетах стали раздаваться призывы к властям провести ревизию больниц и лечебниц, чтобы выявить мнимобольных нем-цев36.
30 декабря был издан приказ полиции на основании распоряжения главнокомандующего, в котором говорилось о выселении всех германских подданных в возрасте от 17 до 60 лет из пределов петроградского градоначальства. Выселение необходимо было завершить до 15 января 1915 года, в связи с чем с выселяемых была взята расписка. По предварительному подсчету Петроград должны были покинуть более 5000 человек37.
Петроградский городской голова И.И. Толстой считал эти методы необоснованными, потому что выселению из Петрограда и губернии подлежало около 20 тысяч человек. Ведь среди них были такие, кто: не видел иной страны, кроме России; прожившие в русских семьях по 30 и 40 лет; забывшие, что они не русские; подавшие прошения о переходе в русское подданство38.
Подобные действия властей и развернувшаяся с первых дней войны на страницах периодической печати пропаганда против немцев привела в итоге к росту «шпиономании». В конце августа 1914 г. в канцелярию начальника штаба Петроградского военного округа поступил донос от С.А. Федоренко. Он сообщал, что на даче Андреевой, расположенной недалеко от станции Александровской, проживают немцы. По вечерам к ним приходят другие немцы, и они поют «песни о том, как германские войска войдут в Петроград», а также шпионят в пользу Германии, наблюдая за проходящими воинскими эшелонами.
В ходе проведенного расследования полицейским приставом было установлено, что на даче проживала семья нарвского мещанина Ю.Я. Коббель, которая никакого отношения к немцам не имела. В гости к ним приходили эстонцы и они играли музыку и пели песни на эстонском39.
Бывали случаи, когда чиновники пытались использовать сложившуюся антинемецкую ситуацию в собственных целях. Так, часовой мастер Ф.Ю. Шультхейс, проживавший в Стрельне Петергофского уезда Петроградской губернии получил анонимное письмо от «тайного кружка бойкота немцев» с требованием «внести добровольно в пользу раненых 300 р.» Пристав первого стана в ходе разбирательств установил, что автором «шутки» был чиновник канцелярии соединенного и первого кассационного департамента Правительствующего Сената Н.В. Паршина. В результате его приговорили к штрафу в размере 50 руб., который заменили на две недели ареста40.
***
Борьба с «немецким засильем» вылилась в требование части российской общественности запретить использование немецкого языка в учебных заведениях и общественных местах. Находились и такие кто считал, что немецкий язык с момента начала войны должен считаться вне мировой культуры, так как это «язык уединенного полуварварского захолустья»41.
Однако не все соглашались с таким мнением, считая, что для немецкого населения это была единственная возможность сохранять традиции и культуру. Один из авторов газеты «Вечернее время» отмечал, что «против вывесок в трамваях, театрах, ресторанах… возражать трудно, раз публика настроена так нервно в отношении Немцев»42. Но он выступал против упразднения немецкого языка в русских учебных заведениях. Война когда-то закончится и не давать возможность тем, кто хочет его изучать жестоко. При этом хорошо бы предоставить право выбирать детям для изучения один из трех языков: английский, французский или немецкий. Все же в Петроградской губернии в мае 1915 г. начальник Петроградского военного округа запретил говорить на немецком языке43.
«Петроградский листок» пошел еще дальше и решил обратить внимание на «дуб германизма», который расположился в самом центре Петрограда и «выкрашенный в национальный германский цвет громада имеет в центре кирху во имя святого Петра». Чтобы его свалить, необходимо «истребить его корни», которые русский народ не замечал. Отмечалось, что в немецких училищах «Аннен-шуле и Петер-шуле», где учатся немецкие и русские дети, насаждается немецкая культура со всеми ее атрибутами. Там по-немецки «думают, учатся и молятся педантично», а за разговор по-русски учеников подвергают дисциплинарным взы-сканиям44.
Одновременно с этим развернулась борьба с «немецким засильем» в научных и учебных заведениях. Обращалось внимание на немцев, которые «акклиматизировались и заняли доминирующее положение»в академиях наук и художеств, создав в них «свой собственный мирок»45. В результате малочисленной группе русских профессоров и академиков приходилось прибегать к разнообразным уловкам, чтобы поддерживать русскую талантливую молодежь. И наконец «настало время, – писала газета «Голос Руси», – когда предстоит вызвать к жизни дремавшие до сих пор творческие силы нашего великого народа»46. При этом вспоминали о том, что в свое время с «немецким засильем» пытались бороться М.В. Ломоносов и Д.И. Менделеев.
В начале августа 1914 г. министр народного просвещения Л.А. Кассо издал распоряжение не принимать в Санкт-Петербургский университет германских и австрийских подданных. Кроме того, он запросил сведения об их количестве среди студентов47.
-
1 сентября 1914 г. Петроградский университет, обсуждая вопрос бомбардировки бельгийского католического университета в Лувене, принял решение помочь им в восстановлении библиотеки. Одновременно с этим профессор А.С. Догель внес предложение: прекратить публикации научных трудов на немецком языке и в немецких изданиях, не закупать в Германии приборов и реактивов для российских учебных заведений, а также исключить из состава совета почетных членов университета из «германских ученых, которые позорят и унижают науку». Однако ректором было решено отложить обсуждение этих вопросов. Он считал, что «война состояние временное, а научная работа – нечто постоянное и даже вечное»48.
Но рост германофобских настроений охватил и учащуюся молодежь. В начале октября студенты сорвали занятия профессору римского права Карлу-Вильгельму Фридриховичу фон-Зеллер. Им не понравилось, что при сравнении русских и немцев он отдал предпочтение «добродушным немцам»49. Кроме того, они просили ученый совет закрыть немецкие землячества и корпорации, действующие в университете: Wolga, Гиперборея, Невания, Ратания и Формация50. Однако университетское руководство не могло этого сделать, так как организации не совершали ничего предосудительного, а их уставы были утверждены Министерством внутренних дел.
Ректор университета Э.Д. Гримм пытался не допустить германофобских настроений в заведении, но вынужден был подчиняться предписаниям начальства. В декабре он получил приказ исключить из списка членов университета всех лиц, находящихся в германском подданстве. Поэтому звания почетного члена университета были лишены Ф. фон Лист, О. Бючли, А. Вейсман и В. Фохт51.
«Голос Руси» считал, что глубоко заблуждаются те публицисты, которые советуют не ограничивать немцев, а поднимать и развивать русских до их уровня. Почему они удивляются, что «в какой мере мы технически немощны и до какой степени зависимы в области материальной культуры от немцев». Невозможно развивать русскую культуру, образование, технику пока не отстранен «насевший на нас немец»52.
Пока в периодической печати разворачивались антинемецкие баталии, власти предпринимали конкретные действия. Попечитель петроградского учебного округа Н.Н. Кульчицкий подготовил представление в Министерство народного просвещения о преподавании с нового 1914/1915 учебного года всех предметов в немецких учи- лищах при евангелическо-лютеранских и реформаторских церквях на русском языке. 25 августа министерством было издано соответствующее распоряжение в отношении петроградских школ53. Но церковные советы училищ отрицательно отнеслись к этому, заявив, что тогда они прекратят отпускать денежные средства на содержание учебных заведений54. В результате Министерство народного просвещения возбудило вопрос о полном их закрытии.
25 сентября 1914 г. главный начальник Петроградского военного округа П.Д. Ольховский приказал изъять у Аннен-шуле должностную квартиру инспектора школы и мужское элементарное училище под школу и общежитие инженерных прапорщиков. В октябре второй этаж первого здания забрали под Всероссийский союз городов для устройства в нем лазарета имени президента Французской республики Пуанкаре. Второе здание поделили российское Ведомство общества красного креста и городской лазарет, разместив в нем 304 кровати55.
***
-
19 августа 1914 г. императором Николаем IIбыл издан указ о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград56. Газеты моментально откликнулись на это восторженными статьями и пламенными стихотворениями. «Земщина» ликовала: «Исполнилось желание сердца русских людей – столица величайшей славянской Империи будет носить и славянское имя»57. Ей вторил «Петроградский листок»: «То, о чем давно мечтали лучшие из славянофилов, сбылось в великую эпоху борьбы славянства с германизмом»58. Находились и такие, кто писал, что в старом названии столицы не чувствовалось ничего родного, так как оно «коробило уши нам своей частицей «бург» и поэтому народ окрестил «невскую столицу более упрощенным именем “Питер”»59.
-
Н. Энгельгардт считал, что с «петербургским» периодом русской истории покончено, потому что «Петроград уже народился в русских сердцах. Но как тень у ног его, жив еще и старый Санкт-Петербург»60. Несмотря на то, что многие авторы отмечали, что «сброшен с детища Петрова/ Немецкий выцветший сюртук»61, но были и те, кто придерживался другой точки зрения. Они обращали внимание на то, что название городу было дано самим Петром Великим.
После этого газеты стали поднимать вопрос о смене названий всех немецких населенных пунктов страны на русские. «Земщина» писала о том, что многие города приняли решение обратиться к правительству с просьбой восстановить им древнерусские назва- ния. Так, Шлиссельбургское управление хотело вернуть новгородское название Орешек, а Ораниенбаум народное название Рамбов62.
Власти пытались остановить волну подобных публикаций. Министр внутренних дел Н.А. Маклаков потребовал прекратить травлю «верноподданных Российской империи», но газеты невозможно было остановить. Осенью правительство начнет кампанию по ликвидации немецкой топонимики в стране. От имени этого министра будет разослан секретный циркуляр губернаторам о переименовании селений и волостей «кои носят немецкие названия с присвоением им названий русских».В результате в Петроградской губернии к началу 1915 г. фактически все немецкие населенные пункты будут переименованы. Так, Петергофская колония в Петровскую, а Ораниенбаумская в Алексеевскую63.
***
Еще в конце XIX в. в экономику Российской империи стал проникать иностранный капитал. К началу Первой мировой войны немецкий капитал присутствовал во многих отраслях российской промышленности и занимал одно из ведущих мест в нашей экономике. За первую половину 1914 г. в Россию было ввезено товара на сумму 681966 руб. из которых на долю Германии приходилось 352164 рублей64.
В августе газета «Петроградский листок» написала, что под Петроградом образовалось «изумительное по своей сплоченности немецкое гнездо» на фабрике красок фирмы «Бергер и Вирт»65. Из тридцати девяти человек работавших на ней девять было из поселян немецкой колонии Средней Рогатки. Несмотря на свою малочисленность они пользовались большим преимуществом по сравнению с русскими рабочими и создавали им невыносимые условия для работы.
Но особое внимание газеты на этой фабрике привлек «новообращенный» русский подданный Ф.Ф. Дезор. Он лишился должности управляющего как германско-подданный и исчез на несколько месяцев, а вернулся уже православным и занял место химика. И хотя «де-юре» фабрикой управлял нарвский мещанин Л. Нико, фактически это делал Ф.Ф. Дезор.
Реакция на эту статью со стороны петроградского губернатора А.В. Адлерберга последовала незамедлительно. В результате старшего рабочего А.Ф.Амана заключили в тюрьму на три месяца, а затем выслали в одну из отдаленных губерний. Колонистов М. Аман, Ш. Ф. Менг и М.А. Эйденмиллер заключили на три месяца в тюрьму с запрещением проживать в Петроградской губернии до окончания военных действий.
С осени 1914 г. все чаще стали раздаваться призывы к ликвидации «немецкого засилья» во всех сферах жизни российского государства. Чтобы снять внутриполитическую напряженность в стране, правительству было выгодно убрать немецких конкурентов в угоду собственной буржуазии. Ликвидировать немецкое землевладение, чтобы защитить земли помещиков.
В связи с этим началось обсуждение «ликвидационных» законов в отношении подданных воюющих с Россией держав. В их число попадали и немцы, принявшие российское подданство после 31 декабря 1870 г. Этот год становился своеобразной точкой отсчета, потому что в Германии был принят закон о двойном подданстве 1 июня 1870 г.
Поэтому «Новое время» позволило писать о том, что немецкие колонисты вели двойную игру. Они хоть и приняли российское подданство, но продолжали оставаться «все теми же германскими резервистами, лейтенантами, майорами и т.д.»66. Хотя еще летом газета считала немцев земледельцев потерянным элементом для Германии, а немцев, занятых в области немецкой торговли и промышленности в России, объявляла «деятельными проводниками пангер-манизма»67.
В начале сентября 1914 г. в газете «Вечернее время» было опубликовано анонимное письмо в редакцию с призывом начать «бескровную борьбу с немецким началом в России»68. С этого момента в периодической печати все чаще стали публиковать работы по проведению антинемецкой кампании в стране. Когда в печать просочилась информация о начале разработки ограничительного законодательства, то в некоторых газетах даже появилась рубрика «Борьба с немецким засильем».
Газеты обращали внимание на то, что немецкие предприятия переходили в руки русских подданных или подданных нейтральных государств. Но любопытнее всего, по их мнению, было то, что многие «сделки заключены задним числом и в домашнем порядке»69. Они предполагали, что таким образом совершалась фиктивная продажа фабрик и заводов.
«Петроградский листок» сообщал, что особенно много немцев оказалось в Гдовском и Ямбургском уездах и Нарве. В данной местности им принадлежал один крупный лесопильный завод, несколько мелких фабричных и заводских предприятий, а также много торговых заведений. Они отказывались добровольно уезжать за границу и пытались выручить хоть какие-то деньги за свое имущество, совершая «задним числом фиктивные запродажные, передаточные и дарственные акты» на имя русских или иностранных подданных невоюющих с Россией государств70. В связи с этим редакцией выска- зывалась обеспокоенность, что немецкие предприятия продолжат свою работу под «фиктивной русской вывеской».
Члены созданного в Москве общества «Экономического возрождения России» вручили министру торговли и промышленности В.Н. Шаховскому записку, в которой обращалось внимание на «пронырливость» немцев в желании передать предприятия в руки подставных лиц и с просьбой оградить русскую промышленность «от нового вида закрепощения». Так, Ю.Г. Циммерман передал фирму своему зятю русскому подданному Лембергу. Кроме того, из желания поиздеваться над русскими гражданами в прейскуранте товаров жирным шрифтом было написано: «бывшая фирма Юлия Генриха Циммерман»71.
Автор «Петроградского листка» считал, что немцы, имевшие недвижимость, за несколько месяцев до войны специально стали закладывать свое имущество в кредитных обществах и банках. Многие из них не нуждались в деньгах, но сделали это, чтобы обесценить собственность закладными. По его мнению, только в Петроградской губернии они «успели получить под недвижимость несколько мил-лионов»72.
***
Первая мировая война стала точкой отсчета во взаимоотношениях российского общества и немцев, приведшая к росту этнофобии. Не последнюю роль в этом сыграла периодическая печать, которая являлась проводником антинемецких настроений. Первоначально на страницах газет одновременно публиковались негативные статьи о германцах и положительные статьи о немцах Санкт-Петербурга. Но постепенно тон менялся и все чаще стали раздаваться призывы к борьбе со всем немецким. Поэтому даже российские подданные немцы становились сначала внутренними немцами, а к концу первого периода войны превратились во внутренних врагов. Борьба с «немецким засильем» разворачивается практически по всем направлениям. Можно сказать, что власти первыми инициировали ее, когда не остановили погром германского посольства в столице и переименовали Санкт-Петербург в Петроград. После этого стали закрывать немецкие предприятия, а их высылать из страны или вглубь ее. Затем власти переключились на образование. В результате было запрещено использование немецкого языка в преподавании, немецких преподавателей исключали из учебных заведений и даже закрывали немецкие школы, которые содержались на средства родителей.