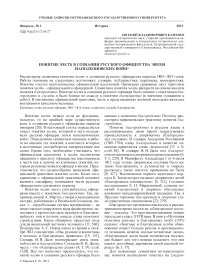Понятие честь в сознании русского офицерства эпохи наполеоновских войн
Автор: Каменев Евгений Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (130), 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрена семантика понятия честь в сознании русского офицерства периода 1805-1814 годов. Работа основана на следующих источниках: словари, публицистика, переписка, мемуаристика. Понятие «честь» использовалось официальной идеологией. Проведено сравнение двух трактовок понятия честь - официальной и офицерской. Семантика понятия честь раскрыта на основе анализа понятия благородство. Понятие честь в сознании русского офицера было связано с понятиями благородство и служба и было близко по смыслу к понятию достоинство (в значении «уважение к себе»). В противовес официальной трактовке, честь в представлениях военной молодежи являлась внутренним качеством человека.
Русские офицеры 1805-1814 годов, семантика, служба, благородство
Короткий адрес: https://sciup.org/14750358
IDR: 14750358 | УДК: 94(47)“17/1917”
Текст научной статьи Понятие честь в сознании русского офицерства эпохи наполеоновских войн
Понятие честь играло если не фундаментальную, то по крайней мере существенную роль в сознании русского офицерства периода империи [20]. В настоящей статье определяется смысл понятия честь , который в него вкладывали русские офицеры эпохи наполеоновских войн1. Определение семантики основано в работе на анализе тех понятий, в контексте которых в источниках употребляется интересующее нас слово. Кроме того, необходимо учитывать, что официальная идеология в целях воспитания преданного престолу офицерства апеллировала к чести как к одному из ключевых понятий, которым руководствовался офицер в жизни. Представляется, что целесообразно выявление официальной трактовки понятия честь . Более того, сравнение с официальной трактовкой поможет выявить специфику понимания чести русским офицерством указанного периода.
Понятие честь часто употреблялось офицерами вместе с понятием благородство . Так, например, юнкер А. Мартос, говоря о медицинских сестрах, работавших в Виленской больнице, писал: «…сердобольные сестры материнские… не носят пылкого наружного вида филантропок, исполняют с кротостью цель великую и благороднейшую: они в полном смысле слова помогают страждущим. Какое обширное предстоит поле для размышлений честному человеку» [11; 506]. Подпоручик А. С. Норов писал из армии в октябре 1812 года матери: «Мы, русские и воспитаны в честных и благородных правилах» [15; 153]. Словарь В. И. Даля подтверждает связь понятий честь и благородство . Согласно В. И. Далю, честь – это «благородство души» [4; Т. IV; стлб. 1328]. Все это позволяет предполагать, что понятие честь в сознании русского офицера было
связано с понятием благородство . Поэтому рассмотрим первоначально трактовку понятия благородство .
Понятие благородство в русском языке в рассматриваемое нами время подразумевало принадлежность к дворянскому (благородному) сословию. В словаре Академии Российской (1789–1794) слову благородный в качестве синонима приводится слово дворянский [17; ч. V; стлб. 36]. В словаре В. И. Даля под благородством понимается дворянское происхождение [4; Т. I; 229]. В Манифесте Александра I от 6 июля 1812 года только дворянское сословие было названо благородным, к духовенству и «народу русскому» такие эпитеты применены не были [9; 427]. Воспитанник первого кадетского корпуса К. Зендельгорст называл дворянских детей «благородным юношеством» [5; 312]. Согласно исследованию Е. Н. Марасиновой, слияние понятий благородный и дворянин обусловлено влиянием западноевропейской традиции. Так, в Пруссии термины благородный и дворянин стали практически синонимами [22; 279].
Благородство противопоставлялось в рассматриваемое время подлости, а благородное сословие – подлому. Это противопоставление можно проследить еще с XVIII века. В книге «Истинная политика знатных и благородных особ» (1745) сказано: «Знатные и благородные особы обыкновенно имеют больше разума и просвещенного познания, нежели подлые незнатные люди», «благородные люди выше почитаются подлых, сие бывает для того понеже полагают, что они имеют достойные дарования своей высокой породы» [6; 3, 37].
Для выяснения семантики интересующего нас понятия необходимо ответить на следую- щий вопрос: в чем заключается отличие благородного человека от подлого?
Трактовки понятия благородство властью и русским офицерством сходятся в следующем: благородство в обоих случаях связано с понятием служба . Именно государственная служба, которую нес благородный человек, отличала его от человека подлого происхождения. Эта идея видна, в частности, в официальных текстах. В Жалованной грамоте дворянству (1785) сказано: «Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем, обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное» [3; 347]. Сходную трактовку находим и в книге «Правила военного воспитания относительно благородного юношества» (1807), в которой сказано: «Тот только благороден, кто служит с пользою своему Отечеству» [16; 9]. Согласно «Правилам военного воспитания…», благородный человек «обязан оказывать преданности Государю и Отечеству, чтоб заслужить по достоинству столь знаменитое наследие», «кто больше в Отечестве принимать должен участия, как не благородный, которого имущество в недрах его заключается, для которого почести и другие отличия к удовольствованию его изобретены?» [16; 4–5, 6].
Понятие благородство в сознании военной молодежи также было связано с понятием служба . По мнению офицера кавалергардского полка М. С. Лунина, «устроить жизнь честно» значит «поступить на службу» [8; 236]. Причем служба предполагалась ревностная, самоотверженная. Так, например, согласно подпоручику М. Н. Кирееву, необходимо служить «из усердия» [7; 20].
Существенным моментом в уяснении сути понятия благородство является выяснение того, кому служит благородный человек. В этом наблюдается одно существенное отличие, которое, на наш взгляд, определило трактовку офицерством понятия честь. В официальной трактовке благородный человек служит монарху и отечеству. В Жалованной грамоте дворянству сказано, что «вернолюбезное российское дворянство» несет «бремя наиважнейшее империи и монарху служения» [3; 345]. Идея, согласно которой благородный человек служит не только отечеству, но и монарху, включала отношения чести в сферу влияния власти. Об этом свидетельствует тот факт, что, согласно официальной трактовке, благородным (и честным) человек становился благодаря не только происхождению, но и пожалованию: «…благородные разумеются все те, кои или от предков благородных рождены, или монархами сим достоинством пожалованы» [3; 351]. В «Правилах военного воспитания…» сказано: «Благородством именуется между нами отличность, Государем отдаваемая тем, которые произошли от показавших великие услуги Отечеству. Государь заслуги предкам их оказанные уважая, отличает их пред прочими сим титлом благородства, отцами их заслуженного» [16; 4–5].
За «службы верность, усердие и труды всякого рода» дворянин получал награды, чины и звания (почести), которые являлись своеобразной мерой чести. В Жалованной грамоте дворянству сказано, что «хвала и отличность» являются «лучшею наградою» «благородным и честь любящим душам». Причем под «хвалой и отличностью» подразумевались «гербы, дипломы, патенты на чины, совокупно с наружным украшением», «в честь добродетелям и заслугам установлены Всероссийские кавалерийские ордены» [3; 345]. В книге «Правила военного воспитания…» отличия, которые благородный человек приобретал благодаря службе, названы «почестями» [16; 6]. Эту трактовку понятия честь можно связать с такими указанными в словаре В. И. Даля значениями, как «высокое звание, сан, чин, должность», «внешнее доказательство отличия, почет, почесть, почтение» [4; Т. IV; стлб. 1328].
В случае неисполнения служебных обязанностей, не проявляя должного усердия в службе, благородный человек мог лишиться чести. «Стыд и бесчестие» есть следствие «непорятков» (под которыми подразумеваются отсутствие в дворянине присущих его званию добродетелей: «бодрой храбрости», «нелицемерной верности своему Государю», «ревности пользе общей»), допущенных благородными [6; 37]. Причем, согласно официальной трактовке, благородного человека может лишить чести только суд (то есть официальная инстанция), что подтверждает тезис о стремлении государства включить в орбиту своего влияния отношения чести. В Жалованной грамоте дворянству отмечено: «Без суда да не лишится благородный чести» [3; 347].
Свидетельство того, что честь благородного человека, согласно официальной идеологии, зависит от монарха, видим также в трактовке дуэлей. Практика дуэлей исключала государство из решения конфликтов между благородными людьми. Такое положение было неприемлемо для власти. В книге «Истинная политика знатных и благородных особ» сказано: «Честь оных, которые сами за себя не отмещевают, есть в безопасности, потому что Государь за нее стоит (курсив наш. – Е. К. )» [6; 55–56]. В «Манифесте о поединках» (1787) дуэль была названа «зловредным обычаем кровавого и самовольного мщения» и «воле Нашей (императорской. – Е. К. ) противным» [10; 840].
На наш взгляд, в официальной трактовке честь включалась в сферу контроля власти и заключалась в службе монарху и отечеству, за которую благородный человек получал от вла- сти почести, являвшиеся внешним выражением и своеобразной мерой чести. Власть понимала под честью скорее не внутреннее достоинство личности, а положение человека в обществе, репутацию.
В целом такая трактовка интересующего нас понятия идет еще с допетровского времени. По мнению Е. Прохазки, в средневековой Руси понятие честь было связано с понятиями похвала и слава и означало признание сюзереном заслуг вассала [24; 495–496]. Согласно И. Рейфман, «допетровское понятие о чести носило в высшей степени иерархический характер и отражало не внутренне присущее индивидууму чувство собственного достоинства и даже не личные заслуги, а положение человека на социальной лестнице и, таким образом, его близость к царю как к центру государства и вершине социальной пирамиды» [23; 39].
Рассмотрим теперь трактовку адресата службы благородного человека, сложившуюся в офицерской среде. Отличие данной трактовки заключается в следующем: если в официальном понимании благородный человек служит императору и отечеству, то, согласно представлениям военной молодежи, благородный человек служит отечеству совместно с императором. Монарх воспринимался в среде русских офицеров указанного периода как партнер в деле служения отечеству. Так, Ф. Н. Глинка писал, что император имеет ряд обязанностей перед своим народом: «Государь встает рано: у него много трудов, много работ, много забот: ему некогда успокоиться! – Он печется о целом народе, как нежной отец о семействе своем» [2; 8]. Адъютант М. И. Кутузова А. И. Михайловский-Данилевский воспринимал императора как человека, служащего отечеству. В своем «Журнале» он писал, что государь и его ближайшее окружение – это «ревностнейшие патриоты своего времени, желавшие поставить отечество свое на равную чреду с просвещенными державами Европы» [12; 147]. В связи с этим мы разделяем мнение М. А. Давыдова, согласно которому в сознании части дворянства постепенно утверждалась мысль о том, что дворяне и император в определенном смысле слова равны, ибо все они – слуги отечества. Монарх был хотя и первый, но все же среди равных [21; 22]. По мнению Л. Н. Вдовиной, идея служения государству распространяется на монарха с петровского времени [19; 8].
В этом отличии в понимании адресата службы была заключена основа офицерского понимания чести. При такой трактовке монарх исключался из сферы контроля над отношениями чести. Император не мог наделить человека честью, поскольку честь дана благородному человеку от рождения. Однако можно лишиться чести, совершив поступок, противоречащий нормам поведения благородного человека. Важно отме- тить, что отношения чести находились при этом в сфере контроля дворян. Вопрос о соответствии поведения офицера принятым нормам решался не монархом, а благородным сообществом. Например, модель поведения, которой должен был следовать офицер, требовала прежде всего проявления храбрости. Офицеры ревностно относились к собственной храбрости и постоянно анализировали свое поведение в ситуациях, когда возникали вопросы о его соответствии принятым нормам. Поручик А. И. Антоновский, анализируя свое поведение в бою у деревни Ропны 4 августа 1812 года, отмечал: «Я испытал свое хладнокровие и распорядительность и, выдержав с мужеством губительный огонь, не оставил своего места. Это все уверяло меня, что я впоследствии могу иметь способности воина, и чего более – довольно и предовольно» [1; 105]. В случаях, когда офицер нарушал принятые нормы поведения, он мог получить замечание. Такое замечание получил юнкер гвардейской артиллерии А. С. Норов, когда во время Бородинского сражения «отвесил несколько поклонов» пролетевшим ядрам [14; 193].
Исходя из этого награды и чины не признавались, на наш взгляд, офицерами своеобразной мерой чести. Честь есть абсолютное качество, которого не может быть больше или меньше, честь либо наличествует, либо отсутствует. Вот что вспоминал об офицере – участнике войны 1812 года И. С. Тимирязеве его сын: «Он не допускал никаких компромиссов ни для себя, ни для других: черное всегда черно, белое всегда бело; совесть или безупречно чиста, или туманна, и в этом последнем случае он большею частью не взвешивал степени этой туманности, а прямо отворачивался» [18; 161].
Кроме того, идея службы совместно с императором формировала идею исключительности дворянского сословия, чувство собственного достоинства, которое предполагало требовательность к себе, ответственность за свои поступки прежде всего перед самим собой. А. Н. Муравьев в письме брату Н. Н. Муравьеву (1810) говорил, что, исполняя служебные дела хорошо, был «доволен сам собою» [13; 159]. Недобросовестное исполнение обязанностей по службе для офицера оказывалось ниже его достоинства. «Чувство долга и дисциплины было у них, – писал о своем отце и дяде, офицерах – участниках войны 1812 года, Ф. И. Тимирязев, – настолько развито, что сознание своего достоинства не допустило бы их до нарушения обязанностей» [18; 164].
Таким образом, понятие честь в сознании русского офицера было связано с понятиями благородство и служба и было близко по смыслу к понятию достоинство (в значении «уважение к себе»). В противовес официальной трактовке, честь в представлениях военной молодежи являлась внутренним качеством человека.
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
1 Под русскими офицерами эпохи наполеоновских войн мы понимаем русских дворян, участвовавших в войнах с Наполеоном 1805–1814 годов в обер-офицерских и штаб-офицерских званиях.
СONCEPT OF HONOR IN PERCEPTION OF RUSSIAN OFFICERS DURING NAPOLEONIC WARS’ PERIOD
The paper presents semantics of the concept honor in perception of Russian officers in the period between 1805 and 1814. The work is based on the following sources: dictionaries, essays, letters, memoirs. It should be noted that the concept honor was used in the official ideology. Both official and officer’s interpretations of the concept honor are compared in the paper. Semantics of the concept honor is revealed on the basis of the analysis of the concept nobleness . The concept honor in perception of Russian officers was connected with the concepts generosity and service , and it was close in the meaning to the concept dignity (in the sense of “self-respect”). In contrast to official interpretation, Russian officers considered honor an inherent characteristic of a person.
Список литературы Понятие честь в сознании русского офицерства эпохи наполеоновских войн
- Антоновский А. И. Записки//Харкевич В. И. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Вып. 3. Вильно: Тип. Штаба Виленского Военного Округа, 1904. С. 2-207.
- Глинка Ф. Н. Подарок русскому солдату. СПб.: В тип. В. Плавильщикова, 1818. 140 с.
- Грамота на права, вольности и преимущества благородного Российского дворянства//Полное собрание законов Российской Империи с 1649 г. Собр I. Т. XXII. 1784-1788. СПб., 1830. С. 344-358.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Прогресс, 1994.
- Зендельгорст К. Первый кадетский корпус в 1813-1825 гг. Воспоминания бывшего воспитанника//Русская старина. 1879. Т. 24. № 2. С. 305-316.
- Истинная политика знатных и благородных особ. СПб.: Печ. при Имп. Акад. наук, 1745. 183 с.
- Киреев М. Н. Записки Михаила Николаевича Киреева//Русская старина. 1890. Т. 67. № 7. С. 1-64.
- Лунин М. С. Письмо Ипполиту Оже от 5 ноября 1816 г. г. Париж//Лунин М. С. Сочинения, письма, документы. М.: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1988. С. 235-236.
- Манифест Александра I от 6.07.1812 г.//Шишков А. С. Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова. Берлин: Тип. И. С. Скрейшовского, 1870. С. 426-427.
- Манифест о поединках 1787 года апреля 21-го//Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. Собр. I. Т. XXII. 1784-1788. № 16535. СПб., 1830. С. 839-846.
- Мартос А. И. Записки инженерного офицера Мартоса о Турецкой войне в царствование Александра Павловича 1806-1812 (до 1818)//Русский архив. 1893. № 8. С. 449-542.
- Михайловский-Данилевский А. И. Мемуары. 1814-1815. СПб.: Изд-во РНБ, 2001. 400 с.
- Муравьев А. Н. Письмо Н. Н. Муравьеву от 28 марта 1810 г.//Муравьев А. Н. Сочинения и письма. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1986. С. 159-160.
- Норов А. С. Из воспоминаний//Бородино в воспоминаниях современников. СПб.: Скарабей, 2001. С. 188-204.
- Норов А. С. Письмо родным от 10 октября 1812 г.//К чести России. Из частной переписки 1812 года. М.: Современник, 1988. С. 152-153.
- Правила военного воспитания относительно благородного юношества и Наставления для Офицеров военной службе себя посвятивших. СПб.: В тип. Ивана Глазунова, 1807. 279 с.
- Словарь Академии Российской: В 6 ч. СПб.: При Императорской Академии наук, 1789-1794.
- Тимирязев Ф. И. Страницы прошлого//Русский архив. 1884. № 1. С. 155-180.
- Вдовина Л. Н. Что есть «мы»? (Русское национальное самосознание в контексте истории от Средневековья к Новому времени)//Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1993. № 5. С. 6-12.
- Волков С. В. Русский офицерский корпус. М.: Центрполиграф, 2003. 414 с.
- Давыдов М. А. Оппозиция Его Величества. М.: РГГУ, 1994. 191 с.
- Марасинова Е. Н. Понятие «честь» в сознании российского дворянина//Россия в Средние века и Новое время. М.: РОССПЭН, 1999. С. 272-292.
- Рейфман И. Ритуализованная агрессия. М.: Новое литературное обозрение, 2002. 327 с.
- Prochazka H. On Concepts of Patriotism, Loyalty, And Honour in the Old Russian Military Accounts//The Slavonic and East European Review. 1985. Vol. 63. P. 481-497.