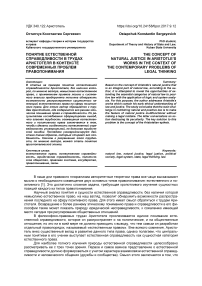Понятие естественной справедливости в трудах Аристотеля в контексте современных проблем правопонимания
Автор: Остапчук Константин Сергеевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 9, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере понятия естественной справедливости Аристотеля, без наличия которой, по мнению автора, немыслимо естественное право, с применением приемов логики и системного анализа предпринята попытка обнаружить возможности распространения сущностных категорий естественного права на сферу позитивного права. Для этого автор обращается к трудам Аристотеля, где содержится его раннее этическое понимание права и справедливости. По результатам исследования сформулирован вывод, что главная трудность совмещения естественного и позитивного права заключается в том, чтобы сделать особенность естественной справедливости универсальной, не допуская юридической ошибки. Последняя универсализирует действие таким образом, который стирает его особенность. Ключом к разрешению этой трудности, по мнению автора, может стать понятие аристотелевской эпикеи.
Естественное право, естественная справедливость, юридическая справедливость, политическое общество, правовая система, государство, правопонимание, закон
Короткий адрес: https://sciup.org/14939029
IDR: 14939029 | УДК: 340.122 | DOI: 10.24158/tipor.2017.9.12
Текст научной статьи Понятие естественной справедливости в трудах Аристотеля в контексте современных проблем правопонимания
В наши дни правового плюрализма авторитетные теоретики права все чаще высказывают мысли о необходимости совмещения двух основных типов правопонимания: естественного и позитивного [1]. Это достаточно сложная задача, требующая кропотливого изучения сущностных позиций каждого из типов правопонимания.
Научный анализ понятия и сущности естественной справедливости, без наличия которой немыслимо естественное право, на наш взгляд, позволит обнаружить возможности распространения последнего на сферу позитивного права. Для этого имеет смысл обратиться к трудам Аристотеля. Возвращение к более раннему этическому пониманию права и справедливости в его философии также может показать природу юридической несправедливости, к сожалению имеющей место сегодня при регулировании общественных отношений.
В философско-правовых трудах Аристотеля прослеживается единое понимание естественной справедливости, которое он распространяет и на политические, и на общественные отношения, но это ни в коей мере не должно приводить к выводу, что тем самым он разработал отдельный правопорядок, называемый «естественным правом». Вне всякого сомнения, Аристотель внес существенный вклад в развитие данного типа права, однако полагаем, что центральным понятием в его учении выступает естественная справедливость как сущностная категория естественного права.
Для наиболее полного изучения природы естественной справедливости целесообразно рассматривать ее с трех точек зрения. Первое и самое важное представление о естественной справедливости должно формироваться с учетом характера взаимосвязи естественной справедливости и человеческого общения (дружбы и сообщества). Смысл этого заключается в том, что отказ от жесткого и чрезмерного эгалитаризма присущ любому рассмотрению отношений справедливости и дружбы. Второе представление включает изучение отношения естественной справедливости к юридической как к способу определения и естественной, и правовой справедливости. Третье представление о естественной справедливости в пределах телеологической структуры позволяет объяснить, почему естественная справедливость фактически реальна, но юридическая несправедливость широко распространена.
В настоящей статье рассмотрено первое и самое важное представление о естественной справедливости. Особенностью подхода Аристотеля является то, что он не выводит данное понятие ни из теологических оснований, ни из позитивного права. Естественная справедливость у него основана на ассоциативных узах дружбы, формирующей естественное политическое сообщество. Кроме того, естественная справедливость есть функциональное качество вида дружбы или связи. Исходя из этого, можно предположить, что естественная справедливость возникает как итог между более тесными отношениями или среди более совершенных форм политического объединения. Соответственно, уровень совершенства или достоинства, связанный с этой категорией, не имеет ничего общего с законом как императивом или правилом, вытекающим хоть из современных представлений нравственного права, хоть из позитивного права, а появляется естественным образом из природы дружбы.
Кроме того, где есть меньшая степень дружбы или несовершенная форма политической ассоциации, есть меньше шансов существования естественной справедливости и косвенно возникает потребность чем-то заполнить этот вакуум, а именно нравственными, моральными или правовыми нормами. «Дружба относится к тем же вещам и бывает между теми же людьми, что и правосудие, ибо своего рода правосудие и дружба имеют место при всех вообще общественных взаимоотношениях [т. е. в сообществах]» [2, с. 152]. Степень их объединения является степенью их дружбы, поскольку это степень, в которой справедливость существует между ними, для дружбы некоторые из них более, а другие менее по-настоящему дружеские отношения.
«Различны и [виды] права, потому что неодинаковые права у родителей по отношению к детям и в отношениях братьев друг к другу, а также права товарищей и сограждан; это справедливо и для других [видов] дружбы. Различными будут и неправосудные вещи в каждом из названных случаев, и [неправосудность] тем больше, чем ближе друзья; так, лишить имущества друга ужаснее, чем согражданина, а брату не оказать помощи ужаснее, чем чужому, избить же отца ужаснее, чем любого другого. Праву также свойственно возрастать по мере [усиления] дружбы, коль скоро [дружба и право] относятся к одним и тем же людям и распространяются на равные [области]» [3, с. 153]. Соответственно, естественное правосудие в сильном чувстве справедливости на основе дружбы иллюстрирует, каким образом люди действуют в отсутствие правового принуждения, которое заставляет их поступать справедливо согласно некоторым правовым нормам.
Таким образом, естественная справедливость не простое равенство, как это интерпретирует Р. Дворкин [4]. Иногда она требует неравенства. Не все равны по природе, и это элементарно, что вещи распределяются согласно заслуге пропорциональным способом. Иногда справедливость требует наложения равенства или возвращения к условиям, существовавшим до сделки, которая ущемила интересы одной из сторон. Есть разные виды справедливости, соответствующей видам ассоциативных связей, которые естественно происходят, за исключением политической организации государства. Есть домашняя справедливость между мужем и женой, родителями и детьми [5]. Есть справедливость, ожидаемая между друзьями в самой низкой форме дружбы, основанной на удовольствии или полезности, и есть справедливость, ожидаемая между самыми близкими из друзей в самой высокой форме дружбы [6]. Есть также меньшая форма справедливости, которая ожидается между незнакомцами [7].
Один из путей, которым чувство естественной справедливости было утеряно в современных условиях, является склонность некоторых лиц, с одной стороны, рассматривать домашнюю справедливость в контексте коммерческой полезности, а с другой – пытаться превратить место работы в домашнее хозяйство. Такой дисбаланс часто является источником напряженности и в конечном счете несправедливости в такого рода отношениях.
Естественное политическое сообщество возникает естественным путем через ассоциативные узы разных видов дружбы, описанной Аристотелем [8]. В то время как у некоторых типов дружбы есть большее превосходство или достоинство, чем у других, все они соотносятся со справедливостью [9].
Конечно, степень или качество разных типов дружбы определенно связаны Аристотелем в той мере, в которой справедливость возникает из дружбы [10]. Поскольку он специально не делает такого анализа, можно предположить, что виды справедливости, вероятно, связаны с типами дружбы. Например, дружба полезности, один из менее прекрасных типов дружбы, видимо, иллюстрирует распределительную справедливость. При этом самая высокая форма дружбы, где друзья действуют ради преимущества другого, иллюстрирует равноправную справедливость. Тем не менее Аристотель и без такого анализа заявляет, что дружба и справедливость касается тех же самых объектов и проявляется между теми же самыми людьми [11].
Аристотель также замечает, что разные формы политической конституции включают дружбу до той степени, до какой они вовлекают справедливость. «Итак, все взаимоотношения оказываются частями (µοριοι) взаимоотношений в государстве [т. е. частями государственного сообщества]. А этим частям соответствуют [разновидности] дружбы» [12, с. 153]. Кроме того, извращение этих форм конституции в тиранию, олигархию или демократию включает дружбу и справедливость в меньшей степени. Это различие появляется вследствие того, что справедливые правительства рассматривают общие интересы, тогда как извращения рассматривают интерес своих управляющих фракций [13]. Таким образом, демократическое управляет в интересах многих, олигархия управляет в интересах некоторых, тиран управляет в интересах одного человека [14]. В результате у всех людей в этих извращенных формах конституции есть ограниченное или частичное понятие справедливости, которое очень несовершенно [15].
Например, в демократических государствах бедное большинство ищет перераспределения богатства от богатых, в то время как аристократия верит в равенство только для богатых. Эти частичные понятия несовершенной справедливости противопоставлены общим понятиям хорошей жизни, установленной среди друзей. Степень присутствия и отсутствия дружбы – общий знаменатель в диагнозе Аристотеля справедливости и несправедливости сообществ. Соответственно, любое обсуждение понятия естественной справедливости, которое не признает ассоциацию между дружбой и справедливостью, по мнению Аристотеля, допускает смешение естественной справедливости с естественным правопорядком.
В работах Аристотеля нет такого понимания естественного права, которое бы приказывало людям быть друзьями. Скорее, есть простое признание, что естественное право проистекает из дружбы. Следовательно, естественное право вряд ли возникнет и, возможно, не может появиться там, где нет некоторой формы дружбы. Примечательно, что у Аристотеля требования справедливости «естественно увеличиваются с дружбой», а «брату не оказать помощи ужаснее, чем чужому» [16].
Даже в рамках современного общества трудно подвергнуть сомнению тот факт, что это весьма естественные чувства. Граждане могут громогласно заявлять о соблюдении абстрактных принципов братства, о любви к ближнему как к самому себе, но в конечном счете наиболее естественным поведением является такое, при котором люди ведут себя более справедливо в отношении знакомых лиц, с кем у них есть какая-либо взаимосвязь. На наш взгляд, можно утверждать, что это косвенное признание Аристотеля справедливо в том, что естественное право существует в отношениях между людьми как ассоциативная связь друг с другом. Это объясняет потребность в законе для людей, между которыми наблюдается естественная несправедливость.
Есть два понятия, которые заслуживают внимания при обсуждении отношений между степенями естественной справедливости в сообществах и типах дружбы, составляющей ассоциативные узы этих сообществ.
Во-первых, несовершенные или неполные понятия справедливости возникают как итог неадекватной трактовки равенства или неравноценного сравнения [17, с. 459–460]. Формирование таких категорий – результат наличия жестких критериев равенства, которые не учитывают и не видят особенностей и различий в отношениях, хотя те и заслуживают различных подходов при исследовании тех или иных видов отношений. В силу этого существует напряженность между расширенным понятием справедливости на примере эпикеи Аристотеля и жестким представлением о справедливости, сведенной к равенству, как, например, у Р. Дворкина.
Во-вторых, политическая справедливость, для которой естественная справедливость и юридическая справедливость – основные элементы, базируется на дружественных ассоциациях между людьми, разделяющими понятия хорошей жизни или человеческого счастья. Общая категория хорошей жизни включает развлечения, признает важность досуга и не сводит результат политических или иных ассоциаций к простой полезности [18, с. 459–462]. Другими словами, цель семьи не простое порождение детей и наследников, цель коммерческих отношений не просто прибыль, цель политического сообщества не просто достижение самого большого ВВП или активного торгового баланса. У всех этих инструментальных итогов есть цель, достижению которой они способствуют, и эта цель – человеческое счастье. Соответственно, законодательство, судебное решение или принудительное исполнение законов, ограничивающиеся инструментальными целями, не являются по сути формой правовой системы, совместимой с естественным государством, которую Аристотель имел в виду. То, что теория и практика в современных правовых системах сегодня фактически отвергают любое широкое юридическое толкование, но расширяют возможности инструментального подхода, хорошо известно. При этом неважно, называется ли такой подход «консервативным», берущим начало в школе права в Чикаго, или «либеральным», как у Р. Дворкина. Сегодня счастье в основном понимается как частный интерес, а общественные потребности ограничиваются регулированием «стремления к счастью».
В рассмотрении отношений между сообществом и естественным правом остается заключительная проблема, которая является более сложной, чем предыдущие. Для ее разрешения целесообразно учитывать следующие моменты.
– Естественно стать друзьями с конкретными людьми.
– В дружбе в лучших ее проявлениях друзья ведут себя справедливо по отношению друг к другу по природе (есть разные уровни и виды дружбы, каждый со своим видом справедливости). Здесь представление о правильности поведения друзей является неявным.
– Однако дружба по природе ограничена несколькими людьми. Соответственно, государства, которые существуют преимущественно через дружбу, достаточно маленькие и близко расположенные. При этом граждане могут знать характер друг друга и разделять общие цели, неудачи и развлечения. У них есть естественное право.
Остается проблема, как расширить естественное право, которое возникает между друзьями как учрежденное из естественного сообщества к отношениям между незнакомцами, тем самым обеспечивая естественное, а значит, справедливое правосудие. Иными словами, трудность заключается в том, чтобы сделать особенность, присущую естественной справедливости, например в эпикее, универсальной, не допуская юридической ошибки, т. е. универсализирующей действие таким образом, чтобы стереть его особенность.
Практическое суждение (или мудрость), связанное со справедливостью, в частности эпи-кея, может иметь в качестве объекта конкретное, а не универсальное и все же составлять нечто, что обязательно основано на природе, а не на чем-то искусственном или условном. В отличие от платонизма Аристотель не рассматривает практическую мудрость как низшую по сравнению со знанием универсалий (например, в математике) только потому, что объекты практического суждения являются конкретными особенностями. Необходимость естественной справедливости подобна необходимости естественного здоровья. И справедливость, и здоровье понятны как естественные тенденции веществ, выполняющих свое назначение. Тот факт, что большое количество людей страдает от несправедливости или нездорово из-за неестественных нарушений естественности, никоим образом не делает естественные понятия здоровья или справедливости неразборчивыми метафизическими построениями.
Таким образом, на наш взгляд, именно приложение аристотелевского понятия эпикеи к современным отношениям – и в законотворчестве, и в правоприменении – будет способствовать распространению категории естественной справедливости на область позитивного права. Это в свою очередь должно привести к сокращению случаев юридической несправедливости, проистекающей из формального и универсального подхода позитивизма.
Ссылки:
-
1. Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму) / пер. с нем. А. Лаптева, Ф. Кальшой-ера. М., 2011. С. 3–4 ; Лукашева Е.А. К вопросу о правопонимании // Основные концепции права и государства в современной России. По материалам круглого стола в Центре теории и истории права и государства ИГП РАН // Государство и право. 2003. № 5. С. 10 ; Марченко М.Н. Правовые теории и проблемы правопонимания // Там же. С. 18.
-
2. Аристотель. Никомахова этика [Электронный ресурс] : кн. 8. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Aristotel_Nikoma-khova.pdf (дата обращения: 07.09.2017).
-
3. Там же. С. 153.
-
4. Dworkin R.: 1) What is Equality? Pt. 3: The Place of Liberty // Iowa Law Review. 1987. No. 73. P. 1–60 ; 2) What is Equality? Pt. 4: Political Equality // University of San Francisco Law Review. 1987. No. 22. P. 1–40 ; 3) Liberal Community // California Law Review. 1989. No. 77. P. 479–504.
-
5. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения : в 4 т. М., 1983. Т. 4, кн. 1, VI.
-
6. Аристотель. Никомахова ... Кн. 8, XI; кн. 9, XIII.
-
7. Аристотель. Риторика // Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб., 2000. Кн. 1, XIII.
-
8. Аристотель. Никомахова этика. Кн. 9 ; Его же. Политика. Т. 4, кн. 2.
-
9. Аристотель. Никомахова этика. Кн. 8, IX.
-
10. Там же. Кн. 8,XI.
-
11. Там же. Кн. 8,IX.
-
12. Там же. Кн. 8,XI.
-
13. Аристотель. Никомахова этика. Кн. 8, IX ; Аристотель. Политика. Кн. 3, VI–IX.
-
14. Аристотель. Политика.
-
15. Там же. Кн. 3,IX.
-
16. Аристотель. Никомахова этика. Кн. 8, IX.
-
17. Аристотель. Политика. Кн. 3, V, ч. 9. С. 459–460.
-
18. Там же. С. 459–462.
Список литературы Понятие естественной справедливости в трудах Аристотеля в контексте современных проблем правопонимания
- Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму)/пер. с нем. А. Лаптева, Ф. Кальшойера. М., 2011. С. 3-4.
- Лукашева Е.А. К вопросу о правопонимании // Основные концепции права и государства в современной России. По материалам круглого стола в Центре теории и истории права и государства ИГП РАН // Государство и право. 2003. № 5. С. 10.
- Марченко М.Н. Правовые теории и проблемы правопонимания // Основные концепции права и государства в современной России. По материалам круглого стола в Центре теории и истории права и государства ИГП РАН // Государство и право. 2003. № 5. С. 18.
- Аристотель. Никомахова этика : кн. 8. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Aristotel_Nikomakhova.pdf (дата обращения: 07.09.2017).
- Dworkin R. What is Equality? Pt. 3: The Place of Liberty//Iowa Law Review. 1987. No. 73. P. 1-60.
- Dworkin R. What is Equality? Pt. 4: Political Equality//University of San Francisco Law Review. 1987. No. 22. P. 1-40.
- Dworkin R. Liberal Community//California Law Review. 1989. No. 77. P. 479-504.
- Аристотель. Политика//Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1983. Т. 4, кн. 1, VI.
- Аристотель. Риторика//Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб., 2000. Кн. 1, XIII.