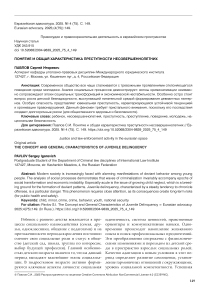Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних
Автор: Павлов С.И.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 4 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
Современное общество все чаще сталкивается с тревожными проявлениями отклоняющегося поведения среди молодежи. Анализ социальных процессов демонстрирует: волны криминализации неизменно сопровождают эпохи социальных трансформаций и экономической нестабильности. Особенно остро стоит вопрос роста детской безнадзорности, выступающей питательной средой формирования девиантных паттернов. Особую опасность представляет ювенальная преступность, характеризующаяся устойчивой тенденцией к хронизации правонарушений. Данный феномен требует пристального внимания, поскольку его последствия создают долгосрочные риски (для общественного здоровья и безопасности).
Ребенок, несовершеннолетний, преступность, преступление, поведение, молодежь, национальная безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/140312462
IDR: 140312462 | УДК: 343.915 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_75_4_149
Текст научной статьи Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних
интеграция в общественные отношения, основанная на усвоении норм и ценностей, служит фундаментом как для эффективного взаимодействия с социумом, так и для достижения эмоциональной и психологической зрелости.
Преступность несовершеннолетних – это самостоятельный вид преступности, представляющий собой совокупность преступлений и лиц, которые их совершили. Данное противоправное явление – результат существующей в стране ситуации, степень выраженности негативных явлений и процессов, происходящих в государстве, опасность противоречий, которые становятся причинами криминальных настроений.
В теоретической правовой литературе можно встретить множество определений преступности среди несовершеннолетних. Например, Д.С. Гиббонс описывает это явление как действия или правонарушения, которые находятся под запретом закона. Он подчеркивает, что «несовершеннолетние преступники» – это лица молодого возраста, которые совершают одно или несколько правонарушений. Однако данное определение имеет свои ограничения: оно фокусируется исключительно на тех нарушениях, которые прямо запрещены законодательством, не принимая во внимание те действия и поведение, которые в будущем могут стать незаконными. Кроме того, в этом определении отсутствует упоминание о минимальном и максимальном возрасте, который отхватывает категория молодежи [1].
В.Д. Малков отмечает следующий аспект: криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних основывается на анализе деяний, совершённых лицами в возрастном диапазоне 14–18 лет. При этом выделяются три ключевые возрастные категории: 14–15, 15–16 и 17–18 лет. В исследованиях А.И. Бельского и Р.С. Ягодина упоминается концепция К.Е. Иго-шева, согласно которой подростковая преступность выступает относительно самостоятельным элементом в структуре общей преступности, обладая специфическими особенностями и динамикой. Эта независимость проявляется в уникальности некоторых факторов, способствующих преступлениям среди молодежи, в особенностях динамики преступности в этой возрастной категории, а также в характерных чертах, касающихся личностных аспектов правонарушителей.
В.Н. Кудрявцев определяет преступность как деструктивное социально-правовое явление, присущее обществу, которое обладает устойчивыми закономерностями и параметрами, наносит вред социуму и отдельным гражданам, требуя от госу- дарства и общественных институтов специфических мер реагирования. Несмотря на расхождения в определениях данного термина, выделяются общие признаки, присущие преступности [2].
А.И. Долгова подчеркивает значимость выделения преступности несовершеннолетних как отдельного объекта исследования, что открывает новые горизонты для глубокого анализа ее уникальных особенностей. Это включает в себя изучение специфики детерминации, причинности и факторов, способствующих преступному поведению среди молодежи [3]. Такой подход позволяет разрабатывать более дифференцированные и целенаправленные меры по предупреждению преступности среди несовершеннолетних. Недооценка специфики криминогенных факторов, свойственных правонарушениям несовершеннолетних, способна существенно снизить результативность принимаемых мер, что обуславливает необходимость пристального изучения данной проблемы профессиональным сообществом. Поддерживая позицию А.И. Долговой, следует подчеркнуть: ювенальная преступность демонстрирует уникальные закономерности, кардинально отличающие ее от криминальной активности взрослых граждан, что требует адаптированных подходов в противодействии. Эти особенности, если их тщательно выделить и проанализировать, могут стать основой для разработки более эффективных профилактических мер, направленных на снижение уровня преступности среди молодежи. При этом важно рассматривать преступность несовершеннолетних как сложное и многогранное социальное явление, которое включает в себя различные аспекты и подвиды. Например, следует учитывать различия между подростками в возрасте 14–15 лет и 16–17 лет, а также гендерные различия, которые могут оказать значительное влияние на типы и причины преступного поведения. Преступность среди несовершеннолетних проявляет ряд отличительных черт, которые в первую очередь касаются причинного комплекса и мотивации, формирующей преступное поведение.
Важно подчеркнуть, что термины «преступление» и «преступность» схожи. Однако они не являются идентичными. Преступление – это понятие, которое относится к конкретному деянию, в то время как преступность представляет собой более широкую категорию, охватывающую множество таких деяний. В соответствии с Уголовным кодексом РФ преступлением считается любое общественно опасное действие, совершенное с умыслом и запрещенное законом, за которое предусмотрено уголовное наказание. Преступ- ность, в свою очередь, является термином, используемым в криминологии, и подразумевает собой совокупность всех преступлений, которые были фактически совершены на территории конкретного государства или же субъекта за установленный временной промежуток. Данное социально-правовое явление, обладающее исторической динамикой, проявляется как масштабное негативное образование с характерными параметрами, специфическими особенностями.
Термин «правонарушения несовершеннолетних» объединяет широчайший диапазон противоправных действий, совершаемых лицами младше 18-летнего возраста. Упомянутое варьируется непосредственно от мелких нарушений порядка (например, мелкое хищение или драки) до тяжких деяний, сопряженных с насилием, умышленным причинением вреда здоровью, незаконным оборотом наркотических средств и иными действиями, создающими прямую угрозу безопасности граждан, а также всего общества. Важно понимать, что речь идет не просто о статистике, а о сложной социальной проблеме, корни которой уходят глубоко в различные аспекты жизни общества. Молодое поколение – это фундамент будущего, ресурс для социального и экономического развития страны. Государство инвестирует значительные средства в образование, здравоохранение и социальную поддержку молодежи, стремясь воспитать ответственных и законопослушных граждан. Однако часть подростков по различным причинам становится на криминальный путь. Эти молодые преступники – не просто сегодняшняя проблема, а потенциальная угроза для будущего. Они представляют собой опаснейший резервуар преступности, способный породить в последующие десятилетия целые поколения профессиональных преступников, более изощренных и опытных, чем их предшественники. Важно отметить, что процент преступлений, совершенных несовершеннолетними, служит достаточно надежным индикатором для прогнозирования криминальной ситуации в целом [5].
Обособление преступности несовершеннолетних в качестве самостоятельного предмета научного анализа обусловлено рядом факторов. С правовой точки зрения, это закрепление в уголовно-правовых, процессуальных и исполнительных нормативных актах отдельных положений, регулирующих порядок привлечения к ответственности, расследования деяний, а также применение и реализацию санкций с учетом возрастных особенностей. С криминологической позиции, это специфика совершаемых правонарушений, мо- тивации их участников, условий социализации, факторов девиантного поведения и механизмов профилактики. Феномен ювенальной преступности выступает индикатором трансформаций криминальной среды, отражая её историю, текущие тенденции и потенциальные риски. Исследование этой категории позволяет прогнозировать возможные формы делинквентного поведения и предотвращать их эскалацию в условиях слабой социальной регуляции.
Официальные статистические показатели позволяют констатировать: несмотря на то, что уровень преступности несовершеннолетних за 2024 год в сравнении с предшествующим годом сократился на 3,4 %, число особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло на 22 %. Сокращение доли в общем числе преступлений не является показателем снижения подростковой преступности, так как динамика трансформируется под влиянием изменений возрастной структуры населения. Отличительным признаком современного состояния преступности несовершеннолетних является групповой способ совершения преступления (доля групповых преступлений в среде подростков составляет более 40 %), также в последнее время наблюдается тенденция увеличения числа преступлений, характеризующихся жестокостью, цинизмом, изощренными издевательствами, а также убежденностью в правильности своих действий.
Также в 2024 году наблюдался рост числа преступлений подростков из семей мигрантов на 10 %, среди которых большинство отнесены к категории особо тяжких деяний.
Актуальность специализированного подхода к подростковой преступности продиктована многогранностью её природы. Во-первых, механизм формирования противоправного поведения у несовершеннолетних кардинально отличается от взрослых моделей. Короткий этап социализации, совпадающий с гормональной перестройкой и эмоциональной лабильностью, создаёт почву для импульсивных решений. Резкие изменения социальных ролей – переход из статуса ученика к трудовой деятельности, ранняя финансовая зависимость или, напротив, гиперопека – провоцируют конфликт идентичности. Ограниченная правовая дееспособность, сочетаясь с попытками самоутверждения через бунт против авторитетов, трансформируется в специфические мотивы: от спонтанного вандализма до сознательного участия в групповых правонарушениях. Эти нюансы формируют «волнообразную» динамику подростковой криминальной активности, где пики нарушений часто коррелируют с этапами образовательных циклов (окончание учебного года, переход в новые коллективы) [4].
Во-вторых, борьба с молодёжной преступностью стала индикатором эффективности социальной политики государства. Например, внедрение ювенальных технологий в правосудие, развитие сети подростковых психологических служб и трудоустройство несовершеннолетних из групп риска напрямую влияют на снижение рецидивов. Однако системные пробелы – недостаточная координация между школами, комиссиями по делам несовершеннолетних и органами опеки – приводят к «выпадению» подростков из профилактических программ. Последствия таких упущений проявляются не только в росте криминальной статистики, но и в эрозии общественного доверия к институтам власти, что подрывает моральные устои общества.
Современные вызовы усугубляются экспансией организованной преступности в подростковую среду. Криминальные группировки активно используют культурные противоречия в многонациональных регионах: вербовка несовершеннолетних через субкультурные сообщества, манипуляция идеями «справедливости» или этнической солидарности. Как отмечают в исследованиях сотрудники Института криминологии СК РФ, до 40 % участников межнациональных уличных конфликтов составляют подростки, вовлечённые через социальные сети в радикальные группы. Это требует перестройки профилактической работы: вместо формальных бесед о «правильном поведении» – внедрение проектов межкультурного диалога, например школьных обменов между регионами, создания медиативых площадок для разрешения конфликтов.
Правовая основа противодействия этим угрозам заложена в Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года (Указ № 358). Документ конкретизирует меры защиты от цифровых рисков (кибербуллинг, пропаганда насилия в соцсетях) и социально-экономических угроз (безнадзорность, отсутствие профориентации). Например, введение обязательного психологического тестирования в школах для выявления склонности к агрессии и создание региональных центров реабилитации жертв подростковой преступности. Стратегия национальной безопасности (Указ № 400) дополняет эти меры, фокусируясь на информационной гигиене – фильтрации контента, разжигающего этническую ненависть, и поддержке НКО, разрабатывающих программы патриотического воспитания.
Ключевая проблема реализации этих стратегий – рассогласованность между законодательными инициативами и местными практиками. Так, рекомендации по трудоустройству подростков часто игнорируются в моногородах с высоким уровнем безработицы, а программы по противодействию экстремизму сводятся к формальным лекциям, не затрагивающим реальные конфликты в молодёжной среде. Устранение этих дисбалансов требует не только финансирования, но и подготовки кадров – от учителей до участковых, способных распознавать ранние признаки радикализации и работать с подростками на основе доверия, а не запретов.