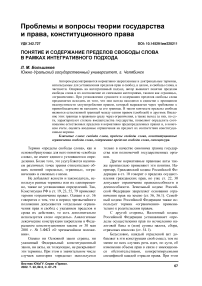Понятие и содержание пределов свободы слова в рамках интегративного подхода
Автор: Большаков Лев Михайлович
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории государства и права, конституционного права
Статья в выпуске: 2 т.22, 2022 года.
Бесплатный доступ
Автором рассматриваются нормативно закрепленные и доктринальные термины, используемые для установления пределов прав и свобод, в целом, и свободы слова, в частности. Опираясь на интегративный подход, автор выявляет понятие пределов свободы слова и их соотношение со смежными категориями, такими как «границы», «ограничения». При установлении сущности и содержания пределов свободы слова предлагается исходить из того, что они всегда находятся в единстве с принципом недопустимости злоупотребления правом, который выражается через требование к правообладателям не выходить за его границы. В таком контексте пределы свободы являются естественной границей между одним правом (свободой) и другими. Введение этих границы в правовую среду через ограничения, а также выход за них, по сути, характеризуют степень вмешательства государства, позволяют определить соотношение естественных пределов и нормативно предопределенных правил и, в конечном счете, оценить вводимые ограничения на предмет их соответствия конституционным нормам.
Свобода слова, пределы свободы слова, конституционные ограничения свободы слова, содержание пределов свободы слова, самоцензура
Короткий адрес: https://sciup.org/147238127
IDR: 147238127 | УДК: 342.727 | DOI: 10.14529/law220211
Текст научной статьи Понятие и содержание пределов свободы слова в рамках интегративного подхода
Термин «пределы свободы слова», как и основообразующее для него понятие «свобода слова», не имеет единого устоявшегося определения. Более того, это усугубляется наличием различных точек зрения относительно общих понятий «пределы», «границы», «ограничения» и смежных с ними.
Не добавляет ясности и законодатель, используя разные термины или их одновременно, также не устанавливая определений. Так, Конституция РФ в ст. 19, 23, 55, 79 применяет термин «ограничение права». Однако в ст. 56 говорится о том, что в период чрезвычайного положения допускаются «отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия», то есть дополнительно используется слово «пределы». Аналогичные лексические конструкции закреплены в Федеральном конституционном законе от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».
Однако ни Основной закон страны, ни указанный Федеральный конституционный закон, ни акты, их толкующие, не раскрывают эти термины. При этом в значительном числе случаев категория «пределы» используется только в качестве синонима границ государства или полномочий государственных органов.
Другие нормативные правовые акты также произвольно применяют эти понятия. Например, Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 10 говорит о пределах осуществления гражданских прав, но уже ст. 22, 30 допускает ограничение правоспособности и дееспособности. Земельный кодекс Российской Федерации закрепляет основания ограничения прав на землю (ст. 56, 56.1). Семейный кодекс Российской Федерации также использует термин «ограничения» применительно к родительским правам.
С другой стороны, Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает «пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» (ст. 54.1).
Безусловно, каждый отраслевой акт добавляет в эти конструкции свой смысл, тем не менее во всех случаях речь идет, по сути, об изменении объема прав в связи с имеющимися обстоятельствами, конкретизируемыми спецификой каждой отрасли права. При этом термины используются, не получая формального терминологического закрепления [14, с. 371].
Невозможно получить точное представление об указанных категориях и путем анализа международных актов. Так, в п. 1 ст. 16, ст. 24, п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, ст. 4, 5, 8 Пакта об экономических, социальных и культурных правах используется термин «ограничение». Одновременно с этим ст. 4, п. 3 ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах говорят об «отступлении от своих обязательств». Конвенция о защите прав человека и основных свобод применяет оба термина: п. 3, 4 ст. 2, п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 10, п. 2 ст. 11, ст. 16, ст. 17, ст. 18, ст. 53 – «ограничение», п. 3 ст. 4, ст. 15 – «отступление». Кроме того, ст. 18 говорит о «пределах ограничения». Определение терминов также не дается.
Что касается правовой литературы, то ее анализ позволяет условно выделить две позиции по вопросу соотношения рассматриваемых категорий.
В большом количестве источников исследуемые термины рассматриваются как тождественные, сходные до смешения, либо содержание одних раскрывается через другие: А. Ф. Квитко [7, с. 14], А. А. Подмарев [11, с. 44], А. В. Малько [9, с. 59–60], С. С. Алексеев [1, с. 67], И. Д. Ягофарова [15, с. 61] и др.
Следует подчеркнуть, что такая позиция имеет свои корни в дореволюционной и советской правовой литературе. Так, классик российской цивилистики К. П. Победоносцев, характеризуя право собственности, использует «пределы» для раскрытия сути ограничений [10].
Связывает друг с другом термины «ограничения» и «пределы» И. А. Ильин, который, замечая важность ограничения прав и свобод «известными пределами», подчеркивал, что право тем самым обеспечивает «беспрепятственное и спокойное пользование правами», «гарантирует свободу внутри этих пределов» [6, с. 96].
Что касается второй точки зрения, то объединение существующих позиций в ней весьма условно, так как авторы, ее представляющие, по-разному рассматривают категории «ограничения», «пределы», «границы» и их соотношение. Например, Н. Л. Свиридов, который раскрывает эту тему относительно исключительных прав, отдельно выделяет огра- ничения (то есть пределы осуществления законно установленных прав в пространстве и времени) и границы – рамки (барьеры), установленные для третьих лиц и позволяющие им, не нарушая права правообладателя, использовать объекты интеллектуальных прав [12, с. 5–10].
Различать ограничения как сужение прав от способов закрепления границ свободы (оговорки, примечания, запреты, исключения) предлагает В. И. Гойман. По его словам, разность между этими категориями состоит в том, что во втором случае происходит уточнение содержания права или свободы, но нет изменения их объема [4, с. 26].
Анализируя указанные термины, А. С. Ворожевич приходит к выводу о том, что именно «границы» более точно определяют содержание права, когда не имеется в виду сужение права. Ограничения же связаны с уменьшением возможностей правообладателя относительно права. В то же время, далее рассматривая временные и территориальные границы исключительных прав, она использует термин «ограничения» [3, с. 78, 82].
Таким образом, все рассмотренные точки зрения, несмотря на имеющиеся в них различия, так или иначе связывают термины «границы», «пределы» и «ограничения», что, как представляется, связано с традиционным превалированием позитивно-правового подхода в России вне зависимости от времени и изменения политических режимов.
С другой стороны, сторонники условно выделяемого второго подхода обращают внимание и на естественно-правовые свойства пределов свободы. Пределы конституционных прав и свобод, согласно Л. Д. Воеводину, представляют собой свойственную для любого государства, исторически сложившуюся совокупность ориентиров, определившихся на базе социальных ценностей [2, с. 39].
Отсюда и некоторое противопоставление ограничений праву как таковому и рассмотрение пределов как того, что естественно включено в право и свободу.
Однако при такой формулировке довольно сложно конкретизировать пределы, сделать этот термин прикладным.
Как представляется, говоря о пределах свободы личности в целом, и свободы слова в частности, можно исходить из того, что они всегда находятся в единстве с принципом недопустимости злоупотребления правом, кото- рый выражается через требование к правообладателям не выходить за его границы. По сути, пределы свободы личности – это граница, разделяющая одно право от другого, опирающаяся на системное единство всех прав и свобод, а также естественные границы внутри самой свободы, складывающиеся исходя из ее особенностей. В случае со свободой слова такими естественными границами, например, являются точки перехода между свободой слова и свободой мысли.
В то же время нельзя и исключать значение законодательных ограничений. При этом позитивное право может идти за естественным, закрепляя в правовых нормах те пределы, которые предопределены взаимодействием и взаимовлиянием прав и свобод друг на друга, а может существенно отличаться.
В этом смысле позиция автора близка к той, которую высказывает В. А. Лебедев: «Границы (пределы) свободы личности, ее автономия определяются объективными закономерностями развития общества. Государство формирует запреты, направленные на защиту свободы всех членов общества; подобного рода ограничения объективно необходимы» [8, с. 132].
В любом случае рассмотрение пределов прав и свобод в конкретном государстве будет полным только в связи с имеющимися ограничениями. Без этого они являются некоторой идеальной конструкцией, тогда как конкретные ограничения, по сути, характеризуют степень вмешательства государства, позволяют определить соотношение естественных пределов и нормативно предопределенных правил.
В то же время конституционное значение именно ограничений связано с объективной потребностью общества, в основе которого лежит принцип нормального сосуществования людей. Как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд РФ в своих постановлениях, государство вправе устанавливать отдельные ограничения свободы слова, если действия лиц не совместимы с правами и свободами, интересами, преступны (например, Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 1053-О).
В таком понимании важно, чтобы ограничения свободы соответствовали уровню политического, экономического и культурного развития конкретной страны и ее населения.
Чем более развиты общественные институты, тем более актуальны естественные пределы свободы и менее целесообразны ограничения, выходящие за них. Ведь в таких условиях дополнительные запреты и ограничения могут стать фактором возникновения конфликта между обществом и государством.
Напротив, чем менее развиты общественные институты, тем большее воздействие должно оказываться государством, в том числе посредством ограничительных и регулятивных норм. Однако с развитием общества ограничения должны постепенно снижаться и все более стремиться к естественно установленным пределам.
Как справедливо отмечает В. В. Гошуляк, «государство, сохраняя свою относительную самостоятельность, становится регулятором интересов» всех людей, находящихся на данной территории. «Именно оно должно заботиться об общем благе и не расширять его до таких пределов, за которыми начинаются прямые нарушения прав и свобод человека и гражданина со стороны государства» [5, с. 98].
Представляется, что такая оценка пределов и ограничений прав и свобод, в целом, а также свободы слова в частности, с уходом исключительно от позитивистского или естественного понимания права более точно выражает сущность и содержание рассматриваемых категорий, а также соответствует современному уровню правопонимания, проявляемому в интегративном подходе. Кроме того, такое отношение к пределам свободы позволяет соотнести негативную и позитивную свободу, установить между ними связь и проанализировать не в идеальном пространстве, а в конкретной правовой среде.
При таком варианте ограничения становятся основным способом закрепления пределов свободы слова в праве. Однако речь идет именно об объективно необходимых ограничениях. Отсюда они являются правомерными с двух позиций: и естественно-правовой, и позитивно-правовой.
Основным актом, в котором закреплены такие ограничения в России, является Конституция РФ, которая в этом смысле соответствует всем современным международным источникам и актам их толкования.
Конституционные ограничения в зависимости от отношения к свободе слова можно разделить на две группы.
-
1. Ограничения общего характера, имеющие распространение на большинство конституционных прав и свобод. Эта группа ограничений закреплена в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и направлена на защиту:
-
– основ конституционного строя;
-
– нравственности;
-
– здоровья;
-
– прав и законных интересов других лиц;
-
– обеспечения обороны страны и безопасности государства.
-
2 . Ограничения, непосредственно направленные на свободу слова:
-
1) запрет, установленный ч. 1 ст. 24 Конституции РФ, на сбор и распространение информации о частной жизни лица без его согласия;
-
2) запрет, закрепленный ч. 2 ст. 29 Конституции РФ, на отдельные виды информации, пропаганды. Он допускается в целях нераспространения социальной, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, социального, расового, национального, религиозного и языкового превосходства, а также для сохранения государственной тайны;
-
3) обязанность раскрыть информацию вне зависимости от желания субъекта (ч. 3 ст. 41, ст. 42, ч. 2 ст. 51 Конституции РФ).
Буквальное толкование конституционных ограничений, накладываемых на свободу слова, позволяет говорить, что они в целом:
-
1) совпадают с пределами свободы слова в принятом в рамках настоящего исследования ключе;
-
2) позволяют разделять вводимые законодателем нормы на правомерные и неправомерные, отличать произвол и злоупотребление со стороны органов государственной власти всех уровней;
-
3) позволяют сохранить баланс интересов всех членов общества. Тем самым снижается социальная напряженность, уменьшается вероятность возникновения и развития конфликтов. Говоря об этом следует подчеркнуть, что это применимо только к случаям, когда пределы установлены не произвольно, учитывают реалии существования общества и государства. Излишнее регулирование сферы свободы слова ведет к ощущению девальвации демократических принципов. Равно как и установление абсолютной свободы слова в государстве, где общество не однородно, не
готово к этому, приведет к проблемам, в том числе к потере ориентиров развития для значительного числа граждан страны;
-
4) являются частью механизма согласования интересов общества и власти. При этом еще раз следует подчеркнуть, что этот механизм действует только в том случае, когда вводимые ограничения обладают всеми критериями правомерности.
Однако даже лучшие конституционные нормы, к сожалению, не исключают возможные субъективные факторы, позволяющие уходить от конституционных пределов в сторону увеличения ограничений.
В первую очередь к ним можно отнести влияние политических элит, стремящихся установить больший контроль над обществом в целом, и каждым человеком в нем в частности. Это может привести к принятию правовых норм, которые закрепляют преимущество одних над другими, не учитывают принципы равенства, запрета злоупотребления правом. Применительно к свободе слова это может выразиться, например, в установлении ограничений, направленных исключительно на защиту «государства и его официальных лиц от общественного мнения и критики» [13]. Такие ограничения выходят за рамки пределов свободы слова.
Важным признаком таких избыточных ограничений является то, что они обусловлены иной целью, чем та, которая провозглашается, или сформулированы так, что допускается их расширительное толкование, позволяющее их произвольное использование. Отсюда возникает вопрос об их правомерности.
Несмотря на то, что ограничения составляют основу пределов свободы слова, ее негативное проявление, содержание свободы слова не основывается исключительно на них. В позитивном аспекте пределы включают в себя также принципы права, предписания, различные неправовые средства и способы взаимодействия, которые регулируют поведение людей. Более того, зачастую именно они играют решающую роль в процессе взаимодействия между личностями.
Наконец, говоря о пределах свободы слова, нельзя не упомянуть о самоцензуре, которая может опираться как на желание лица не нарушать установленные правовые нормы, так и на внутренние этические принципы. Если право соответствует субъективным установкам лица, то его нарушение чаще всего либо вообще будет исключено, либо будет случайным, без мотивации нарушить установленные правила. Несмотря на то, что это не входит в поле правового регулирования, при принятии любых правовых актов государство должно опираться на нравственные нормы большинства населения, что будет способствовать формированию доверительных отношений между обществом и государством и тем самым повышать эффективность любых реформ. Однако установление готовности граждан к любым изменениям не должно быть вероятным, оно должно опираться на научные исследования. В этой связи обосновано более активное подключение научного сообщества к законотворческой деятельности.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.
-
1. Пределы свободы слова с точки зрения интегративного подхода, включающего элементы позитивистского и естественного понимания права, представляют собой совокупность объективно сложившихся в обществе и закрепленных конституционными нормами условий, определяющих границы использования человеком и гражданином права свободно выражать свое мнение во вне.
-
2. Содержание пределов свободы слова составляют ограничения (основной элемент), а также принципы права, предписания, различные неправовые средства и способы взаимодействия, которые регулируют поведение людей (дополнительные элементы). При этом речь идет об объективно необходимых ограничениях, которые именно в связи со своей необходимостью закрепляются в праве, то есть они правомерны с двух позиций, и естественно-правовой, и с позитивно-правовой.
-
3. Конституционные ограничения свободы слова в России соответствуют пределам свободы слова на современном уровне развития общества. Их значение состоит в том, что они позволяют разделять вводимые законодателем нормы на правомерные и неправомерные, отличать произвол и злоупотребления со стороны органов государственной власти всех уровней, сохранить баланс интересов всех членов общества, снижая социальную напряженность и вероятность возникновения и развития конфликтов; являются частью механизма согласования интересов общества и власти.
Список литературы Понятие и содержание пределов свободы слова в рамках интегративного подхода
- Алексеев, С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве / С. С. Алексеев. - М., 1989. - 286 с.
- Воеводин, Л. Д. Юридический статус личности в России / Л. Д. Воеводин. - М.: Инфра-М, 1997. - 304 с.
- Ворожевич, А. С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: дис. ... д-ра юрид. наук / А. С. Ворожевич. - М., 2021. - 546 с.
- Гойман, В. И. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и международному праву / В. И. Гойман // Государство и право. - 1998. - № 8. - С. 20-43.
- Гошуляк, В. В. Пределы ограничения права собственности в конституционном праве России / В. В. Гошуляк // Закон. - 2004. -№ 3.- С. 97-100.
- Ильин, И. А. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) / И. А. Ильин // Правоведение. - 1992.- № 3. - С. 93-99.
- Квитко, А. Ф. Конституционно -правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: автореферат дис. ... канд. юрид. наук / А. Ф. Квитко. - М., 2007. - 27 с.
- Лебедев, В. А. Конституционные основы ограничений прав и свобод человека и гражданина / В. А. Лебедев // LexRussica. -2017. - № 1 (122). - С. 130-140.
- Малько, А. В. Стимулы и ограничения в праве / А. В. Малько. - Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1994. - 182 с.
- Победоносцев, К. П. Курс гражданского права. Первая часть. Вотчинные права / К. П. Победоносцев. URL: https://civil. consultant.ru/elib/books/15/page_72.html.
- Подмарев, А. А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Подмарев. - Саратов, 2001. - 235 с.
- Свиридов, Н. Л. Границы и ограничения по закону исключительного интеллектуального права: права интеллектуальной собственности: автореферат дис. ... канд. юрид. наук / Н. Л. Свиридов. - М., 2008. - 26 с.
- Сиракузские принципы толкования ограничений и отступлений от положений Международного пакта о гражданских и политических правах. URL: https://european-court-help.ru/wp-content/uploads/2020/04/ opendocpdf-1.pdf.
- Шабуров, А. С. «Ограничение права», «ограничения в праве», «правовые ограничения»: соотношение понятий / А. С. Шабуров // Юридическая техника. - 2018. - № 12. -С.365-371.
- Ягофарова, И. Д. Право как мера ограничения свободы: дис. ... канд. юрид. наук / И. Д. Ягофарова. - Екатеринбург, 2006. -206 с.