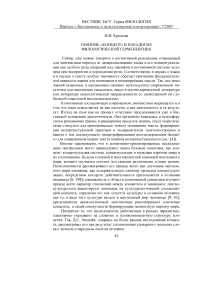Понятие «концепт» в парадигме филологической герменевтики
Автор: Крюкова Наталья Федоровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120456
IDR: 146120456
Текст статьи Понятие «концепт» в парадигме филологической герменевтики
ПОНЯТИЕ «КОНЦЕПТ» В ПАРАДИГМЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ
Сейчас уже можно говорить о когнитивной революции, означающей для лингвистики переход от деперсонализации языка к его концептуализации как особого рода операций над знаниями в когнитивной системе человека при восприятии и порождении речи. Соответственно в науках о языке и в науках о тексте особую значимость обретает признание фундаментальной важности знания для понимания и интерпретации мысли. Так, все типы знаний (языковые и неязыковые) активно используются современным читателем для заполнения смысловых лакун в постмодернистской литературе или литературе психологической направленности со свойственной ей глобальной смысловой неоднозначностью.
Когнитивная составляющая современной лингвистики выражается и в том, что язык осмысляется не как система, а как деятельность и ее результат. Взгляд на язык как на процесс отчетливо прослеживается уже в бахтинской концепции диалогичности. Она органично вписалась в атмосферу эпохи размывания границ и расширения пределов знания, стала теоретическим стимулом для принципиально нового понимания текста, формирования интертекстуальной практики в модернистском текстопостроении и вместе с тем последующего гипертрофирования постмодернизмом базового для современной теории текста понятия интертекстуальности (см.: [4]).
Вполне закономерно, что в когнитивно-ориентированных исследованиях центральное место принадлежит таким базовым понятиям, как концепт, концептуальная система, концептуальная и языковая картины мира и их соотношение. Будучи сложной и многоаспектной единицей ментального мира, концепт изучается сегодня под самыми различными углами зрения. Психолингвисты рассматривают его прежде всего как достояние ментального мира индивида, как содержательную единицу процесса концептуализации, посредством которого действительность преломляется в сознании индивида [6: 398]; специалисты в области когнитивной семантики изучают прежде всего характер отношений между концептом и значением; лингво-культурологи акцентируют внимание на культурологической составляющей концепта, определяя его как «сгусток культуры в сознании человека, как то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека» [9: 43], представители аксиологической лингвистики рассматривают ключевые концепты, в своей совокупности формирующие ценностную картину мира.
Интересно то, что исследователи, работающие в разных парадигмах, однозначно указывают на сложную и поликомпонентную структуру концепта. Так, Д.С. Лихачёв, опираясь на более ранние исследования концепта, рассматривал его как результат столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека.
Среди многочисленных вопросов, связанных со сложной природой концепта и способами его вербальной репрезентации, значительный интерес у исследователей вызывает вопрос о соотношении между концептом и его вербальной репрезентацией: модель сравнения и картирования Е. Вис-ниевского, гипотеза о тематическом разделении ролей, релятивная теория, психологическая модель восприятия отношений внутри словосочетаний К. Гагне и Е. Шобена, теория концептуально-интегрированных сетей и другие теоретические изыскания, акцентирующие внимание на проблеме пересечения концептуального и структурного уровней представления знаний и формирования когнитивно целостного понятия в процессе поиска точек возможного соприкосновения соотносимых понятий посредством их сравнения и идентификации места переноса признака.
Формирование концептуальной системы индивида как на довербаль-ном, так и на вербальном уровне происходит в естественной среде, на базе родной культуры, и ее становление осуществляется в определенной географической, климатической, политической и культурной (речь идет не только об обыденной, но и высокой и тонкой познавательной культуре) и социальной среде. Вся совокупность этих факторов среды находит свое отражение в содержании концепта.
Выделяя в качестве особой проблемы специфику отношений между концептом и его вербальной репрезентацией в языковом сознании билингвов, Л.А. Козлова при характеристике этих отношений признает, что они строятся по принципу асимметрии: один концепт - два слова; при этом специфика концепта в языковом сознании билингва заключается в том, что в нем синкретно совмещаются знания и образы двух культур [7].
Структурация концепта, его неоднородность стали очевидны исследователям с самого начала когнитивных исследований. Мнения об основных компонентах концептов высказывались различные [10]. Так, Ю.С. Степанов вычленяет в концепте обиходную, общеизвестную сущность, сущность, известную отдельным носителям языка, и историческую, этимологическую информацию. С.Г. Воркачев выделяет в концепте понятийную составляющую (признаковая и дефиниционная структура), образную составляющую (когнитивные метафоры, поддерживающие концепт в сознании) и значимостную составляющую - этимологические, ассоциативные характеристики концепта, определяющие его место в лексикограмматической системе языка. В.И. Карасик различает в структуре концепта образно-перцептивный компонент, понятийный (информационно-фактуальный) компонент и ценностную составляющую (оценка и поведенческие нормы). Г.Г. Слышкин вычленяет в структуре концепта, во-первых, основные и, во-вторых, дополнительные зоны, соответственно включающие: (1) признаки концепта, отражающие собственные признаки денотата, вкупе с признаками, извлекаемыми из паремий и переносных значений, и (2) формальные ассоциации, возникающие в результате созвучия имени концепта с другим словом, использованием эвфемизмов и др. М.В. Ники- тин вычленяет в концепте образ, понятие, когнитивный импликационал и прагматический импликационал. И.А. Стернин говорит о трех базовых структурных компонентах концепта: образе, информационном компоненте и интерпретационном поле. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство исследователей вычленяют в составе концепта образ, определенное информационно-понятийное ядро и некоторые дополнительные признаки; это очень важный момент, к которому мы еще вернемся ниже.
Итак, как уже отмечалось, появление когнитологии закономерно отражается на осмыслении текстовых проблем. Важность когнитивной составляющей подразумевают активно внедряемые в анализ текста понятия «(текстовый) концепт, «концептуальные основы текста», «концептосфера», «концептуальная система» / «картина мира (автора, читателя)», «концептуальное пространство» и т.д.
В этом отношении особую значимость представляют художественные концепты, так как они, будучи концептами духовной культуры, являются, по мнению Ю.С. Степанова, ее основными ячейками в ментальном мире человека [9: 43].
Герменевтика, таким образом, входя в лингвистику текста, представляющую собой интеллектуальный универсум науки, определенным образом оказывается в складывающейся в течение последних десятилетий парадигме когнитологии, предметом которой является структура знаний, и так или иначе использует понятия с концептуальной составляющей. Концепт – основное из таких понятий, оформляемое герменевтикой так, как по выражению Р.М. Фрумкиной, вообще писатели, философы, мудрецы, отцы Церкви оформляют в концепты то, что совместно вытесано культурным опытом отдельной личности и того сообщества, к которому эта личность принадлежит.
Для филологической герменевтики особый интерес в этом отношении представляют художественные концепты.
Художественные концепты – идеальные единицы авторского сознания – не даны исследователю и реципиенту непосредственно. Языковые способы их репрезентации пронизывают всю словесную ткань художественного произведения, создавая причудливый ментальный узор писательской кон-цептосферы. Индивидуально-авторский концепт – многослойное образование, включающее в свой состав предметный, понятийный, образный, ассоциативный, символический и ценностно-оценочный компоненты.
Межпарадигматическое употребление термина диктует необходимость представлять, в каком месте лингвистических исследований ты находишься, насколько последовательно соблюдаешь правила моделирования, принятые в данной парадигме, каковы твои предмет и объект, в чем состоит методологическая процедура, насколько получаемая модель приближается к феномену или удаляется от него.
Путь лингвокогнитивного исследования часто пролегает по следующим маршрутам. Сначала отделяют «душу» от «тела» [5: 2] – языковой знак от того субъективного содержания, которое в него вкладывал говорящий. Сам говорящий отграничивается от собственного речевого произведения, структур сознания и стратегий смыслоразвертывания, перестает «существовать» в пространстве моделирования. Потом вычлененное содержание приписывают всему языковому коллективу на основании того, что процедуры производились не в рамках индивидуальной смысловой системы, воплощенной в тексте или корпусе текстов, а в границах отдельно взятых высказываний, потерявших адресанта. В дальнейшем полученные данные соединяют сначала во фрагментах, затем – в целостной модели, например, модели концепта, концептосферы, «частного» языкового сознания – этического, эстетического.
Послойная модель художественного концепта, предложенная И.А. Тарасовой [11], является модификацией психолингвистической модели концепта, разработанной В.А. Пищальниковой. И.А. Тарасова предлагает различать четыре типа концептуальных структур: предметные концепты, гештальты, сочетающие в своем ядре чувственно воспринимаемые и логические признаки, образно-схематические и эмоциональные концепты. Тип концепта предопределяет способ его вербализации.
И.А. Тарасова спорит с Л.Г. Бабенко [1: 67], принимающей понятие когнитивно-пропозициональной структуры за основной способ репрезентации концепта. Индивидуальный концепт – это перцептивно-когнитивноаффективное образование (А.А. Залевская), и любой крен в сторону логического постижения мира искажает не только природу художественного творчества, но и природу человеческого познания вообще.
Наблюдения И.А. Тарасовой позволяют сформулировать некоторые общие положения методологического характера.
-
1. Языковые средства воплощения художественного концепта необычайно разнообразны. Чем тщательнее проведен семантико-стилистический анализ художественного текста, тем большее количество концептуальных признаков будет зафиксировано исследователем, тем четче вырисовывается сеть межконцептуальных взаимодействий в индивидуально-авторской концептосфере.
-
2. Ввиду континуальности поэтической концептосферы описание одного концепта неизбежно влечет за собой рассмотрение соседствующих с ним концептуальных образований, выявление «узлов» когнитивного взаимодействия. Как горизонтальные, так и вертикальные связи между концептами по возможности должны быть эксплицированы.
-
3. Независимо от начального этапа концептуального анализа (выявление прототипического предметного представления, структуры базовой эмоции, заполнения топологической схемы или когнитивнопропозициональной структуры), на конечном этапе индивидуальноавторский концепт должен быть представлен как многомерное образование, отягощенное индивидуально-авторскими ассоциациями, символическими и образными компонентами.
Все приведенные четыре положения вновь указывают на сложную структуру концепта, о которой говорилось выше. Филологическая герменевтика усугубляет эту сложность, рассматривая индивидуально-авторский концепт в контексте воспринимающего и понимающего текст субъекта. Неизбежные при этом модификации заставляют говорить о художественном индивидуально-авторском концепте как смысле, метасмысле и художественной идее произведения. При образовании этих смысловых единиц рефлексия методологического типа вооружает субъекта понимания концептами как «инструментами» для понимания и познания того, что ещё только предстоит понять и познать. Если при лингвокогнитивном подходе рефлексия онтологического типа помогает прирастить знание для формирования концепта, при психолингвистическом подходе рефлексия гносеологического типа помогает увидеть, как чье-то знание и понимание относится к действительности, то рефлексия методологического типа превращает художественную идею в великое средство социального познания того, что действительно является новым [3: 53]. Рефлексия при множестве определений ее категориальной сущности есть обращение сознания на опыт, обращение человеческой души на самое себя. В филологической герменевтике она определяется как связка между наличным опытом и осваиваемым познаваемым образом. Концепт в данном случае предстает как особый вид хранения в человеческой памяти знаний – одна из точечных целей рефлексии, обращенной «вовнутрь» – на нашу субъективность. Рефлексия обращена и «вовне» – на то, что мы хотим освоить: индивидуальноавторские концепты, опредмеченные в художественном тексте. Таким образом, рефлективные процессы определяют и концептуальное понимание, и понимание (формирование) концептов.
Например, исследователи указывают на традиционный концепт «рябина» в стихотворениях М. Цветаевой [8]. Доминирующим для поэтессы является эксплицитный способ воплощения данного концепта, когда для его репрезентации используются готовые лексемы рябина, рябиновый, но в некоторых поэтических текстах концепт «рябина» воплощен имплицитно, как, например, в стихотворении «Час души».
Ржавь губы, пороши Ресницы снегом. (Атлантский вздох души, Души - в ночи...)
В тот час, душа, мрачи Глаза, где Вегой Взойдёшь ... Сладчайший плод, Душа, горчи .
Горчи и омывай:
Расти: верши.
В данном случае с помощью подчеркнутых слов передаются зрительные и вкусовые ощущения от ягод рябины. В результате в этих строках наряду с основным содержанием имплицируется и содержание концепта «рябина». Этот концепт в сознании носителей современного русского языка включает общенациональный компонент «рябина-дерево» с национальной спецификой «рябина-одиночество». В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1992) дается такая словарную дефиниция: Рябина . Дерево или кустарник семейства розово-цветных с собранными в кисти горьковатыми оранжево-красными плодами (ягодами), а также сами ягоды. Тонкая, одинокая р. (также перенос. в песнях: символ одинокой женщины).
Исследуемый концепт в стихотворных текстах М. Цветаевой имеет индивидуальные компоненты «рябина – судьбина», «рябина – малая родина», «рябина – Россия», которые приобрели символическое значение.
Однако по своему объему концепт «рябина» в сознании лирического героя Цветаевой еще шире: ржавые как рябина, искусанные до крови губы; невидящие (запорошенные и помраченные от слез), но не спящие в ночи глаза; необыкновенные по силе муки тяжёлые вздохи (аллюзия на мифологических атлантов); растущая в душе горечь при воспоминании о самом сладком (как, напротив, горькие плоды рябины, припорошенные первым снегом, становятся сладкими); омытая слезами горечь, рождающая муки творческого порыва – такова герменевтическая концептуализация, формирующая смысл «боль души как боль ностальгии по родине, переплавляющаяся в стихи».
Можно сказать, что имплицитное воплощение концепта в тексте есть ничто другое как его метафоричность. Сложность и многоплановость метафоры как средства, задающего параметры рефлективного действования с текстом, заставляют вспомнить о множественности и неоднородности компонентов в составе самого концепта, определяющих, по мнению исследователей, главные особенности его содержания, на важность которых мы просили обратить внимание выше. В этом смысле можно утверждать, что человек как концептуален, так и метафоричен по своей сути. В заключение хочется поддержать тезис о принципиальной полипарадигмальности (даже не межпарадигмальности, которая все-таки допускает доминирующее влияние какой-то одной из парадигм) познания. Все громче заявляющий о себе переход на поли – логическую позицию (см. об этом: [2]) означает взаимоотношение, взаимосоотнесение и гармонически-полифоническое единение всех возможных парадигм без ущерба для каждой.