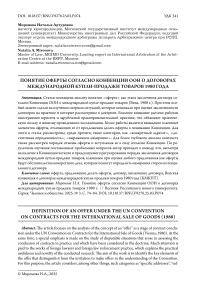Понятие оферты согласно Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
Автор: Миронова Н.А.
Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу понятия «оферта» как этапа заключения договора согласно Конвенции ООН о международной купле-продаже товаров (Вена, 1980 г.). При этом особый акцент сделан на изучении спорных ситуаций, которые возникали при оценке заключенности договоров на практике и которые рассмотрены в доктрине. Большое внимание уделено работам иностранных юристов и зарубежной правоприменительной практике, что объясняет практическую пользу и новизну проведенного исследования. Целью работы является выявление ключевых элементов оферты, отличающих ее от предложения делать оферты в понимании Конвенции. Для этого в статье рассмотрены, среди прочего, такие категории, как «конкретный адресат», «достаточная определенность», «выраженное намерение». Для более глубокого анализа контекста также рассмотрен порядок отмены оферты и вступления ее в силу согласно Конвенции. По результатам изучения поставленных проблемных вопросов автор приходит к выводу, что, несмотря на наличие в Конвенции четкого и предсказуемого регулирования порядка заключения договоров международной купли-продажи товаров, ключевым при оценке любого предложения как оферты будут обстоятельства конкретного дела, которые помогут определить намерения сторон потенциального договора.
Оферта, предложение делать оферты, договор, заключение договора, Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года (КМКПТ)
Короткий адрес: https://sciup.org/148331468
IDR: 148331468 | УДК: 341 | DOI: 10.18137/RNU.V9276.25.03.P.074
Текст научной статьи Понятие оферты согласно Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
Представляя собой согласованную волю двух и более лиц, договор всегда начинается с оферты – волеизъявления инициатора. Таким образом, ее содержание и форма предопределяют суть будущего договора, а значит, и являют предпосылки возможным спорам – как относительно замысла сторон (о чем договорились?), так и относительно самого факта заключенности договора (а договорились ли вовсе?). Особенно сложными эти вопросы становятся, когда договаривались лица из разных стран – носители разных культур, языков, представители разных правовых традиций.
Унифицировать подходы к общеупотре-бимым понятиям договорного права призваны международно-правовые инструменты «твердого» и «мягкого» права. Работе в этом направлении посвящена деятельность Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), которая уже более 50 лет занимается актуальными вопросами регулирования трансграничной коммерции1.
Одним из ярких примеров результата эффективной работы ЮНСИТРАЛ стала
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров, заключенная в Вене в 1980 году (далее – Конвенция, Венская Конвенция). По данным ООН, сегодня участниками Конвенции являются 97 го-сударств2, что свидетельствует о большом признании этого акта – не только как кульминации теоретической мысли юристов-международников в сфере торгового права, но и как механизма практического, представляющего регулирование, приемлемое (и применимое) для регулирования отношений лиц из самых разных юрисдикций.
В настоящей статье мы предлагаем рассмотреть, каким образом оферта регулируется Венской Конвенцией, обратив внимание на замысел ее создателей и вопросы, возникающие на практике в ходе ее применения.
Основными нормами, регулирующими оферту в Конвенции, являются ее статьи с 14 по 17, где раскрыты такие подвопросы, как понятие оферты, возможность ее отмены и отзыва, а также вступление ее в силу.
«Предложение о заключении договора, адресованное одному или нескольким кон-
76 Вестник Российского нового университета76 Серия: Человек и общество. 2025. № 3.
кретным лицам, является офертой, если оно достаточно определенно и выражает намерение оферента считать себя связанным в случае акцепта» , – гласит предложение первое пункта 1 статьи 14 Конвенции1.
Следуя логике составителей Конвенции, автор настоящей работы, опираясь на доктрину, судебную и арбитражную практику, последовательно раскроет, когда предложение считается «адресованным одному или нескольким конкретным лицам» , что следует понимать под «достаточной определенностью» и «намерением оферента считать себя связанным в случае акцепта» .
По замыслу составителей Конвенции адресованность конкретным лицам должна стать одним из условий оферты [1, p. 71]. Особое внимание при этом Секретариат ЮНСИТРАЛ уделил тому, что, если в предложении не ограничен круг адресатов, оно тем не менее может быть офертой, если из текста предложения явно следует намерение отправителя заключить договор (например, когда указывается, что товар будет продан первому отозвавшемуся лицу)2. Таким образом, на первый план выводится требование о наличии намерения оферента быть связанным своим предложением.
Среди прочего, Секретариат ЮНСИТРАЛ отметил в своем комментарии 1978 года, что реклама или каталог, направленные конкретному лицу, при соблюдении остальных двух условий в рамках ст. 14 Конвен- ции, должны считаться офертой, в отличие от ситуации, когда такие каталоги и рекламы распространяются публично3. Возникает вопрос: поменялся ли подход к этой проблеме с оптимизацией коммуникации, регулярными рассылками по электронной почте и т. п. Ссылаясь на ряд исследователей, Ф. Феррари отмечает, что сегодня направление каталогов и прочей рекламной продукции не должно рассматриваться в качестве оферты [2, c. 226].
На практике спорной оказывается также ситуация, когда предложение направляется агенту продавца, если при этом покупатель добросовестно полагает, что характерное исполнение, а значит, и акцепт будут осуществляться именно стороной по соглашению, то есть агентом. В этом отношении интересна позиция австрийского правоприменителя4, который считает, что если оферент не знал и не мог знать о том, что общается по поводу заключения договора с агентом другого лица, то действия принципала, в том числе непосредственное исполнение договора, акцептом не являются. В этой позиции находит отражение принцип «оферта может быть принята только ее адресатом» (то есть лицом, указанным в оферте, кроме случаев, когда оферент знал и не мог не знать о том, что ведет переговоры с агентом другого лица-исполнителя по будущему договору) и принцип предсказуемости поведения сторон коммерческого оборота.
Понятие оферты согласно конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года
С другой стороны, в контексте определенности сторон стоит иметь в виду и сложности, связанные с неоднозначностью личности оферента, когда, например, оферту направляет дочерняя компания или агент потенциальной стороны договора. В практическом смысле это важно для определения надлежащей стороны по иску к оференту. У.Г. Шрётер пишет: «хотя положения п. 1 ст. 14 напрямую об этом не говорят, личность оферента… должна быть определимой» , то есть прямо следовать из оферты или быть выводимой из заявлений и поведения сторон по ст. 8 Конвенции [3, c. 270–271].
Такому подходу, в частности, следуют немецкие суды. Например, суд Франкфурта-на-Майне в 2000 году решил, что оферта недействительна, когда нельзя точно определить оферента, поскольку из такой «расплывчатости» предложения следует отсутствие намерения отправителя заключить договор (в описываемом деле неясность возникла из-за схожести наименования швейцарской материнской и индийской дочерней компаний, при этом вторая направила инвойс покупателю в интересах первой)1.
В этом же году суд Штутгарта рассматривал схожее дело, где, однако, велись более активные переговоры между покупателем из Испании и самостоятельной испанской дочерней компанией немецкого производителя, которая в итоге и была указана в оферте как продавец. В этом случае суд признал дочернюю компанию стороной по договору2. Таким образом, немецкий и австрийский подход в очень обобщенном виде можно свести к тому, что сторонами будущего договора в случае неопределенности считаются лица, указанные в оферте как ее отправитель и получатель, что, на первый взгляд, кажется очевидным, но может вызывать затруднения на практике при определении того, в чей адрес предъявлять требования.
Одним из условий оферты согласно п. 1 ст. 14 Конвенции является «достаточная определенность» предложения, то есть когда «в нем обозначен товар и прямо или косвенно устанавливаются количество и цена либо предусматривается порядок их определения» 3.
Что касается товара , то нет строгих требований к его описанию в оферте. В частности, качество товара может быть описано примерно, если при этом разумное лицо на месте адресата оферты может понять, какой товар имеется оферентом в виду, и воспринять оферту как достаточно определенную4. Однако если стороны прилагают усилия к согласованию каче-
Вестник Российского нового университета Серия: Человек и общество. 2025. № 3.
ства товара, но не приходят в этом вопросе к общему знаменателю, то договор не может считаться заключенным 1.
Количество товара может быть как прямо оговоренным, так и «выводимым» из предложения. Количество считается указанным, даже когда оно сформулировано неконкретно, например: «весь доступный товар» или «сколько потребуется поку-пателю»2. При этом как количество, так и цена товара могут подлежать определению третьим лицом (например, экспертом) [3, c. 275; 4].
Цена товара может также быть четко определенной или «выводимой»3 [4]. Это условие удовлетворено и в случае, когда цену по условиям оферты будет определять независимая третья сторона (объективное определение цены), и когда цена будет зависеть от усмотрения стороны по договору, обычно – продавца (субъективное определение цены) [3, c. 277; 4]. При этом последний вариант допускается Конвенцией, но может не допускаться применимым национальным правом, и в таком случае такое условие о цене будет недействительным [1, c. 75; 3, c. 277; 4;]. Если какое-то из условий соглашения является недействительным по применимому в силу международного частного права (ст. 7 Конвенции) национальному праву, то это условие считается отсутствующим в предложении, то есть когда такие условия существенны, оферта считается не состоявшейся [3, c. 272; 4].
Что касается подразумеваемого указания на количество и цену товара, то оно выводится, во-первых, из фраз оферты, а во-вторых, из обстоятельств в соответствии со ст. 8 Конвенции [3, c. 273]. Так, У.Г. Шрётер приводит пример, когда в оферте и акцепте отсутствовало указание на цену, однако суд признал договор заключенным и цену вывел из практики, сложившейся между сторонами4 [3, c. 273]. В этом случае покупатель из договора в договор заказывал товар по определенной цене, но затем в оферте и акцепте вопрос цены был опущен. Суд решил, что стороны подразумеваемо согласились на цену, использованную ранее.
Следует отметить, что особое внимание доктрина и практика уделяют вопросу соотношения условий о цене из ст. 14 Конвенции (по которой без прямо выраженного или подразумеваемого предложения относительно цены оферта не имеет места) и из ст. 55 Конвенции (которая закрепляет порядок «восполнения» договорного положения о цене). Выделим основные подходы к соотношению ст. 14 и 55 Конвенции.
Понятие оферты согласно конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года
Во-первых, страны, сделавшие оговорку в порядке, предусмотренном ст. 92 Конвенции, о неприменимости части II Конвенции, могут учитывать положения ст. 55 для определения цены в случае отсутствия согласия сторон относительно этого условия [4].
Во-вторых, следует делать акцент на том, что ст. 55 посвящена случаям, когда договор был действительным образом заключен . Поскольку Конвенция не предусматривает правил разрешения вопросов о действительности договоров, эту проблему надлежит рассматривать в соответствии с применимым национальным правом, что следует из ст. 4 Конвенции. Таким образом, алгоритм из ст. 55 Конвенции применим в случаях, когда договор будет действительным в рамках конкретной правовой системы (как в случае англо-американского подхода, когда цена не является существенным условием договора). При этом объяснения того, что стороны в рамках Конвенции имеют право опустить цену и тем не менее заключить договор, обычно основываются на ст. 6 Конвенции (об автономии воли сторон) [1].
Существуют и другие точки зрения относительно соотношения ст. 14 и 55 Конвенции. Например, есть позиция, по которой ст. 55 Конвенции имеет «приоритет» над ст. 14 Конвенции [1, c. 76–77; 3, c. 279; 4], но в таком случае неизбежно встает вопрос, а зачем вообще в ст. 14 Конвенции есть указание на цену. Есть и обратная позиция о том, что приоритет должно иметь положение ст. 14 Конвенции, но тогда опять же встает вопрос о цели ст. 55 Конвенции [Там же]. Так или иначе, задачей правоприменителя по смыслу Конвенции в случае спора будет выявление воли сторон – прямо выраженной, выводимой из обстоятельств или презюмируемой в силу положений ст. 55 Конвенции [3, c. 281].
При этом важно не допускать недобросовестного поведения сторон, включая отказ от исполнения договора с «искусственной» ссылкой на якобы незаключенность договора, в том числе из-за несогласованности цены. Поэтому в контексте определения в оферте цены (как, в целом, и любого другого условия) следует помнить о праве сторон в силу ст. 6 Конвенции отклоняться от правил акта, а следовательно, если обе стороны подтвердили своими действиями факт заключения договора [5, c. 272], то ссылаться потом на отсутствие цены в оферте и на отсутствие соглашения между сторонами недопустимо [3, c. 281; 4; 5, c. 276; 6, c. 72]. Ряд авторов отдельно отмечают, что вообще вопрос о согласованности цены как об условии заключенности договора должен подниматься исключительно в отношении договоров, по которым еще не произведено и не принято характерное исполнение1 [7, c. 129].
Примечательно, что в зависимости от обстоятельств могут быть и иные существенные условия (кроме прямо названных Конвенцией) предложения, без которых оно не будет считаться офертой по смыслу акта. В частности, это случаи, когда из торговых обычаев в конкретной области или из установленной между сторонами практики следует необходимость согласования дополнительных элементов будущего договора для его заключения, при отсутствии условий о таких элементах предложение не будет являться достаточно определенной офертой [3, c. 271; 4].
80 Вестник Российского нового университета80 Серия: Человек и общество. 2025. № 3.
Что касается судебной и арбитражной практики по вопросам достаточной определенности оферты, то интересными кажутся выводы правоприменителей в следующих делах.
В одном из российских арбитражных решений третейский суд вынес решение о незаключенности договора из-за несогласованности положений о цене (Международный коммерческий арбитражный суд, решение от 03.03.95 по делу № 304/1993). При этом состав арбитров нашел неприменимой ст. 55 Конвенции, поскольку стороны «подразумеваемо согласились», что цена должна быть согласована в будущем, но не указали, когда, и не пояснили способ ее определения [8, с. 46–53]. Таким образом, третейский суд решил, что положение о цене является существенным условием договора, а значит, без согласования цены договор не должен считаться заключенным. Это решение, однако, критикуется в доктрине [5, c. 278].
В сравнении с этим подходом кажется интересным решение окружного суда Нойбранденбурга (Германия) от 3 августа 2005 года1 Суд Нойбранденбурга рассматривал договор поставки сезонного продукта, где стороны согласились обсуждать стоимость поставок в зависимости от сезона и принимать решения индивидуально по каждой поставке. Несмотря на схожесть ситуаций с ранее рассмотренным делом, суд Нойбранденбурга признал договор заключенным, объяснив это тем, что из всех сопутствовавших переговорам обстоятельств следует, что стороны намеревались определять цену по среднерыночной стоимости товара на момент его закупки. Таким образом, положение о цене суд Нойбранденбурга счел согласованным, а договор заключенным.
Так или иначе, общая логика в рассмотренных автором настоящей работы решениях судов и арбитражей, а также доктринальных источниках по вопросу «достаточной определенности» оферты сводится к тому, что когда характерное исполнение по договору было произведено одной стороной и принято другой, то в целях восстановления справедливости договор считается заключенным (если это не противоречит положениям национального права о действительности договора). Что касается цены, то ее выводят либо из прямого или косвенного волеизъявления сторон (по ст. 14 Конвенции), либо из подразумеваемого согласия сторон на оплату товара по среднерыночной стоимости (по ст. 55 Конвенции). Все это направлено в том числе на предотвращение недобросовестной ссылки покупателя на якобы незаключенность договора.
Особенно важное значение для наличия оферты имеет то, был ли отправитель предложения намерен быть им связанным в случае акцепта, а также знал ли (или должен был знать) об этом намерении адресат оферты (или любое разумное лицо на его месте и в тех же обстоятельствах). Такое намерение играет важную роль, в том числе как критерий разграничения оферты и приглашения делать оферту [1, c. 71; 3, c. 284; 6]. Для определения наличия намерения следует оценивать все относящиеся к делу обстоятельства в порядке, предусмотренном ст. 8 Конвенции [2, c. 228; 3, c. 282–283; 6, c. 69].
Согласно указанной статье суд или состав арбитров должны попробовать найти
Понятие оферты согласно конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года
совпадающую волю сторон (п. 1 ст. 8), которая определима, когда намерение оферента было доведено до сведения адресата оферты [9, c. 149; 10, c. 91]. Если такое «совпадающее намерение» сторон найти не получается, то применяется так называемый «объективный тест», по которому следует установить, с учетом всех связанных с делом обстоятельств, как поведение оферента восприняло бы разумное лицо на месте другой стороны (п. 2 ст. 8). При применении как п. 1, так и п. 2 ст. 8 Конвенции следует учитывать обычаи, установленную между сторонами практику, их последующее поведение, например, направление предложенного товара контрагенту1 [3, c. 283].
Так, если стороны установили практику по соблюдению определенной процедуры заключения договоров, то она должна применяться. Например, может быть выработана практика направления сначала «твердого предложения» (“firm bid”), закрепляющего существенные условия будущего договора, однако не являющегося офертой в силу практики, после которого следует согласование сторонами остальных условий, после чего уже заключается договор [3, c. 283]. Как наиболее очевидные примеры наличия намерения стороны заключить договор в практике трактуются фразы «заказываем», «просим срочно поставить» и т. п.2.
Примечательно, что оферент может поставить действительность своего предложения под условие, это обстоятельство само по себе не будет препятствовать констатировать, что оферент намеревался быть связанным договором в случае акцепта [3, c. 287; 4].
В этом контексте следует также обозначить, что направляемый документ с предложением не обязательно доложен именоваться «офертой» (может быть названным и “letter of confi rmation”, “pro forma invoice” или “invoice” ), главное – чтобы он подпадал под критерии, определяемые Конвенцией [3, c. 269, 284].
Если лицо не хочет быть связанным своим предложением, то об этом необходимо сообщить другой стороне, например, путем оговорок «без принятия на себя обязательств» ( without obligation ), «условия подлежат закреплению в договоре» ( subject to contract ) [4].
Согласно пункту 2 ст. 15 Конвенции, «оферта, даже когда она является безотзывной, может быть отменена оферентом, если с оо бщение об отмене получено адресатом оферты раньше, чем сама оферта, или одновременно с ней» 3.
По задумке создателей Конвенции рассматриваемое положение касается отмены (withdrawal) оферты (до поступления ее адресату, а значит, до вступления оферты в силу), которую следует отличать от
82 Вестник Российского нового университета82 Серия: Человек и общество. 2025. № 3.
отзыва (revocation) оферты по ст. 16 Конвенции (после поступления предложения адресату, а значит, после вступления оферты в силу)1 [1, с. 80].
Отмена предложения до получения его адресатом возможна и в том случае, когда оферта является безотзывной. Это объясняется в том числе и коммерческой целесообразностью – до получения предложения потенциальный акцептант не полагается на него и у адресата оферты еще не возникает интересов, подлежащих защите [1, c. 80].
При разработке Конвенции возникли сложности, связанные с оценкой, считать ли действительную (полученную) оферту отзывной или безотзывной, что вызвано разницей в подходах общего и континентального права [1, c. 81].
Пункт 1 ст. 15 Конвенции закрепляет: «Оферта вступает в силу, когда она получена адресатом оферты» . По общему правилу отзыв считается вступившим в силу тоже в момент получения его адресатом [4]. Что касается формы отзыва, то он не обязательно должен быть сделан аналогично самой оферте (за исключением случаев, когда страны, где находятся стороны договора, сделали соответствующие оговорки о форме при подписании Конвенции) [3, c. 315; 11, c. 133].
Примечательно, что расходятся точки зрения по вопросу о том, когда вступает в силу публичная оферта (и, соответственно, ее отзыв). Одни авторы считают, что этот момент наступает при размещении информации о предложении [3, c. 314; 4]. Другие придерживают- ся мнения, что для вступления публичной оферты в силу необходимо, чтобы ее «получили» потенциальные акцептанты, то есть чтобы они узнали о предложении (или должны были узнать при обычном положении дел) [7].
Существуют следующие предлагаемые доктриной и практикой случаи, когда оферта становится безотзывной:
-
1) когда отправлен акцепт (то есть не только непосредственно, когда он получен и договор заключен) [1];
-
2) исходя из п. 2 ст. 16 Конвенции, когда оферта сама указывает на свою «безотзывность» и получателю разумно рассматривать оферту в качестве таковой. Является ли указание в предложении на его безотзывность тем или иным образом достаточным, определяется исходя из правил ст. 8 Конвенции. Например, такие фразы, как «оферта безотзывна», «обязательна» и т. п. следует рассматривать как указание на ее безотзывность [1, c. 82]. При этом интересно, что из-за разницы подходов к безотзывности оферты в системах континентального и общего права по-разному могут толковаться использованные оферентом фразы. Так, когда оферент и адресат оферты оба «происходят» из стран общего права, то, согласно одной из точек зрения, указание на конкретный срок для принятия оферты будет «пониматься» разумным лицом на месте акцептанта в качестве лишь момента, когда оферта истекает, но не в качестве срока, когда она безотзыв-на [1, c. 83]. Обратная ситуация с лицами из континентальной системы права1;
Понятие оферты согласно конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года
-
3) когда одновременно для адресата оферты было разумно полагаться (оценивается по ст. 8 Конвенции) на безотзывность предложения и адресат вел себя (действовал или бездействовал – например, готовился исполнять договор), полагаясь на оферту [1, c. 83; 3, c. 324; 6; 11, c. 134].
Оферта прекращает действовать при ее прямой отмене, истечении срока действия (прямо установленного офертой или разумного), в силу отказа адресата принимать оферту.
Таким образом, проведенный анализ свойств оферты по Венской Конвенции приводит к выводу, что несмотря на наличие в Конвенции четкого и предсказуемого регулирования порядка заключения договоров и критериев «конкретного адресата» и «достаточной определенности», ключевым при оценке сообщения в качестве оферты будут обстоятельства конкретного дела, которые помогут определить намерения сторон потенциального договора как предпосылку для заключения соглашения.