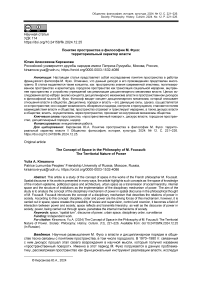Понятие пространства в философии М. Фуко: территориальный характер власти
Автор: Кирсанова Юлия Алексеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья представляет собой исследование понятия пространства в работах французского философа М. Фуко. Отмечено, что данный дискурс в его произведениях представлен многогранно. В статье выделяются такие концепты, как: пространство знания современной эпистемы, политизированное пространство и архитектура, городское пространство как трансляция социальной иерархии, внутреннее пространство и устройство учреждений как реализация дисциплинарного механизма власти. Целью исследования автор избрал анализ концепта дисциплинарного механизма власти в пространственном дискурсе в философской мысли М. Фуко. Философ вводит концепт дисциплинарного механизма, который описывает отношения власти в обществе. Дисциплина, порядок и власть - его движущие силы, однако, осуществляется он в пространстве; оно создает возможность обозрения и надзора, контроля и принуждения, становится полем взаимодействия власти и общества; пространство отражает и транслирует иерархию, а также дискурс власти в обществе; власть, осуществляясь через пространство, проникает во внутренние механизмы общества.
Пространство, «пространственный поворот», дискурс власти, городское пространство, дисциплинарный порядок, надзор
Короткий адрес: https://sciup.org/149146694
IDR: 149146694 | УДК: 114 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.25
Текст научной статьи Понятие пространства в философии М. Фуко: территориальный характер власти
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия, ,
Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia, ,
механизмы функционирования власти в обществе. Философ, по его собственному выражению, «увлекается»1 пространством немногим раньше, в годы написания работы «Слова и вещи», когда он активно вводит в свой вокабуляр пространственные метафоры, которые помогают ему исследовать современную эпистему и тенденцию «опространствления» знания. В дальнейшем это поможет Фуко проанализировать общественные процессы, управление и власть в обществе.
В статье «Пространственный поворот и возможность новационных подходов в социально-философском дискурсе» Т.И. Макогон подчеркивает значимость исследований А. Лефевра и М. Фуко для становления социального определения пространства: «Возвращаясь к А. Лефевру и М. Фуко, можно говорить о социально-пространственной диалектике, основная мысль которой в том, что общественные процессы образуют также пространственные формы, как пространство предопределяет общественные процессы. Таким образом, можно относительно легко утверждать, что общественные процессы чеканят, окрашивают пространственные формы» (Макогон, 2012: 170).
Оба философа понимали значимость влияния города и городского пространства на социальные отношения. Позицию М. Фуко считают основополагающей в изменении мышления, осознающего пространство, и, собственно, в «пространственном повороте», хотя сам автор не инициировал этот переход. Также серьезный вклад в утверждение «пространственного поворота» внес П. Бурдье. Он дал развернутое представление о структуре социального пространства, полно и емко развивал свою концепцию символической власти в нем. У П. Бурдье пространство присвоено властью, и все его элементы это транслируют. Мыслитель видит власть в негативном ключе и называет ее проявление в пространстве «символическим насилием». Главным ретранслятором власти выступают архитектурные пространства, они сообщают телу приказы, адресуемые властью, – таким образом власть утверждается и осуществляется (Бурдье, 2005).
Новая утверждавшаяся парадигма представляла пространство как общественное или продуцируемое социумом. Следуя за рассуждениями М. Фуко и П. Бурдье, видим, что оно изучалось как динамичный процесс. Также утверждалось, что пространство не просто производится обществом, а управляемо в этом властью – оно политизировано, а власть территориальна.
В исследовании используются различные инструменты метода философского анализа, применяемые к понятию «пространство» в философском наследии М. Фуко. Методы теоретического исследования: анализ, индукция, дедукция и сравнение позволили концептуализировать понятие пространства как значимой единицы дисциплинарного порядка, который обнаруживает в своих исследованиях М. Фуко. Системный метод позволил обобщить полученные в ходе анализа смыслы, свойства и значения пространства, которые обнаруживает философ.
Результаты . В одном из известных интервью, посвященном теме власти и опубликованном в сборнике «Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью», французский философ М. Фуко (1926–1984) развивает тему политизированности архитектуры и пространства, в частности, городского. И градостроительство, и архитектура, согласно его мнению, играют большую роль в техниках управления. Эту взаимосвязь власти и пространства, в котором она реализуется, философ обнаруживал во все времена истории европейского общества, однако, начиная с XVIII в., интерес к архитектуре становится очевидным и занимает умы политиков своего времени. «В рассматриваемую эпоху была открыта идея общества, и это было одним из великих открытий политической мысли конца XVIII в. Стало ясно, что правительство должно не только управлять некоей территорией со своими подопечными, но еще иметь дело со сложной и самостоятельной реальностью, которая обладает собственными законами и механизмами реакции, собственной регламентацией и собственными возможностями беспо-рядка»2. Речь идет об открытии общества со всей его сложной структурой и социальными отношениями как объекта управления. При этом оно формирует социальное пространство на территориях нахождения, и задачей управленческих действий становится реализация власти через пространство, в том числе социальное. М. Фуко размышляет о том, что избыточная власть и излишнее управление только ухудшают ситуацию. Власть должна быть естественно интегрирована во все структуры общества, и решение этому было найдено в XVIII–XIX вв.: «[...] возникла идея полиции, которой удалось проникнуть во все механизмы общества, стимулировать, регламентировать их и сделать их функционирование как бы автоматическим»3. Таким образом, власть проникает во внутренние механизмы общества.
Также М. Фуко подчеркивает роль пространства в изменении и усложнении управленческих техник и реализации власти. После того как общество было открыто во властном дискурсе как самостоятельная реальность, управление в государстве отошло от прежнего опыта ориентации на территорию. Однако пространственный аспект остался важным в вопросе реализации политической власти: «Возникло, следовательно, много проблем в отношениях между осуществлением политической власти и пространством, или городским пространством – и отношения эти были совершенно новыми»1. Помимо бунтов, революций, болезней и эпидемий, которые возникают в городах, М. Фуко выделяет также новый пространственный аспект – появление железных дорог, то есть сети коммуникаций, которые порождают новые социальные феномены и, безусловно, влияют на общество: «Во Франции появилась теория, согласно которой железные дороги благоприятствовали общению между народами, и возникшие благодаря этому формы человеческой универсальности сделали войну якобы невозможной»2. Кроме того, само представление о пространстве изменилось: оно больше не измеряется трехмерно, подобно геометрическому явлению, а усложняется за счет социальных отношений, коммуникаций и скорости. М. Фуко отмечает, что прежде «хозяевами» пространства считались архитекторы, планировавшие и застраивавшие городские пространства, но начиная с XIX в. ситуация изменилась: преобразуют и оформляют пространство теперь инженеры мостов, автомобильных и железных дорог.
Тем не менее, как уже было сказано ранее, архитектура все же имеет отношение к власти и политическому управлению. М. Фуко пишет об этом так: «Для меня архитектура – в очень смутных анализах, которые я сумел провести, – образует исключительно некий элемент опоры, которая обеспечивает известное распределение людей в пространстве, канализирует их циркуляцию, а также кодифицирует их взаимоотношения. Следовательно, архитектура образует не только элемент пространства: она мыслится вписанной в поле социальных отношений, в рамках которых вводит известное количество специфических последствий»3. Архитектура воспроизводит иерархию социальных отношений. Показательным примером, к которому сам Фуко прибегал не раз, является военный лагерь, выстроенный и организованный по принципу иерархии, а кроме того, «он – высшая сфера власти, которая, поскольку она воздействует на вооруженных людей, должна обладать большей силой, но и большей сдержанностью, большей эффективностью и превентивной ценностью» (Фуко, 1999: 250). Власть здесь не только осуществляется, но и невидимо присутствует за счет надзора, и именно структура, внутренняя организация лагеря создает эффект обсерватории, что и делает возможным надзор. «Лагерь – диаграмма власти, действующей путем организации общей и полной видимости» (Фуко, 1999: 251).
Отталкиваясь от анализа современных учреждений (а именно их архитектуры и внутренней планировки), устроенных по принципу лагеря или «обсерватории человеческих множеств» (Фуко, 1999: 250), М. Фуко переносит архитектуру в проблемное поле властного дискурса и видит ее цель не в украшении культурного пространства, и даже не в функциональном назначении. Архитектура, по его мнению, служит цели контроля, упорядочиванию отношений в обществе и регулированию этих отношений: она «теперь призвана быть инструментом преобразования индивидов: воздействовать на тех, кто в ней находится, управлять их поведением, доводить до них проявления власти, делать их доступными для познания, изменять их» (Фуко, 1999: 251).
В труде «Надзирать и наказывать» (1975) М. Фуко анализирует городские учреждения, пространства которых отражают дисциплинарный механизм власти. Это больницы, школы, заводы, цехи, тюрьмы и др. Все в этих пространствах продумано с целью осуществления надзора: необходимая планировка и расположение помещений, важные мелочи и ухищрения в организации нахождения и перемещения в этих пространствах. Таким образом, формируется аппарат наблюдения. Надзор в свою очередь предстает проявлением системы порядка и правил, которые выражают власть. М. Фуко называет надзор иерархизированным и непрерывным, поскольку он реализуется в отношениях общества по вертикали «сверху вниз», постоянно и в тех учреждениях, без которых общество не проходит этапы своей жизни, соответственно, человек может избежать их лишь в исключительных случаях. Дисциплинарная власть пронизывает пространство социального общества, становясь цельной системой, это множественная и одновременно анонимная власть: «[...] именно механизм в целом производит “власть” и распределяет индивидов в постоянном и непрерывном поле. Это позволяет дисциплинарной власти быть одновременно чрезвычайно нескромной, поскольку она повсюду и всегда начеку, поскольку в силу самого своего принципа она не оставляет ни малейшей теневой зоны и постоянно надзирает за теми самыми индивидами, на которых возложена функция надзора, – и крайне “скромной”, поскольку она действует постоянно и главным образом безмолвно» (Фуко, 1999: 258).
М. Фуко полагал, что в XIX в. механизм власти проникает и в так называемое «пространство исключения». Наряду с вышеописанными учреждениями, демонстрирующими властный порядок и иерархию в обществе, в XIX в. появляются новые пространства, связанные с ненормальным или «прокаженным» индивидом, в которых реализуются дуалистические механизмы исключения: «[...] переносить детальную сегментацию дисциплины на расплывчатое пространство заключения, применять к нему методы аналитического распределения, присущие власти; индивидуализировать исключенного, но при этом использовать процедуры индивидуализации для “клеймения” исключения, – вот что постоянно осуществлялось дисциплинарной властью с начала XIX века в психиатрической лечебнице, тюрьме, исправительном доме, заведении для несовершеннолетних правонарушителей и, до некоторой степени, в больнице» (Фуко, 1999: 291). Показательным примером таких пространств стала тюрьма «Паноптикум». Она была спроектирована И. Бентамом таким образом, чтобы каждый заключенный находился под постоянным круглосуточным надзором. Этой задаче отвечала сама структура пространства тюрьмы и архитектура ее здания. Здание «Паноптикума» имеет цилиндрическую форму, в центре находится башня, в которой располагаются надзиратели, а вся цилиндрическая стена состоит из одноместных камер. В камерах предусмотрены большие окна, расположенные друг напротив друга: одно наружу, а другое вовнутрь пространства «Паноптикума», что делает камеры полностью просматриваемыми. Идея такой тюрьмы предполагает не только действительный надзор, но и постоянное ощущение наблюдения, потерю чувства уединения и комфорта. В башне надзирателей имеются только небольшие бойницы, поэтому заключенные не могут знать точно, когда за ними наблюдают, и от этого надзор кажется непрекращающимся и пристальным. Таким образом, пространство «Паноптикума» активно реализует механизм власти. Все в нем незримо транслирует дисциплинарный порядок, который в свою очередь тотально подчиняет себе жизнь этого пространства.
Категория пространства в научном творчестве Фуко наиболее ярко проявлена в работах, посвященных теме власти, где она играет важную роль – пространство становится ретранслятором дискурса власти, влияет на управленческие техники и реализацию власти в целом. Однако в этом случае речь идет о пространстве социального мира: архитектура, учреждения, планировка. Но М. Фуко также усматривал роль пространства и в системе познания. В труде «Слова и вещи» (1966) он активно использует метафоры, его интересует пространство применительно к эпистеме, аппарату производства знания, ведь понятие «пространство» позволяет описать конфигурации, определяющие формы познания, а также связать формы знания того или иного исторического периода и порядок вещей. Во вступительной статье к книге философа «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук», опубликованной на русском языке, Н.С. Автономова пишет: «Основной упорядочивающий принцип внутри каждой эпистемы – это соотношение “слов” и “вещей”. Соответственно различию в этом отношении Фуко вычленяет в европейской три “эпи-стемы”: (XVI в.), классическую (рационализм XVII–XVIII вв.) и современную (с конца XVIII – начала XIX вв. и по настоящее время)» (Автономова, 1994: 12). М. Фуко замечает, что в классической эпистеме вещи начинают быть опосредованы пространством, поскольку предстают в нем, будучи осознаваемыми по-иному, формируется пространство мысли или представления. С этого периода началось «опространствливание знания». «Условие возможности естественной истории в классический век заключено не в неразрывности слов и вещей, но в их сопринадлежности друг другу в пространстве представления. Естественная история классической эпохи вводит наблюдаемые объекты в пространство “хорошо построенного языка” и систематически описывает их основные признаки – форму, количество, величину и пространственные соотношения элементов» (Автономова, 1994: 13). Современная эпистема обладает новым подходом к словам и вещам. В ней разрушается однородность поля познания, так как пространство представления больше не вмещает такие трансцендентальные объекты, как жизнь и язык, через которые отныне существуют вещи. Последние не предстают более как понятия, на которых выстраивалась классическая эпистема, стремящаяся к созданию порядка знания, к всеобщей науке.
Заключение . Концепт территориальности власти М. Фуко тесно связан с осуществившимся в 1970–1980 гг. «пространственным поворотом», глубокий смысл которого связан с обнаружением социального аспекта пространства. Другими словами, возрождение внимания к самой категории пространства в этот период связано именно с открытием его социальной природы. Так и в рассуждениях М. Фуко власть способна реализовываться через пространство, проникая в его внутренние социальные механизмы.
Философ утверждал, что, начиная с XVIII в., связь общества, пространства и власти становится очевидной и, прежде всего, для властных структур. Власть осознает сложную общественную реальность управляемых территорий.
М. Фуко отдельно выделял городское пространство, придавая ему особое значение в дискурсе власти. Оно способно порождать новые формы социальных отношений, влиять на общество и его социокультурные тенденции. Основными элементами власти в городском пространстве мыслитель называл архитектуру и инженерные сооружения. Мосты и дороги реализуют дисциплинарный порядок через коммуникации и скорости, а архитектурные сооружения – надзор и власть. Последние, кроме того, транслируют иерархию социальных отношений.
Отдельной темой исследований М. Фуко стало «пространство исключения», проникнув в которое, власть и надзор демонстрировали наивысший порядок властного дискурса. Модель дисциплинарного механизма власти М. Фуко описывал так: «Замкнутое, сегментированное пространство, где просматривается каждая точка, где индивиды водворены на четко определенные места, где каждое движение контролируется, где все события регистрируются, где непрерывно ведущаяся запись связывает центр с периферией, где власть действует безраздельно по неизменной иерархической модели, где каждый индивид постоянно локализован, где его изучают и относят к живым существам, больным или умершим, – все это образует компактную модель дисциплинарного механизма» (Фуко, 1999: 288).
Еще один аспект пространства в философии М. Фуко заключается в следующем. Важными для исследования общественной жизни он считает «место» и «местоположение»: «По мнению Фуко, жизнь человека во многом определяется рядом оппозиций, противопоставлением частного и публичного пространств, пространства семьи и социального пространства, пространства досуга и пространства труда. Однако пространства подобного рода не просто образуют нечто вроде ориентиров, которыми могут быть местоположения индивидов, они представляют собой сложную систему отношений» (Кулькина, 2018: 22). Таким образом, человек может занимать то или иное место в пространствах, как физическом, так и символическом, что раскрывает его вес и статус в обществе. Жизнь общества строится в различных пространствах. Каждое из них диктует свои правила, поскольку пространства транслируют власть, установки, ценности и правила. Эти пространства связаны отношениями, которые формирует человек, объединяя пространства своим присутствием и действиями. К примеру, если человек проживает в бедном районе и общается с маргиналами, то эти характеристики его физического и социального пространств позволяют многое понять о его статусе в обществе. Пространство социального общества репрезентирует иерархию и социальную стратификацию.
М. Фуко масштабировал свои открытия по части категории пространства на все общественное знание. Он предлагал переориентировать методологию изучения и анализа общества на пространственную логику.
Список литературы Понятие пространства в философии М. Фуко: территориальный характер власти
- Автономова Н.С. Мишель Фуко и его книга «Слова и вещи» // Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 7-28.
- Бурдье П. Социология социального пространства. М., 2005. 288 с.
- Кулькина В.М. Гетеротопия как способ анализа пространства // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7: Литературоведение: Реферативный журнал. 2018. № 2. С. 21-28.
- Макогон Т.И. «Пространственный поворот» и возможность новационных подходов в социально-философском дискурсе // Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321, № 6. С. 167-172.
- Фуко M. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. M., 1999. 383 с.