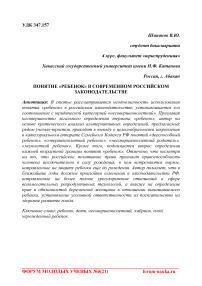Понятие "ребенок" в современном российском законодательстве
Автор: Шипанов В.Ю.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 5-3 (21), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается неоднозначность использования понятия «ребенок» в российском законодательстве, устанавливается его соотношение с юридической категорией «несовершеннолетний». Признавая несовершенство легального определения термина «ребенок», автор на основе критического анализа альтернативных определений, предлагаемых рядом ученых-юристов, приходит к выводу о целесообразности закрепления в категориальном аппарате Семейного Кодекса РФ понятий «дееспособный ребенок», «совершеннолетний ребенок», «несовершеннолетний родитель», «малолетний ребенок». Кроме того, поднимается вопрос определения нижней возрастной границы понятия «ребенок». Отмечено, что несмотря на то, что российское позитивное право признает правоспособность человека исключительно в силу рождения, в нем встречаются нормы, направленные на защиту ребенка еще до рождения. Автор полагает, что в ближайшие годы должны произойти изменения в законодательстве РФ, направленные на более полное урегулирование отношений в сфере вспомогательных репродуктивных технологий, а также на определение прав и обязанностей беременной женщины в отношении вынашиваемого ребенка, установление уголовной ответственности за посягательство на здоровое развитие плода.
Ребенок, дети, несовершеннолетний, эмбрион, плод, нерожденный ребенок
Короткий адрес: https://sciup.org/140283075
IDR: 140283075
Текст научной статьи Понятие "ребенок" в современном российском законодательстве
Термины «ребенок», «дети», «несовершеннолетний» употребляются в нормах практически всех отраслей права (конституционного, семейного, гражданского, трудового, уголовного, налогового и других). При этом их значение варьируется не только в зависимости от отраслевой принадлежности, но и в зависимости от контекста правовой нормы в рамках одной отрасли.
Гражданское законодательство оперирует в большей степени категорией «несовершеннолетний», увязывая это понятие с неспособностью гражданина своими действиями в полной мере приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. В соответствии со ст. 21 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) гражданская дееспособность в полном объеме возникает с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Уголовный кодекс РФ несовершеннолетним признает лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет (ч. 1 ст. 87). Однако в случаях употребления данного термина для обозначения не преступника, а пострадавшего, надо полагать, понятие «несовершеннолетний» должно трактоваться иначе. Поскольку в противном случае невозможно логически обосновать повышенную ответственность за похищение несовершеннолетнего и ответственность на общих основаниях за похищение лица, не достигшего 14-летнего возраста (ч. 1 ст. 126)[8, С.47-48].
В п. 1 ст. 54 Семейного Кодекса РФ (далее – СК РФ) и ст. 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (далее – закон № 124-ФЗ) дефиниция
«ребенок» раскрывается как «лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия)».1 В тексте правовых норм СК РФ дефиниция «ребенок» употребляется в трех аспектах: 1) для квалификации специального субъекта правоотношений; 2) для обозначения нисходящей прямой родственной связи; 3) для обозначения связи, установленной в порядке судебного производства. Причем, не всегда имеет место ограничение возрастом несовершеннолетия. Статьи 85, 87, 88 СК РФ, употребляют понятие «дети» с указанием на их совершеннолетие («совершеннолетние дети»). Такое сочетание делает невозможным применение дефиниции, приведенной в п. 1 ст. 54 СК РФ.
В юридической литературе определение понятия «ребенок», данное российским законодателем, активно критикуется ввиду того, что его буквальное толкование не позволяет установить допущение исключений, связанных с наступлением ранней дееспособности. В качестве альтернативы предлагаются, например, следующие определения термина «ребенок»:
-
• «Ребенком признается лицо (каждое человеческое существо) до достижения возраста восемнадцати лет либо до вступления в брак или до приобретения полной дееспособности по другим основаниям» [2, С.152].
-
• «Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, этот статус не прекращается ранее» [9, С.12-13].
-
• «Несовершеннолетним ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет и не приобретшее полной гражданской дееспособности по иным основаниям» [10, С.43].
Региональная законодательная практика обнаруживает более детальный подход к определению рассматриваемой дефиниции. В частности, закон Ярославской области «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» (ч. 2 ст. 1) понимает под ребенком лицо, «не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия), за исключением лиц, вступивших в брак или эмансипированных до достижения совершеннолетия в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации».2
Мы полагаем, что в приведенных выше и подобных им определениях, пытающихся раскрыть юридическую сущность понятия «ребенок» через обозначение уровня дееспособности, закралась логическая ошибка ввиду того, что, несмотря на известную связь момента возникновения полной дееспособности гражданина с наступлением совершеннолетия, нет оснований ставить знак тождества между двумя этими явлениями. Даже в случае досрочного объявления человека в возрасте менее 18 лет полностью дееспособным лицом, он не перестает быть несовершеннолетним (т.е. не достигшим восемнадцатилетнего возраста). Так, по смыслу статьи 27 ГК РФ такой индивид становится «эмансипированным несовершеннолетним». При этом он все же не в полном объеме обладает гражданскими правами и несет обязанности, а с некоторыми изъятиями. Речь идет о тех правах и обязанностях, для которых установлен возрастной ценз. Среди таковых, например, воинская обязанность и конституционное право избирать и быть избранным. У дееспособного несовершеннолетнего не возникает алиментных обязательств в отношении нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, а также сохраняются «детские» льготы в области охраны труда и реализации жилищных прав. Сказанное означает, что приобретение несовершеннолетним лицом полной гражданской дееспособности не отменяет полностью его правового статуса «ребенка».
Тем не менее, мы соглашаемся, что закрепленное в СК РФ понимание дефиниции «ребенок» (равнозначное термину «несовершеннолетний») все же нуждается в уточнении, поскольку не отражает многогранности юридического смысла данной категории. Как уже говорилось, понятие «ребенок» шире понятия «несовершеннолетний» и может характеризовать также и достигшее совершеннолетия лицо, имеющее родственную, кровную либо установленную законом связь с родителями.
Строго говоря, с целью обозначения субъекта правоотношений, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, формально было бы достаточным использование сугубо юридической категории «несовершеннолетний». Однако, как отмечает профессор А.С. Автономов, термин «несовершеннолетний» акцентирует внимание, прежде всего, на отсутствии у человека определенного качества, в то время как понятие «ребенок» содержит характеристику начального этапа жизни человека. Исходя из этого, понятие «несовершеннолетний» применяется преимущественно в уголовном и гражданском праве, в других же отраслях права, таких как конституционное или семейное право, в силу их специфики используется термин «ребенок» [3, С.173].
По нашему мнению, проблема может быть частично решена путем закрепления в категориальном аппарате СК РФ понятий «дееспособный ребенок» (по смыслу п. 2 ст. 13, п. 1 ст. 56 СК РФ и п. 2 ст. 21 ГК РФ), «совершеннолетний ребенок» (по смыслу ст. 85-88 СК РФ), «несовершеннолетний родитель» (ст. 62 СК РФ), «малолетний ребенок» (по смыслу ст. 28 ГК РФ).
Возрастная характеристика понятия «ребенок» предполагает также определение нижней возрастной границы для соответствующего субъекта права. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) определяет, что «ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18летнего возраста».3 А то, что «нерожденный ребенок является человеческим существом не может быть оспорено ни с медицинской, ни с философской позиции» [1, С.18].Соответственно, государства-участники должны признавать права нерожденных детей, и, в первую очередь, неотъемлемое право на жизнь (ст. 6 Конвенции). Однако при подписании и ратификации Конвенции государства либо делали заявление по поводу толкования ее положений в отношении вопроса о начале жизни либо отмечали, что при толковании преамбулы, ст. 1 и 6 Конвенции будут придерживаться положений своего национального законодательства [12, С.54-55].
В Российской Федерации реальная обеспеченность права на жизнь (ч. 1 ст. 20 Конституции РФ) возникает только после рождения. Часть 2 статьи 17 Конституции РФ провозглашает, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Международно-правовые акты по правам человека данного вопроса касаются лишь косвенно. Так, статья 6 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.) запрещает приводить в исполнение смертный приговор в отношении беременных женщин.4 Статья 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) гарантирует особую охрану матерям в течение разумного периода до и после родов.5
Тем не менее, нормы, защищающие права нерожденного ребенка, встречаются в конституциях и законодательстве ряда государств. Так, Конституции Словацкой и Чешской республик провозглашают: «Человеческая жизнь достойна охраны еще до рождения». В Конституции Ирландии объявляется: «Государство признает право на жизнь нерожденного ребенка наравне с правом на жизнь его матери...». Во Франции в Кодексе законов о здравоохранении закреплено, что жизнь человеческого существа должна охраняться с момента первых признаков ее проявления [3, С.19-20].
Американская Конвенция о правах человека (1969 г.) прямо устанавливает: «Каждый человек имеет право на уважение к его жизни. Это право защищается законом и, как правило, с момента зачатия. Никто не может быть произвольно лишен жизни».6 Государственная программа страхования здоровья детей в США (SCHIP, 2002, p. 61974) признает ребенком индивидуума в возрасте до 19 лет, включая период с зачатия до рождения, и соответственно еще нерожденный ребенок рассматривается как гражданин, имеющий право на медицинскую страховку и медицинское обслуживание. В этом отношении известно прецедентное дело Джефферсон против Гриффина (Jefferson v. Griffin), по которому Верховный суд штата Джорджия утвердил решение суда низшей инстанции, обязывающее беременную женщину подвергнуться операции кесарева сечения для спасения жизни вынашиваемого ребенка. В своем решении суд установил, что потребность в государственной защите жизнеспособного плода перевешивает право беременной женщины на отказ от медицинской помощи [6, С. 677-678].
Заметим, что в приведенном судебном решении шла речь о жизнеспособном плоде, который уже мог существовать вне материнского организма. Значительно сложнее происходит реализация декларируемого принципа святости человеческой жизни с момента ее зарождения, когда дело касается человеческих эмбрионов, созданных при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). К.Н. Свитнев в своих публикациях приводит примеры судебной практики США, в которых суд не признавал право эмбрионов на рождение, утверждая, что эмбрионы людьми не являются, федеральными и местными законами не защищены. При этом устанавливалось, что в случае спора между бывшими супругами относительно судьбы эмбрионов, должны превалировать интересы стороны, нежелающей продолжения рода, если у другой стороны есть реальная возможность стать родителем без использования рассматриваемых эмбрионов [7, С.48-57].
Еще более негуманное отношение к зарождающейся человеческой жизни обнаруживается в практике Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Одним из наиболее известных стал процесс по делу англичанки Натали Эванс (2006 г.), отстаивавшей свое право на материнство при помощи криоконсерированых эмбрионов, которые были получены из ее яйцеклеток перед операцией по удалению яичников, навсегда лишавшей ее возможности зачать ребенка (у нее был рак яичников). Большинством голосов суд принял решение, что даже при таких чрезвычайных обстоятельствах право миссис Эванс на семейную жизнь не может быть реализовано в силу отзыва ее бывшим мужем своего согласия на имплантацию. Европейский суд также постановил, что эмбрионы не имеют права на жизнь. Шесть эмбрионов, которые могли бы стать детьми Натали Эванс, были уничтожены.7
Но все же в иностранном законодательстве известны случаи признания эмбриона in vitro субъектом права. Так, Louisiana Health Law указывает, что эмбрион является человеческим существом и не может быть собственностью ни врача, ни доноров гамет. В случае если доноры известны, то им гарантируются права родителей. В противном случае врач становится временным опекуном [5, С.135].
Российское позитивное право в рассматриваемой области пока остается на позициях признания правоспособности человека исключительно в силу рождения. В ГК РФ зафиксировано, что правоспособность возникает в момент рождения и прекращается смертью (ч. 2 ст. 17). Тем не менее, в законодательстве РФ встречаются нормы, направленные на защиту ребенка еще до его рождения. Так, в ст. 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (далее – закон № 323-ФЗ) ограничена возможность искусственного прерывания беременности сроком беременности. В то же время, стоит отметить, что толкование ст. 20 данного закона (о необходимости дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство) приводит к выводу, что оказание медицинской помощи плоду полностью зависит от решения беременной женщины, поскольку в нашей стране не существует юридический оснований для помощи нерожденному ребенку без согласия матери даже при угрозе его жизни.8
Своего рода защиту эмбрионов можно обнаружить в ст. 55 закона № 323-ФЗ, в которой содержится положение о запрете промышленного использования эмбрионов. Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» содержит аналогичную норму, а также норму о недопустимости использования для разработки, производства и применения биомедицинских клеточных продуктов биологического материала, полученного путем прерывания процесса развития эмбриона или плода человека или нарушения такого процесса.9
Решение о дальнейшей судьбе лишних эмбрионов согласно Приказу Минздрава России № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» принимает лицо, которому они принадлежат, но в пределах трех вариантов: донорство, криоконсервация, утилизация.10
Полагаем, что подзаконный акт не может рассматриваться в качестве достаточного источника правового обеспечения вопросов человеческой жизни, хоть и потенциальной. Но к сожалению, несмотря на то, что о необходимости принятия федерального закона в сфере вспомогательных репродуктивных технологий в литературе сказано уже немало [4], ситуация в нашей стране не меняется вот уже десять лет.
В настоящее время вопрос определения момента начала жизни и правового статуса нерожденного ребенка становится еще более острым. Широкое обсуждение данной проблемы, проводимое на различных уровнях научного сообщества, свидетельствует о ее сложности и противоречивости. Представляется, что в России не следует ожидать в ближайшие годы признания автономной правосубъектности плода, находящегося в утробе матери, а тем более эмбриона in vitro, однако изменения законодательства в этой сфере все же неизбежны. Возможно, первым шагом могло бы стать нормативное закрепление особого правового статуса беременной женщины с четким определением ее прав и обязанностей в отношении вынашиваемого ребенка, установление уголовной ответственности за посягательство на здоровое развитие плода (в дополнение к статье 123 УК РФ «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности»).
Список литературы Понятие "ребенок" в современном российском законодательстве
- Бабаджанов, И.Х. Правовой статус человеческого эмбриона: несколько подходов к анализу / И.Х. Бабаджанов // Юридическая наука: история и современность. - 2012. - № 9. - С. 10-28.
- Величкова, О.И. О понятии «ребенок» в свете положений Семейного кодекса РФ и Конвенции о правах ребенка / О.И. Величкова // Семейное право на рубеже XX-ХХI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка. Материалы международной научно-практической конференции. Казань: КФУ. - 2011. - С.149-152.
- Гибадуллина, Л.Т. О проблеме правового статуса плода как пациента / Л.Т. Гибадуллина. // Медицинское право. - 2017. - № 5. - С.19-24.
- Дергачев, Н.А. Проект федерального закона «О вспомогательных репродуктивных технологиях и гарантиях прав граждан при их осуществлении» / Н.А. Дергачев, С.В. Лебедев, Ю.В. Павлова, Ю.Д. Сергеев // Медицинское право. - 2008. - № 2. - С. 3-10.
- Дружинина, Ю.Ф. Правовой режим эмбриона in vitro / Ю.Ф. Дружинина // Журнал российского права. - 2017. - № 12. - С.129-140.
- Свитнев, К.Н. Право на рождение как составляющая конституционного права на жизнь / К.Н. Свитнев // Конституция и доктрины России современным взглядом. Материалы Всероссийской научной конференции. М: Научный эксперт. - 2009. - С. 670-700.
- Свитнев, К.Н. Статус эмбриона: правовые и морально-этические аспекты / К.Н. Свитнев // Правовые вопросы в здравоохранении. - 2011. - № 7. - С. 48-57.
- Симиненко, А. Несовершеннолетний - кто ты? / А. Симиненко, И. Кузнецова // Законность. - 2008. - № 11. - С. 47-48.
- Тарусина, Н.Н. Ребенок как субъект права: актуальные цивилистические аспекты: монография / Н.Н. Тарусина, Е.А. Исаева, О.Г. Миролюбова, О.И. Сочнева. - Ярославль: ЯрГУ, 2013. - 152 c.
- Усачева, Е.А. Понятие «ребенок» в категориальном аппарате семейно-правового регулирования / Е.А. Усачева // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2016. - № 8. - С. 40-43.
- Токарева, А.В. Подходы к трактовке понятий «несовершеннолетний» и «ребенок» в конституционном праве Российской Федерации / А.В. Токарева // Наука и мир. - 2015. - № 9. - Том 2. - С. 171-174.
- Толстая, Е.В. О правовых гарантиях защиты жизни ребенка до рождения в российском законодательстве / Е.В. Толстая // Российская юстиция. - 2011. - № 4. - С. 54-58.