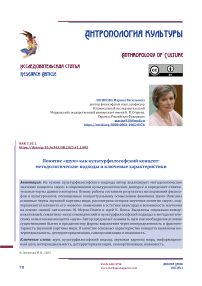Понятие «шум» как культурфилософский концепт: методологические подходы и ключевые характеристики
Автор: Логинова М.В.
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Антропология культуры
Статья в выпуске: 1 (41), 2025 года.
Бесплатный доступ
На основе культурфилософского подхода автор анализирует методологическое значение концепта «шум» в современном культурологическом дискурсе и определяет отличительные черты данного концепта. Основу работы составили результаты исследований философов и культурологов, посвященные концептуальному осмыслению феномена шума. Описаны основные черты звуковой картины мира, рассмотрена история изучения понятия «шум», подчеркиваются важность его «нового» понимания в эстетике авангарда и возможность изучения на основе «новой онтологии» М. Мерло-Понти и идей К. Кокса. Выделены социально-коммуникативный, семантико-искусствоведческий и культурфилософский подходы к методологическому осмыслению концепта «шум». Автор предлагает понимать шум как необходимое условие существования бытия и придания ему формы выражения через неопределенность и фрагментарность звуковой картины мира. В качестве основных характеристик концепта выявлены интермедиальность, детерриториализация, самоорганизация и инаковость.
Шум, культурфилософский подход, звуковая картина мира, информационный шум, интермедиальность, детерриториализация, самоорганизация, инаковость
Короткий адрес: https://sciup.org/170209418
IDR: 170209418 | DOI: 10.36343/SB.2025.41.1.005
Текст научной статьи Понятие «шум» как культурфилософский концепт: методологические подходы и ключевые характеристики
Введение. «Мир звучит. Он - космос духовно воздействующей сущности» [3, c. 225]. В этих словах В. В. Кандинского содержится не только глубокий философский смысл относительно звучащего бытия, но и обращение к человеку, его готовности осмыслить звуки, несущие определенный смысл и обозначенные в современной науке понятиями «звуковой ландшафт», «акустическая экология» (Р. М. Шейфер [24]), «звуковой поток» (К. Кокс [4]), «акустические территории» (Б. Лабелль [6]) и др. Речь идет о новом направлении гу-манитаристики «sound studies», которое изучает звук с философской позиции, «способной взаимодействовать с докоммуникативным, составляющим значимый аспект в природе звука» [15, c. 144].
Наше исследование исходит из картины мира, отражающей представления, в рамках которых звук приобретает функции знака и рассматривается как самостоятельный текст культуры. Анализ многоликой звуковой картины мира (как взаимосвязи звуков, голосов и шумов) предполагает выделение ее составляющих, которые могут быть определены как концепты, образующие особую концеп-тосферу (молчание, тишина, безмолвие, крик и др.) [5] [7].
В звуковой картине мира мы выделяем концепты, которые не только имеют статус культурных универсалий, объединяющих мир человека с миром культуры, но и формируют парадигму, направленную на связь языка и культуры, то есть в некотором смысле мы говорим о звуковой картине мира вообще, объединяя под данным понятием голос человека, звуки природы, музыкальные звуки и, наконец, шумы. Основным аспектом в изучении шума является культурфилософский, так как именно он определяет значение концепта в контексте культурного бытия.
Следует отметить, что данная статья не претендует на исчерпывающий анализ концепта «шум». Основное внимание сосредоточено на тенденциях в гуманитарных исследованиях шума и их методологических особенностях, что позволяет выделить подходы к изучению данного концепта.
Сложность описания шума связана, с одной стороны, с его экзистенциальной значимо- стью, а с другой - с его смысловой сложностью, так как «шум балансирует между семиотикой и феноменологией: он практикует означивание, не находящее значения, но постоянно выстраивает мост между структурой выражения смысла и процессом его переживания» [18, с. 46]. Таким образом, актуальность обращения к анализу концепта «шум» обусловлена, во-первых, спецификой современной звуковой картины мира; во-вторых, значением шума в ней.
Степень изученности и основные подходы к проблеме. На основе проведенного анализа источников, посвященных осмыслению понятия «шум», можно выделить основные подходы к его изучению и выявить междисциплинарный характер концепта, отражающий его существование в различных картинах мира (звуковой, информационной, визуальной и др.):
-
• социально-коммуникативный подход заключается в обосновании информационного шума как «помехи» (непреднамеренный шум), «избытка» (преднамеренный шум) при восприятии информации человеком. Предложенная К. Шенноном в 60-х г. ХХ в. шумовая модель информации [21], получила развитие в исследованиях Н. В. Бизюкова [1], Д. Ф. Миронова [11], А. Д. Урсула [17] и др. Общим для данных концепций является признание негативного влияние информационного шума на процесс восприятия и принятия решений человеком в ходе получения информации. В рамках такого подхода шум понимается как энтропия, дезорганизация, беспорядок, следствие новых способов подачи информации в массовых коммуникациях.
-
• семантико-искусствоведческий подход изучает специфику языка искусства и, прежде всего, музыки. Семантический шум как «звуковая крайность, отличающаяся настойчивостью звучания» [18, с. 50] возникает в процессе коммуникации, но, в отличие от информационного шума, связан с речью. Интерес к изучению семантического шума обусловлен ответом на вопрос об эффективности коммуникации. Семантическое пространство искусства имеет свою специфику, что позволяет авторам соотносить шум и музыку [16], анализировать значение шумов в визуальных
АНТРОПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
ANTHROPOLOGY OF CULTURE
искусствах [2]. Объединяющим началом для шума и музыки является их принадлежность звуковой картине мира, нелинейность их взаимосвязи, преодоление границ в материале музыки.
Примером подобного подхода является анализ оппозиции «музыка» / «шум» в исследовании французского композитора и теоретика М. Шиона. Он пишет: «Оценка шума в качестве шума и музыки в качестве музыки зависит, следовательно, от культурного и индивидуального контекста, то есть она связана не с природой элементов, а с признанием источника в качестве «музыкального», а также с восприятием особого порядка или беспорядка среди звуков» [22, с. 88]. М. Шион разделяет звуковой континуум на три части: речь, музыку и шум,- которые связаны с умением «слушания», способностью человека по-новому прислушиваться к миру, обладающему «звучанием».
-
• культурфилософский подход к изучению шума связан с хайдеггеровской традицией противопоставления «зова проселка» «шуму и грохоту аппаратов» [19, с. 240] как способа возвращения человека к первоистокам, подлинному бытию. «Зов проселка», «лад зова» определяется М. Хайдеггером через понятия «вольнолюбие», «светлая радость», «простота», «неприметность». «Велика опасность, что в наши дни люди глухи к речам проселка», -отмечает философ [19, с. 240]. О взаимосвязи шума и бытия пишет А. Корбен: «...шум современного города не стал громче, чем прежде, но изменился в качественном отношении… То, что отсутствовало раньше,- это в первую очередь небывалая плотность информационного потока, насыщенность социальной среды средствами общения.» [5, с. 8]. Диалектическая связь шума и тишины дает возможность не только понять необходимость возращения к истокам, но и определить значение шума для проявления тишины.
Безусловно, выделенные подходы имеют множественные связи и носят условный характер, но их выявление необходимо для определения тех исследовательских направлений, которые существуют в современных гуманитарных науках. Подчеркнем, что значение культурфилософского подхода заключает- ся не только в снятии оппозиций, определяющих природу шума («шум» / «тишина», «шум» / «музыка»), но в его понимании как сложного, многоуровнего концепта.
Кроме того, акцентируя значение информационного шума, культура обращается к его ценностной составляющей, так как особенность современной звуковой картины мира состоит в сложном характере выражения и представления человека посредством звука (или его отсутствия); ее знаковосимволическом значении; в определении шума в качестве семиотического канала для понимания места человека в мире. Поэтому цель данного исследования - определить значение концепта «шум» для современной мировоззренческой парадигмы, в рамках которой способность «слушать и распознавать» звуки / шумы оказывается не менее важным, чем «звучать».
Материалом статьи послужили современные исследования отечественных [8] [14] [15] [16] и зарубежных авторов [4] [18] [21] [22]. C 2021 г. в издательстве «Новое литературное обозрение» выходит серия книг «История звука», посвященная различным сферам ауди-ального мира. Издательский проект должен «сделать sound studies неотъемлемой частью гуманитарного знания на русском языке. вокруг новых онтологий» [8, с. 77] и способствовать качественному изменению исследований звука. Не случайно девизом серии стали слова французского мыслителя Ж. Аттали о том, что «мир создан не для созерцания, а для вслушивания» [23, p. 3]1, то есть речь идет о смене доминанты в общей картине мира (от визуальной к звуковой). Доминирование визуальной картины мира было связано «с тотально визуальной философией Декарта, которой настала пора противопоставить звуковое мышление» [15, c. 147]. Значение звука / цвета заключается в том, что они имеют двойственный характер, то есть, выражаясь словами А. В. Рясова, «могут выступать в роли ясного сигнала и одновременно открываться в предельной абстрактности» [15, c. 152], принадлежа и физическому, и метафизическому мирам.
Пер. издательства «Новое литературное обозрение», автор ссылается на оригинальный текст: «…the world is not for beholding. It is for hearing». ( Прим. ред. )
Методология исследования. Основанием является анализ концепта «шум» в звуковой картине мире с позиций онтологического подхода, в рамках которого рассматриваемый концепт связан с контекстом и имеет определенную смысловую нагрузку. Согласимся с С. Ю. Румянцевым, который выделяет онтологическую оппозицию шума («нестрой», «разлад», «дисгармония», «возмущение», «непокой», «хаос») и тишины («лад», «гармония», «покой», «жизнь») в основе «мирозву-чания=мироздания» [13, с. 63]. Отношения тишины и шума носят диалектический характер, то есть шум входит в состав тишины, а тишина разворачивается на фоне шума. Это соотношение является смысловым центром «мирозвучания».
Для определения значения концепта «шум» в современной культуре используется синергетический подход, в рамках которого в объяснении реальности существует отход от жестких схем, проявляется принцип нелинейности мышления. В этом отношении шум - один из концептов, называемый «зонтичным», поскольку он объединяет предметные области различных научных направлений (искусствоведения, лингвистики, семиотики и др.), как «сгусток мысли», раскрывающийся в процессе коммуникации.
Дизайн исследования. На начальном этапе необходим анализ манифеста Л. Руссоло «Искусство шумов» [12] как первого изложения современного понимания шума. Затем следует обратить внимание на характеристику идей интермедиальности у представителей русского авангарда в трудах О. А. Ханзен-Лёве [20] и концепцию шума как художественного «приема» у формалистов (В. Марков [9]). Установление этой исторической рамки позволит перейти к анализу современных концептуализаций. В аспекте обоснования методологического значения шума в современной картине мира и его интермедиального характера необходимо привлечение новейших исследования К. Кокса [4], и «новой онтологии» М. Мерло-Понти [10]. Такой подход потребует рассмотрения шума как конституирующего элемента онтологической реальности и своеобразного многоуровневого «генератора различий».
Научная значимость исследования видится преимущественно в том, что оно предлагает понимать шум не как некую досадную аномалию, подлежащую редуцированию, а как имманентный и конституирующий элемент реальности, обладающий собственной онтологической плотностью и семиотической активностью. Такой подход позволяет переосмыслить саму природу порядка, информации и материи, смещая фокус с бинарных оппозиций «порядок» / «хаос», «сигнал» / «шум» к пониманию их диалектической взаимозависимости и генеративного потенциала шума как источника нового.
В данной связи понимание шума как производителя смысла (а не его разрушителя), как механизма дифференциации и порождения различий позволяет разработать более адекватные рамки для исследования коммуникативных сбоев, культурных мутаций, политики внимания, эстетики пост-цифровой эпохи и феномена «информационной усталости». Таким образом, значение данного исследования заключается в создании предпосылок методологического сдвига: от борьбы с шумом к его осмыслению в рамках научного понимания.
* * *
Обсуждение. Манифест Л. Руссоло в ХХ в. сформировал новое понимание шума [12], то есть из негативно-окрашенного понятия («отсутствие порядка и гармонии») шум трансформировался в авангардистскую эстетику созидательной акустической среды индустриального общества. Л. Руссоло призывает «приспособить» шумы, имеющиеся в распоряжении современного человека, научиться «управлять» ими во имя поиска новой гармонии. Футуристический манифест «музыки шумов» явился своеобразным семиотическим экспериментом разложения искусства на составляющие его элементы и схемы - и требование относится к этим составляющим как особенному произведению искусства.
Исследователь русского авангарда О. А. Ханзен-Лёве отмечает значение понятия фактуры для выразительной формы в изобразительном искусстве [20, с. 85–88]. В центре внимания философа находится идея интерме-диальности в русском формализме как корреляции разных видов искусства (кино, литера-
АНТРОПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
ANTHROPOLOGY OF CULTURE
тура, изобразительное искусство и др.). Причем подходы, разработанные в формализме, находят свое продолжение в структурализме, семиотике, современных концепциях интер-медиальности. Формалисты оказались первыми теоретиками искусства, которые определяли выразительную форму через понятия, фиксирующие момент ее перехода («фактура», «монтаж» и др.).
Так, в работе 1914 г. В. Марков определяет фактуру как «шум материала» [9, с. 1], который имеет место, «когда и материальная, и нематериальная фактуры объединяются, чтобы дать один общий “шум”; когда обе фактуры друг другу помогают в создании известного оттенка шума, тем или другим образом выделяющегося среди многих других “шумов”…» [9, с. 64]. Отметим, что отождествление фактуры и шума в поэтике авангарда соотносимо с выразительной формой как единством формы внешней и внутренней. Значение формализма начала ХХ в. заключалось в акцентировании художественной формы как особой реальности, живущей по своим законам и активно преобразующей действительность. «Фактура как шум», о которой пишет В. Марков, является закономерностью построения формы в материале того или иного вида искусства и трансформацией способов ее построения.
Центральной проблемой новой эстетики становится выразительная форма, которая понимается как состояние события между субъективным и объективным в процессе становления смысла художественного произведения. Отметим, что выводы формалистов имеют значение не только для эстетики и искусствознания, но и формируют представление о звуке / шуме в философском (семиотическом) значении. Более того, именно учением о форме авангардисты способствовали изменению перехода от понимания шума как части звуковой картины мира к интермедиальной трактовке данного концепта. В одной из последних работ по теории звука / «звукового потока» К. Кокс отмечает, что современная социокультурная ситуация характеризуется «звуковым поворотом», звук не только вторгается в философию, но и изменяет ее, концептуализируя «саунд-арт как синтез музыки и визуального искусства» [4, с. 18]. Таким образом, методологическое значение шума в современной картине мира определяется его интермедиальным характером, осмысление которого было заложено в начале ХХ в.
Для определения культурфилософско-го значения концепта «шум» мы обращаемся к «новой онтологии» М. Мерло-Понти, одним из оснований которой является отказ от оппозиций внутреннего и внешнего, видимого и невидимого, воспринимающего и воспринимаемого, характерных для классической философии. «Видение художника,- отмечает М. Мерло-Понти,- это больше не взгляд вовне… это сам художник рождается в вещах, как бы посредством концентрации…» [10, с. 43]. Философ определяет конституирующую роль телесности, объединяющую тело воспринимающего и мир в единое целое.
«Новая онтология» М. Мерло-Понти направлена на исследование визуальной культуры и визуального восприятия мира, но может быть применена для анализа звуковой картины мира, так как используемое философом понятие «хиазм» указывает на переплетение сущности и существования, видимого и видящего, плоти и мира и возможность чувствовать мир во всей его полноте. При таком понимании шум, с одной стороны, воздействует на слушающего и захватывает его тело, но с другой -тело является условием для восприятия шума. «Хиазм» состоит в том, что дистанция между шумом (как особым звуком, полностью захватывающим человека) и воспринимающим исчезает, возникает «слепое пятно» «присущности того, кто видит, тому, что он видит» [10, с. 14]. Итак, с позиций «новой онтологии» шум понимается не только как субъект-объектное взаимодействие, но и как фундаментальная характеристика звукового мира, которая дает возможность миру и человеку слышать и быть услышанным.
Согласимся с К. Коксом, выделяющим такие характеристики шума как детерритори-ализацию и самоорганизацию. Философ отмечает, что в историческом аспекте разнообразные концепции шума (эстетические, социальные, психологические и др.) понимали данный феномен как разлад, недовольство, распад. Шум в современном звуковом потоке понимается «не как неразличимая или нейтральная, а как самоорганизующаяся материя, в которой различия если и неструктурированы, то всего лишь относительно» [4, с. 47]. Для обоснования понятия «детерриториализация» К. Кокс обращается к понятиям потенциальности, энергии, информации. «В терминах Делёза, -пишет он,- шум не различаем, а не “неразличим”. шум - уже не или еще не организован», не имеет своей «территории», существуя на границе между потенциальным и актуальным. Вопрос о самоорганизации связан со значением шума, двойственность решения которого заключается в том, что шум не имеет значения, так как разрушает смысл неясностью звукового выражения и бессмысленным повторением, но шум создает смысл нового порядка на другом уровне организации, нового кода в другой сети» [4, с. 48]. Подчеркнем, что в шуме воспринимающий и воспринимаемое существуют не циклично, а синхронно, как целое, переплетаясь друг с другом. Кроме того, самооорганизация шума заключается и в том, что «он полон различий, тенденций, аттракторов, сингулярностей и потенциальных бифуркаций» [4, с. 48], имеет многоуровневый характер одновременно и разрушая порядок, и неся в себе новую информацию.
Отметим такую характеристику шума, как его инаковость по отношению к тишине в звуковой картине мира через выход из собственных пределов, размывание границ «территории» (как своего рода «переполненная процессуальность»). Инаковость шума - в динамизме и избытке звукового выражения настолько мощного, что для воспринимающего шум выступает как нечто иное по отношению к нему, заставляющему противостоять мощности порождаемого им звука. В тоже время отметим, что тишина и шум - концепты, которые имеют множественные коннотации и требуют дальнейшего исследования. Вслушиваться в шум - это концентрироваться на инаковости между звучанием и слушанием. Заявляя о себе в качестве составной части звуковой картины мира, шум является ее избытком, не присвоен-нойсубъектоминаковостью(звучанияи слушания, чувств и разума, пространства и времени).
Являясь составной частью звуковой картины мира, шум как « внесистемная система » служит своеобразным маркером осмысления места человека в системе мироздания, понимания сложной диалектики внутри звучащего мира, а определение шума далеко от однозначности и линейности. В современной звуковой картине мира шум стал «субкатегорией более широкого поля “звука”, культурная зачарован-ность которым все растет» [4, c. 6], порождая новые смыслы.
* * *
Заключение. Исследование впервые на концептуальном уровне обосновывает шум как конституирующий (а не фоновый) элемент онтологической реальности, неотъемлемо присущий современной картине мира и ее разнообразным элементам любого порядка (физическим, социальным и др.). Такое понимание данного концепта преодолевает традиционную бинарную оппозицию «сигнал» / «шум» и редукционистские стратегии его элиминации. На основе выделенных характеристик (интермедиальность, детерриториа-лизация, самоорганизация и инаковость) методологическое значение шума усматривается в том, что он является формой выражения бытия в современной картине мира.
Дальнейшая разработка проблематики, связанной с «философией шума», позволит раскрыть многогранность и многоуровне-вость концепта в различных культурфилософ-ских контекстах.
Marina V. LOGINOVA
Dr. Sci. (Theory and History of Culture), Prof., Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russian Federation
Noise as a Cultural and Philosophical Concept:
Methodological Approaches and Key Characteristics
АНТРОПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
ANTHROPOLOGY OF CULTURE