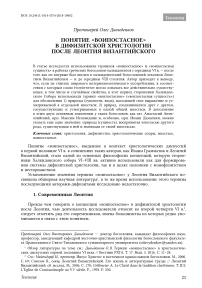Понятие "воипостасное" в дифизитской христологии после Леонтия Византийского
Автор: Давыденков Олег
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Статья в выпуске: 1 (78), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется использование терминов «воипостасное» и «воипостасная сущность» в работах греческих богословов-халкидонитов с середины VI в. - после того как он впервые был введен в халкидонитский богословский лексикон Леонтием Византийским - и до середины VIII столетия. Автор приходит к выводу, что, если не считать широкого нетерминологического употребления, в соответ- ствии с которым слово ἐνυπόστατον могло означать все действительно существующее, в том числе и случайные свойства, в этот период сторонники Халкидонского Собора использовали термин «воипостасное» («воипостасная сущность») для обозначения 1) природы (сущности, вида), находящей свое выражение и усматриваемой в отдельной ипостаси; 2) природ, соединившихся друг с другом, сосуществующих и усматриваемых в одной общей ипостаси. В дополнение к этим двум основным значениям у таких богословов, как свт. Анастасий Антиохийский, прп. Максим Исповедник и, особенно, прп. Иоанн Дамаскин, можно указать еще одно значение: природа (сущность), воспринятая ипостасью другого рода, существующая в ней и имеющая ее своей ипостасью
Христология, дифизитство, христологические споры, ипостась, воипостасное
Короткий адрес: https://sciup.org/140223514
IDR: 140223514
Текст научной статьи Понятие "воипостасное" в дифизитской христологии после Леонтия Византийского
Понятие «воипостасное», введенное в контекст христологических дискуссий в первой половине VI в. в сочинениях таких авторов, как Иоанн Грамматик и Леонтий Византийский, стало одной из основных философских концепций, которую сторонники Халкидонского собора VI–VIII вв. активно использовали как для формирования системы дифизитской христологии, так и в целях полемики с монофизитством и несторианством.
Установлению значения термина «воипостасное» у Леонтия Византийского посвящена обширная научная литература1, в то же время использование этого термина последующими авторами-дифизитами исследовано недостаточно.
1. Современники Леонтия
Прежде чем говорить о концепции «воипостасное» в дифизитской христологии после Леонтия, чью деятельность исследователи относят ко второй четверти VI в.2, следует отметить ряд его современников, имена большинства из которых редко упоминаются в связи с этим понятием.
Евстафий Монах
В единственном сохранившемся послании Евстафия, которое датируется 532– 540 гг.3, слово «воипостасный» встречается трижды. Два раза этот термин употребляется в его изначальном значении, в противопоставлении безыпостасному (ἀνυπόστατος)4 и воображаемому (φαντασιώδης)5. Один раз термин «воипостасный» использован при обсуждении вопроса о соединении двух природ во Христе. Евстафий обращает к Севиру Антиохийскому следующий вопрос: «Не представляется ли тебе, что и после соединения нужно знать и именовать во Христе две природы, и при том воипостасные (ἐνυποστάτους)?»6. Поскольку как халкидонит Евстафий не мог признавать во Христе две ипостаси, слово «воипостасные» в данном случае должно означать две реальные природы, сосуществующие в одной общей ипостаси. Таким образом, Евстафий в своем понимании воипостасного не выходит за границы, очерченные Леонтием Византийским.
Свт. Ефрем Антиохийский
Свт. Ефрем Антиохийский (†545) иногда полемизировал против монофизитско-го тезиса о невозможности безличной природы без использования самого термина «ἐνυπόστατος», однако опираясь при этом на саму идею воипостасного бытия7.
Однако в принадлежащем свт. Ефрему собрании дефиниций, адресованных апамейскому философу пресвитеру Акакию, содержится одна из первых попыток не только дать определение «воипостасного», но и использовать это понятие в христологии: «Воипостасное есть то, что находится в ипостаси (τὸ ἐν τῇ ὑποστάσει καθιδρυμένον), как, например, размер, белизна, отцовство или же собственно существующее и непризрачно в существовании познаваемое (τὸ κυρίως ὄν καὶ ἀφαντάστως ἐν ὑπάρξει γνωριζόμενον). Плоть Бога Слова мы не называем ипостасью, ибо она не существует сама по себе (καθ’ ἑαυτὴν ὑπέστη) как всякая обычная ипостась. Также мы не называем ее безыпостасной, поскольку это слово обозначает несуществующее. Поэтому определяем эту природу как воипостасную или же восуществленную и восуществен-ную (ἐνυπόστατον ἤγουν ἐνύπαρκτόν τε καὶ ἐνούσιον)»8.
Трудно сказать, чье определение — Леонтия Византийского или свт. Ефрема — появилось раньше. С большой степенью уверенности можно утверждать, что взаимозависимость здесь вряд ли имеет место, поскольку определения существенно различны. Согласно Леонтию, воипостасное обозначает только сущность, но не то, что является свойством, существенным или акцидентальным9, тогда как свт. Ефрем относит к вои-постасному также и свойства, в том числе и случайные. Кроме того, в отличие от Леонтия, свт. Ефрем определяет воипостасное как «то, что находится в ипостаси».
Леонтий Иерусалимский
Большинство исследователей датирует период литературной активности Леонтия Иерусалимского 30–40 гг. VI столет ия10. Д. Краусмюллер, усмотрев в трактате Леонтия
«Против несториан» аллюзии на события церковной и политической жизни Византии начала VII в., высказал гипотезу, согласно которой Леонтий жил на рубеже VI–VII вв.11 Однако аргументация Д. Краусмюллера не представляется настолько убедительной, чтобы поставить под сомнение общепринятую в современной науке датировку времени написания трактатов Леонтия12.
У Леонтия Иерусалимского имеют место те же значения термина «воипостасное», что и у Леонтия Византийского: «Мы говорим, что две природы существуют в одной и той же ипостаси (τὰς δύο φύσεις ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ὑποστάσει ὑφίστασθαι); конечно, не так, что одна из двух может пребывать в ней безыпостасно (ἀνυποστάτου εἶναι ἐν αὐτῇ), но так, что обе могут существовать в одной общей ипостаси (ἐν μιᾷ κοινῇ… ὑποστάσει), и таким образом каждая из двух является воипостасной по одной и той же ипостаси (κατὰ τὴν αὐτὴν καὶ μίαν ὑπόστασιν, ἑκατέρας ἐνυποστάτου οὔσης). Ведь для того, чтобы быть чем-то, нет никакой необходимости всецело существовать также и самому по себе… Когда имеются природы, они должны обладать действительным существованием и быть воипостасными (ἐνυποστάτους). Поскольку же они не являются независимыми одна от другой, ибо известно, что между ними произошло соединение, нет необходимости существовать каждой их них самой по себе. Таким образом, понятно, [природы] не должны быть иноипостасными (οὐχ ἑτεροϋπόστατον), но каждая из обоих должна мыслиться как воипостасное (τὸ ἐνυπόστατον), [пребывающее] в одной и той же ипостаси»13.
Таким образом, Иерусалимит понимает под воипостасным, во-первых, просто реально существующую природу, находящую свое выражение в ипостаси, а во-вторых, природу, сосуществующую с другой природой в единой общей ипостаси. С целью дополнительно акцентировать мысль о совместном существовании природ в единой общей ипостаси Леонтий Иерусалимский вводит новый термин — «совоипостасный» (συνενυπόστατος)14 не встречающийся у его византийского коллеги.
Для того чтобы более четко различить два значения термина, Леонтий противопоставляет воипостасное, с одной стороны, безыпостасному (ἀνυπόστατος)15, а с другой — самоипостасному (ἰδιοϋπόστατος)16. Последний термин, по всей видимости, означает природу, выражающую себя в отдельной собственной ипостаси без какого-либо соучастия других природ. Термин «самоипостасный» не встречается у Леонтия Византийского, но был известен Иоанну Грамматику17.
Христологические системы двух Леонтиев, несомненно, существенно различны. В отличие от Византийца, Иерусалимит
а) однозначно отождествлял Ипостась Христа с Ипостасью предвечного Логоса18;
б) развивал учение о восприятии (πρόσληψις)19 человечества в Ипостась Бога Слова. Он утверждал, что «человечество Спасителя не существовало в своей собственной ипостаси (ἐν ἰδιαζούσῃ ὑποστῆναι), но с самого начала существует в ипостаси Логоса (ἐν τῇ τοῦ Λόγου ὑποστάσει ὑφεστηκέναι)»20.
2. Авторы второй половины VI в.
Учение о восприятии человеческой природы в Ипостась Логоса дополняется у него концепцией персонификации (наделения лицом) воспринятого человечества:
«Им усвоено все, что существует в лице Его плоти: и телесные страдания, и внешние оскорбления, и все то, что является для нее случайным, т. к. Он, восприняв [плоть] в собственную Ипостась (τῇ… ἰδίᾳ ὑποστάσει αὐτὴν ἀνειληφῶς), наделил ее лицом (ἐπροσωποποίσεν)»21.
Возможность существования природы в ипостаси иного рода Леонтий обосновывает ссылкой на божественное всемогущество: «Если Бог является причиной природы и ипостаси, то что препятствует Ему поместить какую-либо природу в другую ипостась (μετατιθέναι φύσιν τινὰ εἰς ἑτέραν ὑπόστασιν)?»22.
Несмотря на разработанное учение о существовании воспринятого человечества в Ипостаси Логоса, для раскрытия этой идеи Леонтий Иерусалимский тем не менее не пользуется термином «воипостасное». Один раз он употребляет с этой целью соответствующий глагол ἐνυποστάναι (аористный инфинитив от ἐνυφίστημι; «существовать в чем-либо», «наделять существованием в чем-либо», «воипостазировать»)23: «В последние времена Слово, облекши плотью Cвою Ипостась, существовавшую прежде Его человеческой природы,.. воипостазировало человеческую природу (τὴν ἀνθρωπείαν φύσιν ἐνυπέστασεν)»24. С той же целью он использует и соответствующую причастную форму: «Подверженная страданию [плоть] существует в Бесстрастном (ἐνυποστᾶσα τῷ ἀπαθεῖ)»25.
Таким образом, в христологической системе Леонтия Иерусалимского уже отчасти намечено еще одно возможное значение термина «воипостасное». Если божественная природа может быть названа «воипостасной» только потому, что она сосуществует с природой человеческой в общей ипостаси, то человеческая также и потому, что была воспринята Словом и существует в Ипостаси божественной.
Однако, если не считать указанных случаев употребления глагольной и причастной форм, значение собственно термина «воипостасное» у Леонтия Иерусалимского фактически не отличается от того, что имело место у Леонтия Византийского.
Трактат «О разделениях»
Включенный в состав леонтьевского корпуса анонимный трактат «О разделениях», окончательная редакция которого датируется 581–607/608 гг.26, интересен тем, что в нем термины «ἐνυπόστατον» и «ἀνυπόστατον» не противопоставляются. При этом для обозначения соединившихся во Христе природ в трактате используется именно термин «ἀνυπόστατον».
Для автора трактата термины «ипостась» и «воипостасное» являются практически синонимами и могут обозначать как существующее само по себе, так и нечто просто обладающее действительным бытием27. Поэтому наименование природ во Христе «воипостасными» может быть понято как введение «двух лиц и двух христов и двух сынов»28.
Термин же «безыпостасное» (ἀνυπόστατον) помимо значения «реально не существующее» (μὴ ὄν), может означать также и «то, что имеет ипостась в другом (ἔχον δὲ ἐν ἑτέρῳ τὴν ὑπόστασιν) и не существует само по себе, каковы, например, суть случайные свойства (τὰ συμβεβηκότα)»29. По мнению автора трактата, природы Христа можно называть безыпостасными30.
Памфил Палестинский
Ж. Деклерк отождествляет Памфила Палестинского с диаконом Памфилом, доставившим в середине 30-х гг. VI в. папе Агапиту письмо с требованием принять меры против Севира и его сторонников, укреплявших свои позиции в Константинополе. По мнению Деклерка, Памфил написал свое сочинение через 20–30 лет после этих событий31. Грильмайер относит написание «Глав» Памфила к 570–620 гг.32
В употреблении термина «воипостасное» Памфил следует Леонтию Византийскому. С одной стороны, он противопоставляет «воипостасное» и «безыпостасное», а с другой, считает необходимым отождествлять «воипостасное» с природой (сущностью): «Безыпостасная природа (ἀνυπόστατος φύσις), т. е. сущность, никогда не могла бы существовать, но воипостасное, т. е. реально существующая вещь, в самой себе усматриваемая и не в другом имеющая бытие (ἀλλ’ ἐνυπόστατος, τουτέστι πρᾶγμα ὑφεστὼς ἐν ἑαυτῷ θεορούμενον, καὶ οὐκ ἐν ἑτέρῳ ἔχον τὸ εἶναι), подобно привходящим свойствам (τὰ συμβεβηκότα), ибо последние усматриваются относительно сущности и сами по себе существовать не могут… Не таково же воипостасное, т. е. природа (ἐνυπόστατον, τουτέστι φύσις)… Ведь воипостасное… обнаруживает сущность и обозначает общий вид (οὐσίαν δηλοῖ, καὶ τὸ κοινὸν τοῦ εἴδους σημαίνει). Ипостась же образует некоего человека (τὸν τινὰ ἄνθρωπον), лицо (πρόσωπον), определяемое характеристическими свойствами, и индивидуальное от общего (τὸ ἰδίον ἀπὸ τοῦ κοινοῦ) отграничивает. Воипостасное (τὸ ἐνυπόστατον) обозначает то, что не является привходящим свойством, но в самом себе и в собственном существовании усматривается (ἐν ἑαυτῷ καὶ ἐν ἰδίᾳ ὑπάρξει θεορούμενον)»33.
Таким образом, Памфил не только отождествляет «воипостасное» с природой и сущностью, но и вполне четко отличает «воипостасное» как от собственно ипостаси, так и от привходящих свойств.
Исходя из противопоставления воипостасного и ипостаси, он считает невозможным рассматривать воспринятое Словом человечество как ипостась. Бог Слово «воспринял некую отдельную воипостасную сущность (οὐσίαν ἐνυπόστατον τι μέρος λάβων)… в Свою собственную Ипостась (εἰς τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν)… Он не воспринял ипостась, но человеческую воипостасную сущность (οὐσίαν ἀνθρωπίνην ἐνυπόστατον)»34.
Таким образом, у Памфила понятие воипостасной сущности впервые в истории халкидонитского богословия связывается с идеей восприятия сущности ипостасью другого рода.
Свт. Анастасий Антиохийский
Г. Вайсс высказывает удивление в связи с тем, что свт. Анастасий (†598) не использует в большинстве своих произведений формулу «воипостасная природа» (φύσις ἐνυπόστατος), хотя она весьма соответствует его богословскому видению35. В самом деле, учение о воипостасной сущности представлено только в одном из сохранивших ся произведений святителя — в «Ди спуте с тритеитом».
В самом общем смысле «воипостасное», согласно свт. Анастасию, обозначает все то, что обладает действительным существованием: «Природа же не есть безыпостас-ное. Ведь все существующее (πᾶν γὰρ ὑπάρχον), либо само по себе (καθ’ ἑαυτὸ), либо совместно с другим (σὺν ἑτέρῳ), либо в другом имеющее существование (ἐν ἑτέρῳ ἔχον τὴν ὕπαρξιν), есть воипостасное»36.
Сближая, вслед за обоими Леонтиями, понятия «природа» и «воипостасное», он проводит четкое различие между воипостасным и ипостасью: «Воипостасное есть то, что существует некоторым образом, ипостась же — то, что усматривается как [существующее] само по себе (καθ’ ἁυτὸ θεωρούμενον), а не совместно с другим и не в другом»37.
Переходя к собственно христологической проблематике, свт. Анастасий определяет воспринятое Логосом человечество как «воипостасную сущность»: «Восуществлен-ная Ипостась Слова восприняла воипостасную сущность человека (τὴν ἐνυπόστατον οὐσίαν… τοῦ ἀνθρώπου), т. е. существующую и имеющую ипостась в Слове (οὖσαν, ὑποστᾶσαν δὲ ἐν τῷ λόγῳ), а не являющуюся ипостасью»38.
Таким образом, Христос является «общей Ипостасью» (ἡ κοινὴ ὑπόστασις) для божества и человечества39. Здесь, как и у Памфила, видна попытка использовать термин «воипостасная сущность» для выражения идеи включенности природы (человечество) в ипостась иного рода (Ипостась Слова).
Ипостась Христа святитель мыслит не как композит, образовавшийся в результате соединения божества и человечества, поскольку, не рассматривая воспринятое человечество как ипостась, о Боге Слове он и после воплощения говорит как об ипостаси. На типичный для монофизитов вопрос тритеита: «Разве не имела человеческая природа во Христе собственных акциденций?», святитель отвечает: «Отдельно от Ипостаси Слова никогда, ибо и не существовала вне Его»40. Очевидно, тем самым свт. Анастасий хотел сказать, что, Логос, восприняв человечество, лично усвоил и его акциденции, поэтому наличие в человечестве Христа индивидуальных особенностей не означает его ипостасного характера.
Согласно Т. Хайнталер, свт. Анастасий был одним из тех, кто наиболее ясно учили о «воипостасном статусе человеческой природы» Христа41.
Как и свт. Ефрем Антиохийский, свт. Анастасий считал возможным определять как воипостасное не только природу (сущность), но и природные свойства: «Воипо-стасным является и качество в теле, каковы белизна или чернота…»42.
3. Авторы VII–VIII вв.
Прп. Анастасий Синаит
Прп. Анастасий Синаит пользуется термином «воипостасное» достаточно редко. Во второй главе своего главного труда «Путеводитель», окончательная редакция которого относится к 686–689 гг.43, прп. Анастасий акцентирует прежде всего сотериоло-гический аспект данной концепции: «Святую плоть Христа мы называем не лицом, а сущностью, дабы обозначить, что Он воспринял и спас все целиком естество наше.
Ибо если мы назовем эту плоть ипостасью, то окажется, что мы утверждаем, будто Христос воспринял и спас некоего одного человека… Поэтому мы считаем эту плоть Христову не ипостасью, но воипостасным (Ἐνυπόστατον μέντοι αὐτὴν λέγομεν, οὐ μὴν ὑπόστασιν)…»44.
Далее прп. Анастасий указывает, что «слово „воипостасное“ употребляется двумя способами: либо [оно обозначает] поистине существующее, либо своеобразную особенность в ипостаси (τὸ ἐν τῇ ὑποστάσει ἰδίωμα)…»45. Таким образом, согласно прп. Анастасию, «воипостасное» означает, с одной стороны, реально существующую, но не самоипостасную человеческую природу («плоть Христа»), а, с другой, совокупность акциденций («своеобразную особенность в ипостаси»), которые также определяются им как воипостасные.
Однажды прп. Анастасий использует выражение «воипостасная плоть Бога» (ἐνυποστάτου σαρκὸς Θεοῦ)»46.
Прп. Максим Исповедник (580–662 гг.)
Если не принимать во внимание традиционного тринитарного употребления47, прп. Максим обращается к рассмотрению значения термина «воипостасное» по крайней мере в четырех своих произведениях: дважды в христологическом контексте48 и дважды в составе собраний дефиниций, также имеющих в виду христологическую проблематику49.
Следуя Леонтию Византийскому, прп. Максим утверждает, что аксиома о невозможности безыпостасных природ не означает, что каждой действительно существующей природе соответствует отдельная ипостась: «Не неипостасное (τὸ μὴ ἀνυπόστατον) не делает природу ипостасью, но воипостасным, которое не постигается подобно акциденции простым примышлением, но созерцается как действительный вид (εἶδος)»50. В том, что акциденции не должны определяться как воипостасные, прп. Максим также следует за Византийцем, хотя однажды прп. Максим все же говорит, что воипостасными могут быть названы и «качества, как существенные, так и прису-щественные (αἱ ποιότητες, αἵ τε οὐσιώδεις καὶ ἐπουσιώδεις)»51.
Прп. Максим определяет воипостасное прежде всего как «то, что находится в ипостаси (αὐτὸ τὸ ἐν ὑποστάσει ὄν) и не существует в себе самом само по себе (ἐν ἑαυτῷ καθ’ ἑαυτὸ)»52. В трактате «Различные определения» прп. Максим утверждает, что «воипо-стасное» (ἐνυπόστατον) есть, во-первых, «общее по сущности (τὸ κατὰ οὐσίαν κοινὸν), т. е. вид (τὸ εἶδος), самостоятельно и действительным образом существующий в подлежащих ему индивидах (τὸ ἐν τοῖς ὑπ’ αὐτὸ ἀτόμοις πραγματικῶς ὑφιστάμενον) и не созерцаемый лишь простым примышлением», а во-вторых, «то, что соединяется и составляет с чем-либо другим, отличным от него по сущности, единое лицо и единую ипостась (τὸ ἄλλῳ διαφόρῳ κατὰ τὴν οὐσίαν εἱς ἑνὸς σύστασιν προσώπου καὶ μιᾶς γένεσιν ὑποστάσεως), будучи никоим образом не познаваемым само по себе»53.
Далее в этом же трактате прп. Максим пишет: «Собственно ипостасью называется то, что созерцается само по себе и отличается от принадлежащих тому же виду по числу. Собственно же воипостасным называется или то, что, соединившись с чем-то другим, отличным по сущности, неразрушимым образом, познается в [единой] ипостаси, или же то, что естественным образом существует в неделимых»54.
Очевидно, что в соответствии с первым значением воипостасными могут быть названы и божество, и человечество Христа55. Похожее определение содержится и в «Послании к диакону Косьме»: «Воипостасное в действительности не существует само по себе, но созерцается в других, как вид в подлежащих ему индивидах, или оно есть то, что находится в сосложении с чем-то другим, отличным от него по сущности, для того, чтобы составить некое целое (τὸ σὺν ἄλλῳ διάφορῳ κατὰ τὴν οὐσίαν εἱς ὅλου τινὸς γένεσιν συντιθέμενον)»56.
Итак, согласно прп. Максиму, воипостасное характеризуется тем, что оно не существует само по себе и усматривается в ином, а не в самом себе, и может обозначать общий вид, существующий и усматриваемый в подлежащих ему индивидах, а также то, что находится в состоянии сосложения с чем-то иным, отличным от него по сущности, и образует с последним единое целое.
В своем учении о воплощении прп. Максим заимствует ряд идей у Леонтия Иерусалимского: восприятие (πρόσληψις) человечества Ипостасью Бога Слова, наделение воспринятого человечества лицом (ипостасью), пребывание и существование воспринятой человеческой природы в Логосе. Прп. Максим учит, что Сын Божий, воплотившись, стал совершенным человеком «через восприятие плоти (κατὰ πρόσληψιν… σαρκὸς)», которая была одарена мыслящей и разумной душой и получила «природу и ипостась (τὴν ὑπόστασιν) в Нем (ἐν αὐτῷ), т. е. [получила] бытие и существование в самый миг зачатия Слова»57. В другом послании прп. Максим утверждает, что человечество «в самом Боге Слове получило бытие и существование»58.
Однако, в отличие от Леонтия, для пояснения мысли о динамической включенности воспринятой человеческой природы в ипостась Слова прп. Максим по крайней мере однажды использует понятие «воипостасное»: «Плоть Бога Слова не есть ипостась… Ведь никогда она не существовала сама по себе,.. но всегда была воипостасной (ἐνυπόστατος), т. к. в Нем (ἐν αὐτῷ) и через Него она восприняла бытие и сделалась по соединению Его плотью… точнее говоря, стала по ипостаси собственным свойством самого Бога Слова (αὐτοῦ τοῦ Λόγου καθ’ ὑπόστασιν ποιουμένη τὸ ἴδιον)»59.
Прп. Иоанн Дамаскин
У прп. Иоанн Дамаскина учение о воипостасном представлено в наиболее систематическом виде. В «Диалектике» прп. Иоанн сначала приводит наиболее общее определение воипостасного: «Слово „воипостасное“ имеет два значения, ибо оно означает и сущее вообще — в этом смысле мы называем воипостасным не только сущность вообще (τὴν ἁπλῶς οὐσίαν), но и акциденцию (τὸ συμβεβηκὸς); но оно означает и отдельную ипостась (τὴν καθ’ αὐτὸ ὑπόστασιν), или индивид (τὸ ἄτομον)»60. Таким образом, воипостасное может обозначать и отдельную ипостась (индивид), что соответствует употреблению этого термина авторами IV–V вв., и вообще сущее, т. е. все обладающее действительным существованием, в том числе и акциденции.
Что касается первого из этих двух значений, то прп. Иоанн считает его некорректным: хотя слово «воипостасное» иногда и означает «самосущую ипостась (τὴν
καθ’ ἑαυτὸ ὑπόστασιν), т. е. индивид (τὸ ἄτομον)», последний, однако, «в строгом смысле не есть нечто воипостасное (ἐνυπόστατον), но есть самая ипостась и называется так»61.
Следуя Леонтию Византийскому, прп. Иоанн считает необходимым концептуально различать «воипостасное» и «ипостась». «Воипостасное же не есть ипостась, но то, что усматривается в ипостаси»62, а потому «мы не отождествляем воипостасное с ипостасью»63, и «воипостасное не должно называться ипостасью»64.
Если следовать этому различию, то к воипостасному следует отнести и «сущности, и существенные разности, и виды, и акциденции», поскольку они не существуют сами по себе, но созерцаются в ипостасях65. Однако в трактате «Против яковитов» прп. Иоанн, также как и Леонтий Византийский, не считает корректным прилагать наименование «воипостасное» по отношению к акциденциям: «Ипостась же обозначает кого-то… а воипостасное — сущность. И ипостась определяет лицо характеристическими свойствами, а воипостасное [указывает] на то, что не есть привходящий признак, имеющий существование в другом»66.
Поскольку слово «воипостасное» может означать не только «сущность, как в ипостаси созерцаемую», но также и «каждое из входящих в состав одной ипостаси, как душа и тело», воипостасными могут быть названы также божество и человечество Христа, поскольку «имеют одну общую Ипостась, божество предвечно и вовеки, а одушевленная и мыслящая плоть, после того как в последние времена была Им воспринята, и в Нем получив существование, обрела Его ипостасью»67. В силу того, что у двух природ Христа «общая единая Его Ипостась, у божества от вечности… а у Его плоти… после того, как она недавно в ней осуществилась и обрела ее собственной ипостасью», мы называем Его Ипостась «восуществленной,.. воипостасным же каждую из Его сущностей»68.
В «Диалектике» прп. Иоанн рассматривает три возможных значения термина «во-ипостасное»: «В собственном смысле воипостасным называется то, что не существует само по себе (τὸ καθ’ ἑαυτὸ μὲν μὴ ὑφιστάμενον), но созерцается в ипостасях (ἐν ταῖς ὑποστάσεσι θεωρούμενον): так вид, или природа, людей не созерцается в собственной ипостаси, но в Петре, Павле и в других человеческих ипостасях, — или то, что соединяется с другим, отличным от него по сущности, в нечто целое и образует одну сложную ипостась (μίαν ἀποτελοῦν ὑπόστασιν σύνθετον)… Кроме того, воипостасной называется природа, воспринятая другой ипостасью и в ней получившая свое бытие (ὑφ’ ἑτέρας ὑποστάσεως προσληφθεῖσα φύσις καὶ ἐν ἑαυτῇ ἐσχηκυῖα τὴν ὕπαρξιν). Отсюда и плоть Господа, не существовавшая самостоятельно (καθ’ ἑαυτὴν) ни в один момент времени, не есть ипостась, но нечто воипостасное; ибо, будучи воспринята Ипостасью Бога Слова (τῇ ὑποστάσει τοῦ Θεοῦ Λόγου… προσληφθεῖσα), она в ней существует и имела ее своей ипостасью»69.
Очевидно, что с точки зрения христологической проблематики наибольший интерес для прп. Иоанна представляет последнее из трех значений. В полемике с якови-тами он говорит, что человечество Христа «мы называем… воипостасным не потому, что оно имеет собственную ипостась, но поскольку существует в Ипостаси Слова»70.
Понятием «воипостасное» для выражения мысли о том, что человечество Христа получило бытие и существовало в Ипостаси Слова, а Слово сделалось ипостасью для человечества, прп. Иоанн пользуется в полемике с несторианами: «Христос, будучи одной из Ипостасей божества, и имея в Себе всю природу божества без недостатка, воспринял от святой Девы не ипостась, а воипостасную плоть, в Нем обретшую ипостась»71. Предельно ясно эта мысль представлена и в «Точном изложении Православной веры»: «Плоть Бога Слова не существовала самобытно и не стала другой ипостасью, отличной от Ипостаси Бога Слова, но… существовала в ней как воипостасная, не будучи самобытной ипостасью»72.
Наряду с термином «воипостасное» прп. Иоанн использует в этих целях и формулу «воипостасная природа». Он учит, что Христос «воспринял воипостасную природу (φύσιν… ἐνυπόστατον), начаток нашего устроения»73.
Прп. Иоанн Дамаскин был фактически единственным халкидонитским богословом эпохи Вселенских Соборов, в христологической системе которого концепция «воипостасное» не только занимала центральное место, но и была теснейшими образом связана с другими важнейшими для дифизитской христологии понятиями — «ипостасное соединение» и «сложная ипостась»: «Ипостасное соединение (ἡ καθ’ ὑπόστασιν ἑνώσις) дает одну сложную ипостась вошедших в соединение природ (μίαν ὑπόστασιν τῶν ἡνωμένων ἀποτελεῖ σύνθετον), в которой сохраняются неслитно и неизменно участвующие в соединении природы, их разности и присущие им естественные свойства74… как природы могут соединяться между собой ипостасно, так возможно и природе быть воспринятой ипостасью и в ней иметь свое существование (φύσιν προσληφθῆναι ὑπὸ τῆς ὑποστάσεως, καὶ ἐν αὑτῇ ὑποστῆναι δυνατόν). И то, и другое мы видим во Христе… В Нем и природы, Божественная и человеческая, соединились, и одушевленная плоть Его получила бытие в существовавшей прежде ипостаси Бога Слова и имеет ту же ипостась (ἐν τῇ προϋπαρχούσῃ τοῦ Θεοῦ Λόγου ὑποστάσει ὑπέστη ἡ ἔμψυχος αὐτοῦ σὰρξ, καὶ αὐτὴν ἔσχεν ὑπόστασιν)»75.
По словам К. Роземонд, для христологии прп. Иоанна Дамаскина понятие «воипо-стасное» является системообразующим и, не принимая его во внимание, понять его христологическую мысль совершенно невозможно76.
***
Появление термина «воипостасное» в арсенале халкидонитского богословия было связано с необходимостью решить две христологические задачи: во-первых, устранить общий для несториан и монофизитов аргумент о несовместимости халкидон-ского ороса с общеизвестной философской аксиомой о невозможности безыпостасных (безличных) природ, и, во-вторых, уточнить способ взаимного существования двух природ в единой Ипостаси воплотившегося Слова.
При попытках определения воипостасного среди авторов-дифизитов обнаружились два подхода77. Представители первого (свт. Ефрем Антиохийский, Евстафий, автор трактата «О разделениях», прп. Анастасий Синаит) предлагали описательное определение этого понятия, понимая под воипостасным все, что действительно существует, но не является при этом ипостасью. Вторые исходили из установленного Леонтием Византийским четкого концептуального различия между ипостасью и воипо-стасным, отождествляя последнее с природой (сущностью). К их числу можно отнести Памфила, прп. Максима и, с определенными оговорками, Леонтия Иерусалимского и свт. Анастасия Антиохийского. Прп. Иоанн Дамаскин в «Диалектике» формально отдает дань и первому подходу, но в своих христологических трактатах точно следует установленному Леонтием Византийским различию.
У дифизитских авторов VI–VIII столетий термин «воипостасное» и параллельно с ним используемая рядом авторов (Памфил Палестинский, свт. Анастасий Антиохийский, прп. Иоанн Дамаскин) формула «воипостасная сущность (природа)» употребляется в двух основных значениях:
-
1. природа (сущность, вид), находящая свое выражение и усматриваемая в ипостаси;
-
2. соединившиеся друг с другом природы, существующие и усматриваемые в одной общей ипостаси.
У некоторых авторов (свт. Ефрем Антиохийский, Памфил, прп. Анастасий Синаит, прп. Максим Исповедник, прп. Иоанн Дамаскин) встречаются единичные высказывания о том, что в качестве воипостасных допустимо определять также и свойства, в том числе и случайные, однако в целом такое употребление термина «воипостасное» для дифизитских авторов не характерно.
В дополнении к двум вышеуказанным основным следует указать и еще одно значение: природа (сущность), воспринятая ипостасью другого рода, существующая в ней и имеющая ее своей ипостасью. Однако необходимо отметить, что сторонники Халкидона, развивавшие учение о восприятии человечества Ипостасью Логоса, ставшей ипостасью для плоти, достаточно редко использовали в этих целях сам термин «воипостасное». Так, Леонтий Иерусалимский вообще не пользуется данным термином. У Памфила, свт. Анастасия и прп. Максима встречаются лишь единичные случаи такого употребления. Более или менее нормативным использование термина «воипостасное» для выражения мысли о существовании воспринятого человечества в Ипостаси Логоса становится только у прп. Иоанна Дамаскина.
Список литературы Понятие "воипостасное" в дифизитской христологии после Леонтия Византийского
- Давыденков О. В. Термин «воипостасное» в христологических дискуссиях первой по-ловины VI века//Вестник русской христианской гуманитарной академии. Т. 17. Вып. 3.2016. С. 11-24.
- Мейендорф И., протопр. Иисус Христос в восточном православном богословии/Пер.с англ. свящ. О. Давыденков при участии Л. А. Успенской. М.: ПСТБИ, 2000.
- Соколов В., свящ. Леонтий Византийский. Его жизнь и литературные труды. Опытцерковно-исторической монографии//Леонтий Византийский: Cб. исслед. М.: Центр би-блейск.-патрол. исслед. Империум Пресс, 2006. С. 10-458.
- Anastasius I. von Antiochien. Jerusalemer Streitgespräch mit einem Tritheiten//Traditio.1981. Т. 37. P. 79-108.
- Anastasii Sinaitae Viae dux/Ed. K.-H. Uthemann. Turnhout; Leuven, 1981.
- Declerck J. H. Encore une foi Léonce et Pamphile//Orientalia Lovaniensia Analecta. Leuven,1994. Т. 60. P. 199-216.
- Ephraemi Antiocheni Apologia concilii Chalcedonensis ad Domnum et Ioannem//PG. T. 103.Col. 988С-1008А.
- Ephraemi Antiocheni Ad Acacium philosophum et presbyterum Apameensem//Helmer S. DerNeuchalkedonismus: Geschichte, Berechtigung und Bedeutung eines dogmengeschichtlichenBegriffes. Bonn, 1962. S. 271-272.
- Eustathii Monachi Epistola ad Timotheum Scholasticum de duabus naturis adversusSeverum//PG. T. 86. I. Col. 901C-941B.
- Gleede B. Te Development of the Term Enupostatos from Origen to John of Damaskus.Leiden; Boston, 2012.
- Gray P. Introduction//Leontius of Jerusalem. Against the Monophysites: Testemoniesof the Saints and Aporiae/Ed. and tr. P. Gray. Oxford, 2006. P. 1-43.
- Grillmeier A. Jesus der Christus im Glauben der Kirche. Bd. 2/3: Die Kirche von Jerusalemund Antiochien nach 451 bis 600. Freiburg; Basel; Wien, 2002.
- Grillmeier A. Le Christ dans la tradition chrétienne. T. II/2: L’Église de Constantinople auV1e siècle. Paris, 1993.
- Hainthaler T. Anastasius der große Bischof Antiochiens//Grillmeier A. Jesus der Christusim Glauben der Kirche. Bd. 2/3: Die Kirche von Jerusalem und Antiochien nach 451 bis 600.Freiburg; Basel; Wien, 2002. S. 374-402.
- Ioannis Damasceni Contra Jacobitas//PG. T. 94. Col. 1436A-1502D.
- Ioanni Damasceni De natura composita contra Acephalos//PG. T. 95. Col. 112С-125В.
- Ioanni Damasceni Dialectica//PG. T. 94. Col. 521A-675B.
- Ioanni Damasceni Dissertatio adversus Nestorianorum haeresim//PG. T. 95. Col. 188A-223C.
- Iohannis Caesariensis Capitula XVII contra Monophysitas // Idem. Opera quae supersunt / Ed.M. Richard // CCG. T. 1. Turnhout; Leuven, 1977. P. 61-66.
- Krausmüller D. Leontius of Jerusalem, a theologian of the 7th century//Journal of TeologicalStudies. 2001. № 52. P. 637-657.
- Leontii Byzantini Contra Nestorianos et Eutychianos//PG. T. 86. I. Col. 1267B-1396A.
- Leontii Byzantini De sectis//PG. T. 86. II. Col. 1193A-1268A.
- Leontii Hierosalymitani Contra Nestorianos//PG. T. 86. I. Col. 1399A-1768B.
- Maximi Confessoris Ambigua ad Iohannem//PG. T. 91. Col. 1061A-1417C.
- Maximi Confessoris Epistola 12 ad Ioannem cubicularium de rectis Ecclesiae Dei decretis, etadversus Severum haereticum//PG. T. 91. Col. 460A-509B.
- Maximi Confessoris Epistola 15 de communi et proprio, hoc est, de essentia et hypostasi, seupersona, ad Cosmam diaconum Alexandrinum//PG. T. 91. Col. 544C-576D.
- Maximi Confessoris Opuscula theologica et polemica 14. Variae definitiones//PG. T. 91. Col.149B-153B.
- Maximi Confessoris Opuscula theological et polemica16. De duabus unius Christivoluntatibus//PG. T. 91. Col. 184C-212B.
- Maximi Confessoris Opuscula theologica et polemica 23. Capita de substantia seu essentia etnatura, deque hypostasi et persona//PG. T. 91. Col. 260D-268A.
- Maximi Confessoris Qaestiones ad Talasium//PG. T. 90. Col. 244A-785B.
- Pamphili Teologi Diversorum capitum seu difficultatum solutio/Ed. J. H. Decklerq//CCG. T. 19. Turnhout, 1989. P. 127-261.
- Richard M. Léonce de Jérusalem et Léonce de Byzance//Mélanges de Science Religieuse.1944. Vol. 1. P. 35-88.
- Rozemond K. La Christologie de St. Jean Damascène. Etal, 1959.
- Utheman K.-H. Einleitung // Anastasii Sinaitae. Viae dux // CCG. T. 8. Turnhout; Brepols,1981. P. XXI-CCXLVII.
- Weiss G. Studia Anastasiana I. Studien zum Leben, zu den Schrifen und zur Teologie desPatriarchen Anastasius I. von Antiochien (559-598)//Miscelanea Byzantina Monacensia. Münich,1965.
- Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Θεσσαλονίκη, 1976