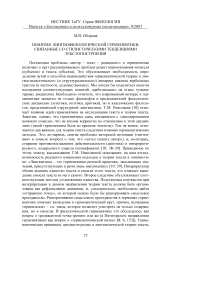Понятия лингвофилологической герменевтики, связанные со стилистическими тенденциями текстопостроения
Автор: Оборина Марина Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120485
IDR: 146120485
Текст статьи Понятия лингвофилологической герменевтики, связанные со стилистическими тенденциями текстопостроения
ПОНЯТИЯ ЛИНГВОФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТИЛИСТИЧЕСКИМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ ТЕКСТОПОСТРОЕНИЯ
Постановка проблемы «автор – текст – реципиент» в герменевтике включает в круг рассматриваемых проблем аспект взаимовлияния читателя (субъекта) и текста (объекта). Это обусловливает необходимость определения путей и способов взаимодействия герменевтической теории и лингвостилистического (и структуралистского) аппарата анализа вербальных текстов (в частности, художественных). Мы хотели бы поделиться опытом построения соответствующих понятий, «работающих» на стыке гуманитарных дисциплин. Необходимо отметить, что современный интерес к герменевтике захватил не только философов и представителей филологических дисциплин (эстетики, поэтики, критики), но и классических филологов, представителей структурной лингвистики. Т.М. Николаева [10] отмечает влияние идей герменевтики на исследования текста и теории текста. Заметим, однако, что герменевтика здесь связывается с «декодированием неявного смысла», что не вполне корректно по отношению к этой дисциплине (такой герменевтика была во времена экзегезы). Тем не менее, отмечаются два важных для теории текста следствия влияния герменевтических методов. Это, во-первых, снятие проблемы авторской интенции («интенции» в смысле вопроса о том, что «хотел сказать автор»), и, во-вторых, стирание противопоставления действительности (денотата) и интерпретируемого, кодируемого смысла (сигнификата) [10: 38–39]. Приводимое по этому поводу высказывание Т.М. Николаевой показывает, на наш взгляд, возможность реального изменения подходов к теории текста в лингвистике: «Лингвистика – это герменевтика речевой практики, экспликация значений, присутствующих в речи лишь имплицитно» [10: 39]. Интерпретатор обязан выявить единство текста и смысла этого текста, что означает выведение смысла текста из него самого. Второе следствие обусловливает соответствующие методы установления единства. Подстановка контекстов при интерпретации в данном направлении теории текста должна быть организована как рефлексивное движение, и, следовательно, необходимо найти «отправную точку», из которой можно было бы разворачивать смысловое пространство. Разворачивание смыслового пространства в терминах герменевтики означает вхождение в герменевтический круг, причем, вхождение «правильное» – т.е. такое, которое позволит усмотреть не только содержания, но и смыслы. В филологической герменевтике это обсуждалось как вопрос о «релевантной точке зрения» или же (в Пятигорском направлении герменевтики) как вопрос о «герменевтической вилке» [8: 6, 153]). Герменевтические принципы, предметизуемые в лингвистической теории текста, выглядят следующим образом: опора на языковой знак и рассмотрение понимания как упорядочивания семантического пространства с целью выявления некоторого общего, но не явно вербально выраженного смысла текста [10; 9]. В одной из работ В.Н. Топоров высказал важную, на наш взгляд, идею, направленную против традиции «научения» эпифеноменаль-ному пониманию. Идея заключается в том, что «подробный анализ того, “Как это устроено?” не ведет ... с неизбежной логикой к тому, “Что здесь сказано?”». И далее: «... постепенно понимая, “Что здесь сказано?”, мы уже посредством циклизированного анализа воссоздаем “Как устроено то, что здесь сказано?”» (цит. по [10: 2], см. также [18]). Аналогичная концепция интерпретации использована в работах Ю.М. Лотмана [9].
Полагая, что форма текста есть опредмеченная идея, можно утверждать, что средства текстопостроения, складывающиеся из материала языка и правил его организации в высказывания, могут использоваться как инструментарий и при интерпретации текста. Для этого их нужно представить понятийно, и использовать в качестве методологических оснований для интерпретации.
Мы описываем три грани понятия, исходя из критерия его целевого назначения. С теоретической точки зрения нам необходимо сущностное понятие, которое было бы «встроено» в соответствующую теорию, т.е. могло бы быть развернуто в онтологическое представление об объекте. С точки зрения «встроенности» в некоторую деятельность (в нашем случае – в герменевтическую) понятие «тенденций текстопостроения» необходимо для ее нормирования – как технологическое. В этом случае понятие должно отвечать следующим требованиям: определять культуросообразность деятельности (интерпретации), а значит формировать соответствующий предмет – интерпретацию текстов, в который входили бы представления о тексте, интерпретации и методах анализа и синтеза вербальных текстов. Понятие «тенденций текстопостроения» в этом случае должно иметь вид структурирующего герменевтическую деятельность метода. Следующая грань понятия «тенденций текстопостроения» задана его употреблением в практической позиции – с точки зрения практики интерпретации (а также педагогического аспекта этой практики). Методическое представление понятия должно иметь вид, во-первых, предметизованного конструкта (в данном случае – лингвистически предметизованного), и, во-вторых, методик и техник работы с текстом для получения соответствующего результата – достижения понимания текста при адекватной его интерпретации (адекватной с точки зрения культуросообразности).
Следует отметить, что понятие адекватной интерпретации связано для нас с соотношением интерпретации и понимания. Необходимо, на наш взгляд, различать: понимание без интерпретации (на основании обыденной, неподотчетной рефлексии), понимание через интерпретацию (что следует признать нормой «работы» с текстом для филолога, так как при этом рефлексия становится подотчетной, а понимание является ее фиксацией, объ- ективацией). Очевидно, во втором случае мы можем говорить об адекватности интерпретации, поскольку рефлексивные процедуры поддаются нормированию и фиксации. Точно так же, можно различать: интерпретацию без понимания (не основанную на рефлексии, и, следовательно, субъективно-волюнтаристскую), интерпретацию ради понимания (признание рефлексии в качестве основания достижения понимания) и, соответственно, интерпретацию на основе понимания (как способ проектирования дальнейшей деятельности, корректирование технологической схемы интерпретации и все более полное понимание).
С точки зрения филолого-герменевтического подхода к интерпретации текста принципы текстопостроения реализуются за счет основных тенденций текстопостроения. Традиционно уже выделяются актуализация / автоматизация, избыточность / энтропийность, экспликационность / имплика-ционность и некоторые другие (полифоническая организация текста, содержательность формы). Знание закономерностей текстопостроения существенно как с точки зрения риторического продуцирования текстов, так и с точки зрения их интерпретации (и может быть использовано при научении этим видам деятельности). Существенно, что средства текстопостроения (реализующие метасредства – тенденции), могут провоцировать своего рода методологическую рефлексию – т.е. имеют характер методологического указания по дальнейшему мыследействованию с текстом, либо фиксируют результат метарефлексии над рефлексивным процессом, приводящим к появлению смыслов и метасмыслов. Среди них: «средства, создающие представление о наличии вопроса, оставшегося без ответа»; «средства, выражающие или перевыражающие неполноту смысла в отрезке речевой цепи», «необходимость того, чтобы (субъект чтения или слушания) дополнил смысл», «средства, показывающие, что здесь – suspended thought» [5].
Среди конкретных средств текстопостроения, провоцирующих рефлексию такого рода (методологическую) – многие синтаксические конструкции, начинающие предложения так, чтобы сначала была рефлексия над возможным вопросом, затем – рефлексия над полученным ответом. Это имеет место, например, тогда, когда ремой в русском предложении оказывается грамматическое подлежащее. Так, текстопостроение влияет на оправдание / нарушение экспектаций и, следовательно, на характер индивидуации и на структурирование пространства понимания в целом.
В качестве базовой пары текстообразующих тенденций мы возьмем тенденции импликационности/экспликационности (далее и/э) [15; 16; 11; 12], руководствуясь практическими соображениями, среди которых: возможность оперирования не только с художественными, но и с любыми текстами вообще; использование универсальных закономерностей текстопо-строения, и существенность именно этих тенденций для пространственной организации понимания.
В соответствии с заданной нами схемой рассмотрения понятия и/э нам придется говорить о трех ситуациях использования понятия, со- ответственно, о теории понимания, о нормировании и механизме интерпретации, а также о практике интерпретирования.
Ситуация первая определяется представлениями о существе понимания (онтологии понимания) и представлениями о герменевтической деятельности. Рассматривая вопрос о возможности построения онтологии понимания (или о представлении понимания объектно), мы опираемся на работу Г.И. Богина [4] и, в частности, на положение о многоплоскостном характере этой онтологии [4: 36].
В герменевтике понимание мира как текста (и понимание самого текста) определяется прежде всего презумпцией осмысленности. Исходя из этого, сущностью понимания является осмысление [20: 198 – 201]. Следующим кардинальным положением, на наш взгляд, является представление о тексте как некоторой идеальной реальности (существует также термин «художественная реальность»). Идеальная реальность текста усматривается при обращении на текст сознания субъекта. Сам акт обращения сознания понимается как интенциональный акт [5]. Существенным является то, что интенциональность выступает одним из условий смыслосо-зидания.
Следующим важным положением является то, что обращение сознания на текст есть одновременное обращение его на самое себя – собственную рефлексивную реальность. Ноэтический момент интенционального акта задается самой направленностью сознания на текст, а ноэматический – связью идеальной реальности текста и рефлексивной реальности сознания. Соединение рефлексивной реальности сознания и идеальной реальности текста составляет существо интерпретации, приводящей к пониманию.
Соединение двух идеальных реальностей, вероятно, возможно помыслить, если допустить существование некоей идеальной связки – представления, категории, – которая бытийствует в обеих реальностях. Это может быть представление о стиле или жанре (как идеальных типах), либо о стилеобразующих тенденциях текстопостроения (в нашем случае – и/э). Текстообразующая деятельность может быть в свете вышеизложенного представлена как двунаправленная, или имеющая два фокуса: организации материала (текста) и организации рефлексии (рефлексивной реальности).
Представление о пространстве созерцания [18: 227] определяет его как категорию сознания, которая выступает эквивалентом реального пространства в непространственном сознании и имеет непосредственное отношение к интерпретации и пониманию текста, иными словами, это смысловое пространство идеального. Пространство созерцания выстраивается «по законам стиля» и имеет эквиваленты (корреляты) как в тексте, так и в сознании (рефлексивной реальности). Само сознание, со всеми содержаниями, организовано не пространственно, а парадигматически, но в самих представлениях есть пространство. Это пространство и создается направленными интенциональными актами и структурой текста. Графически это
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 9/2007___ представимо ортогональной трехплоскостной схемой, где три плоскости помечены как «текст» –«сознание» –«пространство созерцания» (cf. [8]).
Говоря о «пространстве» вообще, следует различать ньютоновское понимание пространства, где оно трактуется как нечто первичное и самодостаточное, независимое от материи и объектов, в нем находящихся, и пространство, определяемое идеями Лейбница – нечто относительное, определяемое порядком сосуществования объектов (см.: [18: 228]). Очевидно, что проблематика пространства и текста изоморфна.
В мифопоэтическом пространстве основными являются не метриче-ски-количественные, а топологически-качественные признаки [18: 279], следовательно, мы должны говорить о значимости формы текста как качественной характеристике (значении) места. Логическая организация форм воплощена в соорганизации мест. На уровне текста – это композиционносинтаксическая организация. Правила простирания вещей в художественном пространстве не совпадают с правилами их бытия в естественнонаучном пространстве [14]. Очевидно, что способность пространства к членению также определяет его облик [19].
Что касается таких характеристик пространства, как его порождение и развитие (способ разворачивания), то, в частности, В.Н. Топоров предполагает возможность порождения пространства «из ничего» – взрывом и распространением по всем направлениям от центра, и вторую возможность – интериоризацией пространства, вбиранием его в себя, когда внешний мир, проецируясь на субъекта, задает ему свою меру (см.: [18: 276, 278]).
Изложенные выше представления о пространственной организации стиля позволяют нам постулировать сущностное представление тенденций и/э возможно на основании рассмотрения двух логически-топологических пар: сворачивание / разворачивание пространства и замыкание / размыкание пространства, см. табл. 1.
Таблица 1
|
Замыкание |
Размыкание |
|
|
Сворачивание |
коллапс |
импликация |
|
Разворачивание |
экспликация |
взрыв (бесконечный дискурс во всех направлениях) |
Мы воспользовались в данном случае терминами логики (эксплика-ция/импликация). Импликационность / экспликационность реализуют тенденцию к тому или иному способу существования пространства и, в приложении к художественному тексту, будут иметь вид стилеобразующих тенденций текстопостроения.
Развернем теперь представления об экспликации и импликации как способах существования пространства. Процедура экспликации заключается в представлении части действительности как самодостаточной, поскольку результат эксплицирования не выносится в другую действительность, а остается в прежней и задает границу пространства. Границы, положенные разворачиванию, могут двигаться по вырезанному и замкнутому пространству, но содержательных изменений это не вызывает.
Процедура импликации – логически противоположное действие. При этом импликация предполагает отсутствие границ (их подвижность). Границы полагаются ресурсом энтропийности текста [9]. Результат имплицирования выносится в другую действительность, самодостаточность пространства, тем самым, нарушается.
Баланс тенденций и/э поддерживается в границах «взрыва» и «коллапса», если мы говорим о художественных текстах. Технически баланс поддерживается соответствующей стилистической организацией текста. Ю.М. Лотман описывает это как способность стилистических средств «обозначить любую часть универсума, выявив при этом – в отличие от нейтрального коррелята – большее число дифференциальных признаков» [9: 86].
Формально-логическое описание способов порождения и существования пространства может быть приведено для каждого из пространств с помощью общего понятия и/э и того конкретного морфологического наполнения, которое свойственно этим пространствам (рефлексивному, текстовому, смысловому).
Построение следующего, технологического, аспекта понятия и/э основывается на представлении о роли и механизме действия и/э тенденций при интерпретации текстов. Важно подчеркнуть, что рассмотрению подлежит именно деятельность интерпретации, высказанная рефлексия. Это не означает, однако, что вне целенаправленной интерпретации и/э тенденции действуют по-другому. Тем не менее, без осознания и знания культурных норм интерпретации велика возможность «склеивания» различных конструктов понимаемого (содержания, смыслов, значений), а также нарушения процедур смыслообразования (осуществление эпифеноменального понимания) (см.: [3; 4]). Для понимания художественного текста кроме знаний языка, в рамках которого текст создается, необходимо знание «законов данного жанра», «правил этого стиля», «особенностей художественной формы» и тому подобных норм, лежащих в иной плоскости, нежели нормы синтаксические и семантические. Недостаточно просто указать на то, что реципиент должен в своей интерпретации соотноситься с некоторыми нормами и образцами, зафиксированными (известными) в культуре. При этом «нормы и образцы» мыслятся неподвижными, застывшими, объективированными. Это представляется приемлемым при определенных условиях, например, при рассмотрении акта рецепции художественного текста культурным реципиентом в культурных условиях. Можно, однако, выделить обширный ряд ситуаций, в которых такого указания недостаточно. К ним относятся,
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 9/2007___ например, ситуации восприятия текста на «чужом» языке изучающим язык реципиентом, ситуации обучения, ситуации преодоления «культурного разрыва». В этом случае необходимым становится рассмотрение норм и образцов не как застывших организованностей, а как живой (мысле-) деятельности по их созданию.
Как уже было показано выше, и/э стилеобразующие тенденции тексто-построения определяют пространственную организацию художественной реальности. Вернее было бы говорить о хронотопической организации. Эти же тенденции указывают на способ разворачивания пространства и, соответственно, с одной стороны, нормируют рефлексию – движение в логическом пространстве действий, а с другой стороны, могут быть соотнесены с текстовой организацией, лингвистическими коррелятами. Следовательно, мы можем рассмотреть возможности текстовой организации в соотношении с восприятием, т.е. показать связь восприятия и текстопостроения.
Обращаясь к текстовой организации, следует отметить, что с точки зрения языка наиболее значимым является синтаксический уровень, поскольку синтаксическая организация текста есть его пространственное инобытие (см.: [7: 91])
По способу смыслообразования (при обращении на текст рефлексии) текстообразование может иметь форму механического, либо квантующегося, что задает и соответствующую процедуру смыслообразования: логическое разворачивание или интуитивный «всплеск». Очевидно, что в первом случае речь идет о силлогистически устроенном пространстве, а во втором – о топически устроенном, местоуказующем. Появляется возможность дважды говорить об и/э тенденциях текстопостроения – первый раз как о воплощенном в тексте механизме смыслоустроения, и второй раз – как о механизме интерпретирования, восприятия, см. табл. 2.
Таблица 2
|
Пространственные тенденции |
Механизм смыслоустроения |
||
|
механический |
квантующий |
||
|
Восприятие |
логическое (пропозиции) |
Э |
И -> Э |
|
«интуитивное» |
Э -> И |
И |
|
Табл. 2 позволяет описать соединение / разложение тексто- и стилеобразующих тенденций по отношению к их основной функции образования пространства созерцания. С одной стороны, можно отметить, что при квантующем (образном) строе текста происходит эксплицирование смыслов при восприятии в режиме логического разворачивания, а при механическом (силлогистическом) строе в режиме «схватывания» (когда обы- денная рефлексия переживается как интуиция) происходит «упаковка» смыслов. Таким образом, вывод, который можно сделать, сводится к следующему: баланс и/э тенденций текстопостроения создается контрбалансом текстового воплощения и технической организации понимания и фиксируется в надтекстовой рефлексии как способ разворачивания смыслов.
В контексте технологического аспекта понятия и/э механизм «реализации» тенденций описывается за счет рассмотрения двух плоскостей их представленности: 1) соотношение объективно данного и субъективно необходимого; 2) соотношение «видимого» и «невидимого», существующее в тексте. Чтобы далее представить реализацию каждой из тенденций в виде механизма движения по трем плоскостям можно задать следующие параметры этих плоскостей: для импликационности – внешняя невыраженность / объективное присутствие / субъективная недостаточность; для эксплика-ционности – внешняя выраженность / объективное отсутствие / субъективная избыточность. Каждая из плоскостей имеет инобытийную форму: внешнее выражение / невыражение – это языковая плоскость, представляющая, по сути, форму бытования значений (денотацию), это внешняя референция; объективное отсутствие / присутствие – это идеальная смысловая плоскость; субъективная недостаточность / избыточность – это феноменальная плоскость, основанная на чувственном опыте действований. Кроме того, важно, что для существования каждой из плоскостей необходимо существование двух других – только тогда каждая из них значима.
Характеристики описанных плоскостей неодинаковы при импликационной и экспликационной направленности. Заданность параметров определяет суть рефлексивных переходов в логическом пространстве интерпретации и их динамику [12].
Существенным для технологического аспекта понятия и/э является описание механизма действия и/э тенденций, оборотной стороной которого является нормирование интерпретации текстов с преобладанием той или иной тенденции. «Механизм действия» есть, собственно, правила движения в логическом пространстве действий (рефлексии).
Восприятие художественного текста предполагает осуществление встречного движения (действий в пространстве и с пространством). Если созидание пространства художественной реальности при реализации одной из тенденций идет определенным образом и таким же определенным образом воплощается в языковых формах, то для усмотрения смыслов необходимо пройти обратный путь, и пройти его заданным способом. Можно сослаться на аналогичный подход к интерпретационной деятельности, описанный Р. Бартом для структурализма (см.: [2: 255]). Мы утверждаем, таким образом, что текст, лежащий перед реципиентом, может быть представлен как отпечаток реализовавшейся тенденции текстопостроения. Именно в этом смысле можно говорить об организации понимания средствами текста [11].
Импликационный или экспликационный тип разворачивания пространства созерцания, «опрокинутый» на текстовые средства и на действо-вание реципиента, безусловно, нормирует это самое действование, и усмотрение и/э тенденций препятствует «склейкам» различного рода (смыслов и содержаний, содержаний и значений и т.п.). Более подробно нормирующей механизм и/э описан в работах [11–13] как механизм, обеспечивающий фиксации рефлексии при обращении на текст.
Технологический аспект понятия и/э тенденций представляет их в качестве средств, организующих рефлексивные движения реципиента при усмотрении содержательности текста, и, следовательно, средств, нормирующих интерпретацию (иначе: выявляет представленность тенденций в рефлексивной реальности – сознании). Каждая из тенденций может быть описана как последовательность движений по трем плоскостям: феноменальной (или действовательной), коммуникативной (или текстовой) и категориальной (смысловой). В каждой из плоскостей формируются соответствующие характеристики параметры и/э тенденций. Заданные таким образом характеристики определяют успешность восстановления стилевого пространства текста и, тем самым, оптимизируют понимание (усмотрение содержательности).
Для лингвистической предметизации формально-логических и сущностных представлений об и/э требуется построить методически адекватное понятие. Методический аспект связан с самой практикой филологогерменевтической интерпретации вербальных текстов (ср. высказывание Р. Барта о том, что «вся литература имеет дело с проблематикой языка» [2: 244]). Этот аспект неизбежно должен быть связан и с педагогической деятельностью – учебной интерпретацией текстов, что не исключает фокусировки на исследовании самой деятельности интерпретации текста в том ее виде, в котором она должна, на наш взгляд, существовать в филологической герменевтике.
Для представления методического аспекта понятия и/э стилеобразующих тенденций текстопостроения придется, во-первых, обратиться к «историческим корням» дихотомического разделения языковых средств при характеристике стилистических особенностей речи; во-вторых, показать соотношение характеристик текста как знака и текста в герменевтическом смысле; в-третьих, ввести представление о нормировании герменевтической процедуры интерпретации вербальных текстов. Эти три фокуса должны описать методически релевантное понятие и/э.
Стиль как организация пространства созерцания указывает на необходимые соответствия между этим пространством, пространством вербального текста и пространством рефлексии (логических действований). Возможна классификация языковых средств (например, тех, что причисляются к стилистическим средствам в лингвостилистике) по принципу их способности реализовывать ту или иную тенденции. Такая классификация должна учитывать характеристики, приписываемые каждому из средств в соответствии с местом в парадигме языка. Одновременно, необходимо отличать особенности использования этих стилистических средств: различие феноменальных эффектов, тип экспликационности или импликационности (т.е. особенности импликационного или экспликационного типа текстопо-строения и, соответственно, особенности пробуждения и направления рефлексии), различие конструктов понимаемого в каждом случае (смысл, содержание, значение). Каждый из конструктов по-своему существует в пространстве созерцания: смыслы растягиваются, переходят друг в друга, расслаиваются; содержание наращивается за счет расширения морфологических границ текста; значения развиваются за счет увеличения плоскостей отнесения; соответственно, и текстовые средства, способствующие реализации того или иного конструкта, неодинаковы в текстах, тяготеющих к импликационности или экспликационности.
В текстах подъязыка разговорной речи и/э тенденции с необходимостью сопровождаются автоматизацией и избыточностью речи, художественные тексты стремятся к энтропийности и предельной актуализации. Импликационными в разговорной речи могут быть только тексты с достаточной долей автоматизмов, с тем, чтобы поддерживать необходимый уровень избыточности. То же самое относится и к экспликационным текстам в разговорной речи. Здесь, однако, избыточность возможна и при актуализации (например, использование в речи семантико-синтаксических неологизмов). Для художественных текстов характерна корреляция и/э в условиях актуализации и энтропийности. Следует далее отметить, что о разных реализациях и/э в разговорной речи и художественных текстах можно говорить дважды. Во-первых, с точки зрения значимости для интерпретации, или пространственной организации коммуникации; во-вторых, с точки зрения качественных и количественных характеристик языковых единиц. В первом случае речь идет о стилевых характеристиках текста, «отраженного» в пространстве созерцания, при этом каждая пара стилистических текстообразующих тенденций особым образом воздействует на стиль: избыточность / энтропийность затрагивает содержательную плоскость текста, определяет структурные элементы количественно – задает определенность или неопределенность содержания; актуализация / автоматизация как организующий принцип имеет отношение главным образом к выявлению референциальных связей, вовне и вовнутрь направленных, актуализация обеспечивает выявление новых связей, глубину пространства созерцания, автоматизация – использование старых связей, что уплощает пространство (см. [11]). Во втором случае, мы говорим о самих языковых характеристиках, стилистических чертах, которые могут быть либо представлены как самодостаточные (смыслы таковы потому, что таковы средства, использованные в тексте, а не наоборот), либо как соотносящиеся с организационными принципами, реализующие их в языке. Иными словами, можно эти два аспекта представить как незнаковый и знаковый.
Далее, ввиду двойственности подхода к стилистическим тенденциям, мы должны обратить особое внимание на качественную определенность языковых средств. Под «качественной определенностью» языковых средств мы подразумеваем ту телеологичность, которая свойственна языку художественных текстов. В то время как существо стилистических тенденций остается тем же самым в различные периоды времени и в различных эстетических системах, сама языковая действительность трактуется по-разному. Например, различным образом представляются взаимоотношения знакового и незнакового, одни и те же организованности знаков связываются с различными функциями, смыслами, значимостями. Можно это объяснить, в частности, тем, что все человеческие, предметные, символические отношения социокультурной действительности в художественном тексте превращаются в текстообразующие факторы [6: 208]. Однако, один и тот же языковой прием может быть включен в совершенно разные эстетические системы и, соответственно, по-разному участвовать в стилеобразова-нии, так как это будет каждый раз другой прием. связь средства и функции существует как вещь, когда средство и его значение слито в одно. Для выявления природы того или иного значения следует «развеществить» этот комплекс, т.е. задать некоторые рамки, в которых «развеществление» возможно и, более того, показывает культурно-исторические и эстетические его корни. В нашем случае такой рамкой будет служить включенность стилистических средств в процесс реализации и/э тенденций тек-стопостроения.
Р. Барт полагает цель текстового анализа не в описании структуры текста (произведения), а в осуществлении подвижной структурации текста, в проникновении в содержательный объем произведения, в сам процесс формирования смысла [1: 308]. Анализ текстовой стороны произведения может быть включен в интерпретацию, поскольку направлен также на усмотрение смыслов (содержательности) текста. То, что Р. Барт называет «осуществлением подвижной структурации текста», является определенным методическим приемом анализа, за которым стоит сущностное отношение к тексту и к интерпретации. Текстовые (языковые) средства не обозначают смыслов, а выводят к ним, указывают пути их формирования, или стимулируют рефлексию реципиента. Основой текста выступает не столько его внутренняя структура («закрытая»), а его выход в другие тексты, другие коды, другие знаки, другие действительности. Иными словами, основой существования текста является интертекстуальность (как включенность в культурное пространство). Рефлексивный подход к тексту позволяет одновременно представлять его в предметно-чувственной (феноменальной), коммуникативно-языковой и смысловой (идеальной) плоскостях. Выход текста за пределы своей языковой сущности – это и его выход в пространство созерцания посредством прохождения через рефлексивное пространство действий. Этот выход, соответственно, осуществляется по-разному в различных текстах. Здесь вновь взаимоувязаны три вещи: простран- ство текста, пространство рефлексии и пространство созерцания. Это, собственно, есть герменевтический круг понимания.
И/э тенденции в тексте представлены как реализованные тенденции текстообразования, заключающиеся в осуществленной средствами языка организации текста. Эта организация стимулирует рефлексию таким образом, чтобы связать различные плоскости текстовой действительности в соответствии с принципом текстообразования.
Для описания лингвистической стороны интерпретации художественного текста и функционализации языковых средств по отношению к реализации и/э тенденций существенно также упомянуть о приводимом Цв. Тодоровым разделении текста на три аспекта: синтаксический, семантический и словесный [17: 49]. Это разделение аналогично проведенному Ю.М. Скребневым [15]. Предположительно, все стилистические средства основаны в своем механизме на реализации двух аспектов и потенциальной возможности третьего (указании на него). Традиционно относимые к реализующим и/э тенденции средства могут быть разделены в соответствии с реализованным взаимодействием аспектов: 1) синтаксического / семантического; 2) синтаксического / словесного; 3) словесного / семантического. При этом, для первой группы средств характерно взаимодействие между значением в речевой цепи и ситуативно переосмысленным значением, а также указание на парадигматическое, нормативное значение, что в совокупности обеспечивает функциональное место средства в создании текстового пространства. Для второй группы средств существенно взаимодействие значения в речевой цепи и парадигматического, нормативного значения, а также указание на ситуативное переосмысление (семантический аспект). Для третьей группы характерно взаимодействие парадигматического и переосмысленного в ситуации, а также указание на семантический аспект (значение в синтагме, речевой цепи).
Текстовые языковые средства, определенные, как указано выше, позволяют сделать три важных различения: 1) между реализованным в тексте («авторским») и нормативным (лингвистическим); 2) между реализованным в тексте и «своим» (ситуативным); 3) между «своим» и нормативным. Эти различения определяют конфигурацию текстового пространства, поскольку текстовое пространство содержит в себе и реализовавшееся, и потенциальное. Таким образом, происходит нормирование интерпретации как возможность соотнести объективные и субъективные компоненты при рефлексии.
Различение трех моментов возможно как результат рефлексивной остановки и фиксации вопросов, ответов на них и дальнейшей деятельности по освоению текстового пространства.
Разделение языковых средств на средства реализации импликационной или экспликационной тенденций текстопостроения относительно нормы может оказаться продуктивным и формально объективным. При этом формальные показатели не могут быть связаны с каким-либо определенным
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 9/2007___ значением, а служат в качестве «триггера» при обращении на текст рефлексии читателя.
Средства, реализующие ту или иную тенденции текстопостроения, несут в себе определенный актуализующий (пробуждающий рефлексию) потенциал. Для импликационной тенденции текстообразования можно определить следующее: 1) актуализующий фактор «разное как одно» и 2) движение по схеме «ограничивание, разворачивание, смыкание». Для экспли-кационной тенденции: 1) актуализующий фактор «одно как разное» и 2) движение по схеме «размыкание, сворачивание». В связи с выявленными основными принципами смыслообразования можно строить различные ти-пологизации стилистических средств.
Можно выделить два пути, по которым проходит лингвистическая предметизация понятия и/э в его методическом аспекте. В частности, логично говорить о средствах реализации и/э тенденций или же о месте реализации (имея в виду синтаксис, лексику, семантику, композицию). При рассмотрении вопроса о месте реализации акцент делается на языковой структуре текста, исходя из формально постулируемых языковых единиц: языковом выражении содержательности; иными словами, исходя из того, что содержательность рефлектируется в языковой структуре. Во втором случае, рассматривая средства реализации тенденций, необходимо основываться на структуре смысла и содержания.
На наш взгляд, экспликационной или импликационной является не та или иная конструкция (структурные особенности, количество материальных элементов, семантические особенности), а и/э характеристики содержательно-смыслового пространства. Средства языка, реализующие метасредства текстопостроения, способствуют стимулированию рефлексии при обращении сознания реципиента на текст. Кроме того, если тексты в обыденной коммуникации рассчитаны в основном на семантизирующее понимание, то художественные тексты рассчитанны также на когнитивное и распредмечивающее понимание [3]. При семантизирующем понимании единицам приписываются смыслы в пределах денотации, соответственно, и/э специфика коллоквиального синтаксиса определяет ситуативную специфику денотации. В случае анализа художественных текстов понимание обращено на актуальные или потенциальные содержания текста или/и на восстановление хода мыследействования продуцента. И/э тенденции в художественных текстах формируют пространство содержательности.
Методический аспект герменевтически релевантного понятия и/э тенденций текстопостроения указывает на основания, позволяющие говорить о существовании и/э тенденций в лингвистическом воплощении. Языковые средства организуют текст таким образом, чтобы пробуждать рефлексию, ведущую к усмотрению содержательности в пространстве художественной реальности.
Таким образом, три аспекта понятия и/э: сущностный, технологический и методический позволяют описать герменевтически релевантный подход к интерпретации текстов.
Первый аспект – сущностный – определяет и/э как принципы организации пространства художественной реальности – смыслоустроения. Стилистические тенденции выступают как тяготение к определенному типу организации смыслов. Для представления и/э тенденций были использованы в качестве параметров организации формально-логические действия «разворачивания / сворачивания» и «замыкания / размыкания». Эксплика-ционность была определена как тенденция к разворачиванию и замыканию смыслового пространства; импликационность – как тенденция к его размыканию и сворачиванию. Сущностный аспект понятий и/э определяет их место в формировании «релевантной точки зрения» (термин В.П. Литвинова) как основы герменевтической деятельности.
Второй аспект – технологический – связывает стилистические тенденции и/э с пространством логических действий (рефлексивным пространством). По существу, этот аспект описывает механизм деятельности по созданию норм и образцов интерпретации в соответствии с тенденциями смыслоустроения. Каждая из тенденций может быть представлена как последовательность движений по трем плоскостям, в совокупности составляющим характеристики-параметры тенденций. Каждая из плоскостей имеет инобытийную форму – в действительностях формирования компонентов и/э тенденций (внешней выраженности / невыраженности, объективного отсутствия / присутствия, субъективной недостаточности / избыточности). Качество этих компонентов и форма объективации рефлексии зависят от направления рефлексивных движений реципиента. Технологическое понятие и/э позволяет нормировать интерпретацию, не навязывая определенного («правильного») понимания. И/э тенденции текстопостроения выступают в данном случае средством стимулирования (пробуждения) рефлексии, что является, одновременно, и процессом нормообразования.
Третий – методический – аспект понятия и/э производит лингвистическое отнесение понятия о стилистических тенденциях. И/э тенденции в тексте представлены как реализованные в языке тенденции текстообразова-ния. Реализация эта заключается в том, что языковые средства организуют текст таким образом, чтобы стимулировать рефлексию, обеспечивая актуализацию смыслов в соответствии с и/э тенденциями. Вопрос об «адекватности интерпретации» оказывается связанным с функционализацией (телеологической) языковых средств в том или ином типе текста.