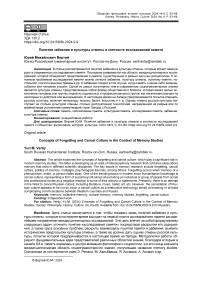Понятия забвения и культуры отмены в контексте исследований памяти
Автор: Вертий Ю.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются понятия забвения и культуры отмены, которые играют важную роль в современных исследованиях памяти. Последние развиваются как область междисциплинарных исследований, которая объединяет представления о памяти, существующие в разных научных дисциплинах. К основным проблемам исследований памяти можно отнести забвение, культуру отмены, политику памяти, ностальгию, психологические травмы и др. О забвении говорят в том случае, когда память о каком-либо явлении, событии или человеке угасает. Одной из самых популярных тем в современном социогуманитарном знании является культура отмены, представляющая собой форму общественного бойкота, которая имеет целью исключение человека или группы людей из социальных и профессиональных кругов, как негативная реакция на некоторые их действия или высказывания. В настоящее время на Западе предпринимается попытка отменить русскую культуру, включая литературу, музыку, балет, искусство и т. д. Однако отмена русской культуры выступает не столько культурой отмены, столько деструктивной технологией, направленной на разрыв или по крайней мере усложнение коммуникаций стран Запада с Россией.
Память, коллективная память, культурная память, исследования памяти, забвение, культура отмены
Короткий адрес: https://sciup.org/149146464
IDR: 149146464 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.9.9
Текст научной статьи Понятия забвения и культуры отмены в контексте исследований памяти
Исследования памяти как область знания . Понятие памяти всегда занимало умы ученых и философов, выступая в качестве объекта исследования философии, психологии, культурологи и других областей знания. После того как в начале прошлого столетия возникла идея рассмотрения памяти как социального феномена, она все чаще стала привлекать внимание представителей социологии. Количество научных исследований, которые прямо или косвенно были связаны с феноменом памяти, непрерывно возрастало. Таким образом, происходило становление специфической области междисциплинарных исследований, в центре внимания которой оказались проблемы идентичности, коллективной памяти, культурного наследия и т. д. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. она выделилась в самостоятельную область знания, для обозначения которой используется англоязычное выражение memory studies, означающее буквально «исследования памяти». Объединяя представления о памяти, существующие в разных научных дисциплинах, memory studies развивается как область междисциплинарных исследований, имеющая четко очерченный круг вопросов: идентичность, политика памяти, практика забвения и пр. (Нечаева, 2020: 121).
У истоков исследований памяти стояли французский историк Э. Ренан, а также его соотечественник М. Хальбвакс, который известен работами в области социологии. Главным делом жизни Жозефа Эрнеста Ренана (1823–1892 гг.) была «История происхождения христианства», включавшая в себя семь томов начиная со знаменитой «Жизни Иисуса». Однако Э. Ренан был историком, деятельность которого пришлась на вторую половину XIX столетия, когда в странах Европы завершалось становление современных наций. Поэтому неудивительно, что выявлению сущности нации была посвящена одна из его работ, хотя по объему она не шла ни в какое сравнение с «Историей происхождения христианства».
11 марта 1882 г. Э. Ренан прочитал в Сорбонне доклад, озаглавленный им следующим образом: «Что такое нация?» В нем он утверждал, что нации представляют собой явление, которое характерно для новой истории, поскольку древность не знала их. Э. Ренан показал, что ни раса, ни язык, ни религия, ни общность интересов, ни география не могут служить основанием для возникновения нации. Он понимал нацию как некую солидарность, имеющую общую душу, т. е. исторический опыт. Самым законным представляется культ предков, поскольку они сделали нас такими, какими мы являемся в настоящее время. Главные условия того, чтобы быть нацией, заключаются в следующем: иметь общую славу в прошлом и общие желания в будущем, а также совершать вместе великие поступки и желать совершать их в будущем (Ренан, 1902).
В 1925 г. Морис Хальбвакс (1877–1945 гг.), принадлежавший к французской социологической школе Эмиля Дюркгейма, опубликовал книгу «Социальные рамки памяти». В ней была высказана и обоснована идея, согласно которой память как отдельных индивидов, так и их групп социально обусловлена. В результате исследований А. Хальбвакс пришел к выводу, что наряду с индивидуальной существует коллективная память, которая воплощается в традициях, социальных институтах и т. д. (2007). Начатые им исследования коллективной памяти были продолжены рядом специалистов в области философии, истории, культурологи и др.
Идеи Э. Ренана, связанные с ролью исторического опыта в формировании нации, совершенно справедливо относят к предпосылкам memory studies, хотя специально исследованиями памяти он не занимался. Начало им положил М. Хальбвакс, который первым стал изучать коллективную память, показав ее связь с индивидуальной памятью. Значение его идей заключается также в том, что они послужили основанием для исследований других авторов, завершившихся важными результатами и проливающими свет на природу человеческой памяти. Особое место среди них занимают труды немецкого египтолога Яна Ассмана, который в начале 1990-х гг. сформулировал концепцию культурной памяти, понимаемой им как передача смысла (2004).
В развитии memory studies можно выделить два ключевых момента, первый из которых связан с деятельностью М. Хальбвакса и его последователей, а второй – с интенсификацией исследований памяти, получившей название мемориального бума. Вследствие междисциплинарного характера исследований памяти между специалистами часто встречаются разногласия в трактовке основных понятий, а также в определении круга рассматриваемых проблем и понимании методологических принципов. Поэтому многие специалисты говорят о кризисе исследований памяти, связывая его с неопределенностью самого понятия «память», а также с отсутствием четких критериев того, что служит предметом изучения memory studies (Ренан, 1902). При этом об институционализации исследований памяти как области знания свидетельствуют появление в 2008 г. журнала Memory Studies, а также создание через 8 лет Ассоциации исследований памяти (Нечаева, 2020: 121). Основанная на принципе междисциплинарности, эта область социогуманитарного знания занимается разработкой ряда проблем, которые являются теоретически перспективными и практически значимыми. К этим проблемам можно отнести забвение, культуру отмены, политику памяти, ностальгию, психологические травмы и др.
Диалектика памяти и забвения . Все представители социально-гуманитарного знания, использующие в исследованиях понятие памяти, сходятся в том, что его содержанием является способ конструирования людьми своего прошлого. Однако это конструирование может трактоваться ими по-разному: одни понимают его как свидетельство людей, переживших какой-то опыт (например, немецкую оккупацию во время Великой Отечественной войны), а другие – как отражение его в книгах, фильмах, монументах и иных культурных феноменах (Сафронова, 2018: 17). Если память о каком-либо явлении, событии или человеке угасает, то говорят о забвении.
Почти 100 лет назад появилась книга М. Хальбвакса «Социальные рамки памяти», которая положила начало исследованиям мемориальной проблематики представителями социально-гуманитарных дисциплин. Хотя забвение тесно связано с памятью, оно не стало еще предметом такого же детального научного исследования. Однако в последнее время публикуется все больше работ, имеющих целью определить место забвения как в истории человеческой культуры, так и в современном обществе.
Забвение противоположно не памяти, а воспоминанию. Забыть что-то значит перестать помнить о том, что в течение какого-то времени удерживалось в памяти. Как говорил Ф. Ницше, можно жить без воспоминаний, но жить, не забывая ничего, нельзя. При этом нельзя забыть обо всем. Отсюда следует, что забвение неразрывно связано с памятью. Оно помогает осуществить отбор, в результате которого запоминается лишь то, что полезно, приятно или необходимо1.
Как показывает история, культурная память всегда связана с забвением, которое сопровождает любое действие, направленное на сохранение образов прошлого, поскольку создание одних ценностей предполагает разрушение других. Такое разрушение основывается на выборе человека, определяющем возможность или необходимость сохранения в памяти этих образов. Его иллюстрациями являются переломные моменты в развитии культуры, когда на смену одним государствам, религиям или идеологиям приходят другие, делая неизбежным сознательное вымарывание памяти.
Примеры взаимодействия двух противоположных тенденций – созидания и разрушения – можно обнаружить в истории Палестины I–IV вв., которые были отмечены разрушением старых памятников культуры и строительством новых, а также приспособлением старых культовых сооружений к потребностям их новых хозяев. Судьба Иерусалима, который считается священным городом трех религий, насыщена связанными с ними историческими и культурными событиями. После подавления в 70 г. восстания иудеев против римлян был практически разрушен не только сам город, но и Иерусалимский храм на горе Сион, построенный еще царем Соломоном. Этот храм, считающийся главной святыней иудеев, никогда уже не был ими восстановлен.
Иерусалим оставался в запустении более 50 лет, пока римский правитель Адриан не предпринял попытку консолидировать население огромной империи путем строительства новых городов, дорог и языческих храмов, которое сопровождалось введением жестких мер, направленных против иудаизма. Логика императора, заботившегося о консолидации населения Римской империи, понятна, поскольку благоустройство страны, а также внедрение новой идеологии, основанной на римском варианте язычества, действительно способствовали такой консолидации. Однако она не вписывалась в рамки тех культурных принципов, на базе которых традиционно строилась жизнь еврейского народа. В начале второго столетия евреи предприняли очередную попытку спасти свои духовные ценности от культурного забвения, но их восстание снова было жестоко подавлено, а на развалинах Иерусалима со временем появился новый город, построенный в соответствии с градостроительным принципами Рима.
После того как в IV в. христианство приобрело статус официальной религии Римской империи, Иерусалим вновь привлек к себе внимание ее властей. По просьбе христианских священников был снесен храм Афродиты, под которым, по их мнению, находилась гробница Христа. На месте этого храма был построен комплекс почитания Христа, давший начало созданию на территории Палестины огромного количества культовых сооружений, которые стали выполнять аналогичную функцию. Таким образом, намеренное разрушение одних культурных ценностей повлекло за собой создание других ценностей (Кочеляева, 2008: 132).
Если обратиться к советскому прошлому, то можно увидеть, что за последние 100 лет дважды поменялись идеологические установки. На рубеже 1920–1930-х гг. были разрушены многие культурные памятники, а большинство улиц советских городов получили новые названия, связанные с именами видных большевиков и революционными событиями недавнего прошлого. Однако в начале 1990-х гг., когда вместе с Советским государством ушла в прошлое и коммунистическая идеология, составлявшая его идеологическую основу, улицам стали возвращать их исконные названия, а многие памятники большевистским вождям были снесены или – при наличии художественной ценности – помещены в различные музеи. Православие, вытесненное из сферы идеологии марксистским учением, снова начинает играть в ней роль одного из ориентиров культурного развития России.
Согласно традиционным представлениям, забвение в истории необходимо преодолевать, поскольку оно является угасанием памяти о каком-либо явлении, событии или человеке. В самом деле, чем больше мы знаем о нашем прошлом, тем лучше для нас. Тем не менее забвение как стирание в нашей памяти прошлого может оказаться полезным, поскольку оно позволяет начать творчество, не связывая его с какими-либо предпосылками, т. е. с чистого листа. Его можно рассматривать как переход из прошлого в настоящее, который влечет за собой не только разрушение идентичности социальной группы, но и восстановление или даже обретение ее (Костина, 2011: 63).
Культура отмены . В V в. до н. э. в Афинах и других древнегреческих городах существовал институт остракизма, представлявший собой изгнание на определенный срок некоторых граждан полиса, которое осуществлялось путем голосования членов народного собрания. Такое изгнание не было связано с каким-то деянием, совершенным гражданином, а имело целью предупреждение его в будущем (например, захват им единоличной власти и превращение в тирана). Поскольку остракизм имел политическую мотивацию, по истечении срока изгнания из полиса политические права гражданина восстанавливались, а его имущественные и другие гражданские права вообще не поражались (Суриков, 2005: 114).
Хотя остракизм в современном обществе часто понимается как гонение, травля или общественное неприятие, было бы неверно полагать, что в Древней Греции он служил расплатой за преступления. Скорее он являлся не наказанием, а профилактической мерой. Более того, древнегреческий остракизм можно рассматривать как высшую степень общественного признания, поскольку часто ему подвергались наиболее популярные, успешные или красноречивые члены полиса. Он возник в начале VI в. до н. э., когда Афины, освободившись от тирании Писистрата и двух его сыновей, нуждались в выработке специального механизма, который не допускал бы появления новых тиранов.
Древнегреческий остракизм служит наиболее известным примером бойкота отдельных членов общества или целых организаций, традиции которого уходят корнями вглубь человеческой истории. Для человека как социального существа изгнание из сообщества людей всегда было одним из самых позорных, страшных и унизительных наказаний. Так, в первобытном обществе существовала традиция изгнания человека из племени, которое было равносильно его казни, поскольку выжить ему в одиночку было просто невозможно. Традиция остракизма, согласно которой человек изгонялся из полиса на определенный срок, была уже более гуманной, чем изгнание человека из племени в эпоху первобытности. В Средневековье изгнание применялось тогда, когда смертная казнь в силу тех или иных причин была нецелесообразна. Однако некоторые виды наказания (например, клеймение) указывали на то, что с людьми, которые были подвергнуты им, общение нежелательно или даже запрещено. Наконец, широкое распространение в эпоху Средневековья получили наказания, основанные на унижении людей (например, привязывание их к позорному столбу) и агрессивном отношении толпы. Такие наказания делали причастными к ним не только тех, кто выносил приговор или приводил его в исполнение, но и сообщество в целом. В эпоху Возрождения и Новое время, которые выдвинули на первый план принцип гуманизма, способы привлечения людей к социальной ответственности становились более гуманными, чем в Средние века. Со временем в обществе стал формироваться институт социального осуждения, который в разных странах имел свою специфику, отражавшую особенности их культуры. Его примером можно считать товарищеские суды, существовавшие в Советском Союзе во второй половине прошлого столетия (Лисица, Туркулец, 2022: 107).
Современным аналогом остракизма является культура отмены, под которой понимается форма общественного бойкота в целях исключения человека или группы людей из социальных и профессиональных кругов как негативная реакция на некоторые их действия или высказывания. Ее объектом могут быть отдельные лица, организации или бренды, а также общественные движения и даже страны. Общественное воздействие на государства может служить дополнением к политическим или экономическим санкциям, введенным против них на межгосударственном или международном уровне (Кузнецов, Ступко, 2022: 40).
Культура отмены является порождением современного информационного общества, в котором на первый план выдвигаются проблемы, не привлекавшие особого внимания еще несколько десятилетий назад. Речь идет о защите прав женщин, а также лиц с особенностями психического или физического развития и других категорий лиц. Движение в защиту прав этих категорий людей и породило тот социальный феномен, который получил название культуры отмены. На Западе уже давно используется термин «отмена», означающий общественное порицание, а также прекращение контактов с лицами, которые своими высказываниями или поступками нарушают права других людей. В настоящее время он получает все более широкое распространение и в отечественной литературе – как публицистической, так и научной.
Трудно дать однозначную оценку культуры отмены: с одной стороны, она возникла на волне движения в защиту прав различных категорий лиц, а с другой – приводит к нарушению прав тех, кто стал объектом общественного порицания. Во-первых, они практически лишены возможности защищать свою позицию, поскольку их попытки объясниться воспринимаются противной стороной как признание своей вины. Во-вторых, отрицательное отношение к высказываниям или поступкам человека часто распространяется и на результаты его деятельности. Например, люди, негативно воспринявшие высказывания Джоан Роулинг о гендерной проблематике, стали демонстративно выбрасывать ее книги о Гарри Поттере, которыми еще недавно восхищались. В-третьих, культура отмены нарушает принцип презумпции невиновности, а также принципы законности, соразмерности, разумности и справедливости наказания, выступающие основополагающими принципами защиты прав и свобод человека. Таким образом, культура отмены является специфической формой привлечения человека к ответственности за действия, которые могут даже не быть связаны с нарушением законодательства. Вызванная к жизни особенностями современного информационного общества, она имеет крайне негуманный характер. Негуманность культуры отмены заключается в том, что она может в одночасье лишить человека карьеры, семьи, друзей, сторонников, средств к существованию и других важных аспектов его жизни (Лисица, Туркулец, 2022: 110).
Поскольку культура отмены стала заметным феноменом современной культуры, возникает естественный вопрос: какую цель преследуют те, кто прибегает к ней? Ответ на этот вопрос зависит от того, на каком уровне она осуществляется – личности, брендов или культуры. На уровне личности цель культуры отмены заключается в том, чтобы повлиять на человека, заставив его поступать так, как удобнее другим людям. Если человек или группа лиц подверглись осуждению, то под влиянием общественного мнения они часто вынуждены изменить свою точку зрения или поведение. Бренды различных компаний могут подвергнуться осуждению за некорректное поведение на рынке или неудачные высказывания, касающиеся острых социальных проблем. При этом критике подвергаются не только сами бренды, но и многие знаменитости, которые их рекламируют. Таким образом, культура отмены на уровне брендов может провоцировать ее на уровне личности.
В отличие от культуры отмены на уровне личности и брендов на уровне культуры она пытается полностью стереть из истории объект отмены. Книги, фильмы и другие источники, в которых упоминается этот объект, удаляются из открытого доступа. По существу, отмена культуры представляет собой не что иное, как попытку предать ее забвению. Однако невозможно изменить прошлое, переписав историю. Наконец, в современном мире различные культуры настолько переплетены, что отмена одной из них обязательно отразится на другой.
Многие публичные люди, а также творческие личности и деятели науки все чаще говорят о том, что нельзя отменять культуру, поскольку именно культурные связи объединяют людей. Отмена культуры оборачивается неприятными последствиями для всех, а попытка полностью отменить культуру того или иного государства приводит к расколу мирового сообщества в будущем. Вообще людям, которые никак не соприкасаются в сфере культуры, сложно понять друг друга.
В настоящее время на Западе предпринимается попытка отменить русскую культуру, включая литературу, музыку, балет, искусство и т. д. Высказывается мнение, что все русское должно быть запрещено. Нередки случаи, когда театры разрывают контракты с русскими солистами, оркестры увольняют русских дирижеров, а из своих репертуаров исключают произведения П.И. Чайковского и других русских композиторов. Однако за этими случаями стоят прежде всего правительственные структуры, тогда как профессиональное сообщество и широкая общественность чаще всего поддерживают русскую культуру. Поэтому ее отмена выступает не столько проявлением культуры отмены, сколько деструктивной технологией, направленной на разрыв или по крайней мере усложнение коммуникаций стран Запада с Россией (Салиева и др., 2023: 58).
Выводы . Резюмируя все сказанное, можно сделать следующие выводы.
-
1. Понятия забвения и культуры отмены играют важную роль в современных исследованиях памяти как области междисциплинарных исследований, которая объединяет представления о памяти, существующие в разных научных дисциплинах. К основным проблемам данной научной сферы можно отнести забвение, культуру отмены, политику памяти, ностальгию, психологические травмы и др.
-
2. Культурная память всегда связана с забвением, сопровождающим любое действие, направленное на сохранение образов прошлого, поскольку создание одних ценностей предполагает разрушение других. Такое разрушение основывается на выборе человека, который определяет возможность или необходимость сохранения в памяти этих образов.
-
3. Под культурой отмены понимается форма общественного бойкота, имеющего целью исключение человека или группы людей из социальных и профессиональных кругов, как негативная реакция на некоторые их действия или высказывания. На уровне личности цель культуры отмены заключается в том, чтобы повлиять на человека, заставив его поступать так, как удобнее другим людям; на уровне брендов – в том, чтобы осудить их за некорректное поведение на рынке или
- неудачные высказывания, касающиеся острых социальных проблем; на уровне культуры – в том, чтобы полностью стереть из истории объект отмены.
-
4. В настоящее время на Западе предпринимается попытка отменить русскую культуру, включая литературу, музыку, балет, искусство и т. д. Однако отмена русской культуры выступает не столько проявлением культуры отмены, столько деструктивной технологией, направленной на разрыв или по крайней мере на усложнение коммуникаций стран Запада с Россией.
Список литературы Понятия забвения и культуры отмены в контексте исследований памяти
- Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / пер. с нем. М.М. Сокольской. М., 2004. 368 с.
- Костина Е.Н. Память, забвение, идентичность: диалектика феноменов // Ученые записки Казанского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2011. Т. 153, № 1. С. 60–65.
- Кочеляева Н.А. Забвение в культуре: аксиология намеренного разрушения // Ярославский педагогический вестник. 2008. № 3 (56). С. 130–135.
- Кузнецов Г., Ступко М. Культура отмены: история и современность // Социодиггер. 2022. Т. 3, № 3–4 (17). С. 40–44.
- Лисица К.Э., Туркулец В.А. «Культура отмены» как форма проявления стигматизации // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 6. С. 107–110. https://doi.org/10.23672/l9940-2233-9740-s.
- Нечаева А.А. Становление memory studies как отдельной области знания: основные вопросы и понятия // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер.: Социальные науки. 2020. № 4 (60). С. 121–129.
- Ренан Э. Что такое нация? // Собрание сочинений: в 12 т. / пер. с фр. под ред. В.Н. Михайловского. Т. 6. Киев, 1902. С. 87–101.
- Салиева Л.К., Арутюнова-Ястребкова Э.А., Цеппи А. «Отмена русской/российской культуры»: культура отмены или антибрендинг России? // Российская школа связей с общественностью. 2023. № 30. С. 44–72. https://doi.org/10.24412/2949-2513-2023-30-44-72.
- Сафронова Ю.А. Третья волна memory studies: двадцать три года против шерсти // Политическая наука. 2018. № 3. С. 12–27. https://doi.org/10.31249/poln/2018.03.01.
- Суриков И.Е. Институт остракизма в античной Греции: к общей оценке феномена // История и современность. 2005. № 2. С. 113–130.
- Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. с фр. и вступ. статья С.Н. Зенкина. М., 2007. 348 с.