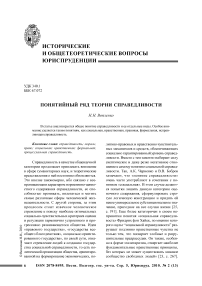Понятийный ряд теории справедливости
Автор: Вопленко Н.Н.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Исторические и общетеоретические вопросы юриспруденции
Статья в выпуске: 2 (13), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется общее понятие справедливости и ее отдельные виды. Особое вни- мание уделяется таким понятиям, как социальная, нравственная, правовая, формальная, исправ- ляющая справедливость
Справедливость, мораль, право, социальная, нравственная, формальная, процессуальная справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/14972732
IDR: 14972732 | УДК: 340.1
Текст научной статьи Понятийный ряд теории справедливости
Не стесняясь в выражениях, Хайек называет социальную справедливость «чепухой», «жульничеством», «опасной угрозой цивилизации» [23, с. 235, 247, 265]. Подобный ка-тегоризм в оценке автора понятия «социальной справедливости» основывается на безусловной вере в спасительную силу «каталлактики», то есть рыночного хозяйства, которое стихийно организует условия справедливого поведения человека в гражданском обществе. Государство же и политическая система всегда склонны злоупотреблять идеей и принципами социальной справедливости. Отсюда неверие автора в справедливость социалистического государства и его способности организовать общественную жизнь на принципах социальной справедливости. «Социальная справедливость» может иметь смысл только в «направляемой», или «командной», экономике (подобной армии), в которой людям приказывают что делать; любая концепция «социальной справедливости» может быть реализована только в системе с централизованным управлением [23, с. 238]. Интересно, что такой признанный специалист в теории справедливости, как Д. Ролз, вполне терпимо относится к понятию социальной справедливости. По его мнению, «социальная справедливость – это принцип рационального благоразумия в применении к совокупной концепции благоразумия группы» [20, с. 35].
Обрушив свой принципиально буржуазный гнев на понятие «социальной справедливости», Хайек отрицает наличие положительного критерия справедливости и строит свою концепцию исключительно на основе отрицательных правил справедливого поведения [23, с. 210]. По его мнению, результаты человеческой деятельности не могут оцениваться в качестве справедливых или несправедливых, такая оценка применима только к поведению субъектов. Налицо, как можно заметить, отрыв процесса деятельности от его результатов. Очевидно, что в подобных рассуждениях обнаруживается нарушение элементарных правил диалектического мышления. Дело в том, что отрицательные оценки и критерии справедливости сами по себе возможны только при наличии положительных, ибо нельзя настаивать на несправедливости каких-либо действий, не имея эталона, образа положи- тельной деятельности. Аналогично следует заметить, что результат человеческой деятельности и акты предшествующего ему поведения всегда жестко связаны между собой системой причинно-следственных отношений. Поэтому справедливость или несправедливость поведения субъектов программирует и предопределяет соответствующий результат их активности.
На наш взгляд, нежизнеспособность концепции Хайека состоит не только в его слепой вере в то, что рыночный эгоизм каталлактики сам по себе породит критерии и практику справедливой человеческой деятельности, но главным образом в том, что автор напрочь лишает человечество, особенно его обездоленной части, надежды и веры в создание справедливо устроенного государственно организованного общества на принципах официально провозглашенной и эффективно проводимой в жизнь системы социальной справедливости. Думается, что многовековая мечта людей о государстве, способном организовать политическую и правовую систему подлинной социальной справедливости, будет всегда будоражить общественное сознание. Все это позволяет надеяться, что категория «социальная справедливость» вполне жизнеспособна и периодически будет востребованной в общественных науках и политико-правовой практике. Сформулированное нами определение социальной справедливости как обусловленной материальными условиями жизни общества конкретно-исторической системы общественных отношений и соответствующих им чувств, эмоций, оценок, идей, теорий и норм относительно распределения материальных и духовных благ, прав и обязанностей с целью создания гармонично устроенного и прогрессивного развивающегося общества [3, с. 43] в целом соответствует реалиям сегодняшней России. Его совершенствование можно осуществить путем включения в определение основных институциональных элементов, определяющих экономическую и политическую системы общественной жизни, а также указанием на относительный характер официальной системы норм и критериев справедливости. Следовательно, социальная справедливость есть система социально-экономических, политических и правовых институтов и норм, официально закрепляющих критерии со- здания и распределения материальных и духовных благ, прав и обязанностей субъектов с целью обеспечения всеобщего благоденствия граждан. Важно также подчеркнуть, что социальная справедливость всегда конкретно историческое явление, ибо содержит в себе реально достигнутый уровень экономико-политической и правовой защищенности личности. Разумеется, что этот официально провозглашенный и юридически закрепленный уровень правовой защищенности человека в обществе не может быть абсолютным и зачастую является неполным, ущербным в свете извечных человеческих представлений о свободе, равенстве и справедливости. Но это уже выглядит как проблема постоянно развивающейся и совершенствующейся теории и практики справедливости.
Термин «социальная справедливость» подчеркивает социальную обусловленность последней, ее зависимость от основных конституирующих институтов и норм конкретно-исторического типа общества. Это означает, что экономический строй, политические и правовые институты, учреждения и нормы с необходимостью продуцируют соответствующую систему принципов и отношений производства, обмена и распределения, которые несут в себе печать исторически достигнутого уровня социальной справедливости. Они прямо и непосредственно (в праве) либо косвенно и потенциально (экономика и политика) формулируются и охраняют критерии справедливости и несправедливости, наполняют их периодически то нравственным, то юридическим содержанием, и одновременно гарантируют для населения страны объективно сложившийся официальный уровень режима социальной справедливости. Не случайно в научной литературе отмечается, что справедливость является показателем уровня социальной защищенности человека [7, с. 155]. И в этом смысле социальная справедливость предстает в границах конкретного общества как нормативно-оценочная система регулирования общественной жизни, официально провозглашенная и гарантированная деятельностью органов политической власти.
От представлений о социальной справедливости следует перейти к основному смыслообразующему общему понятию справедли- вости. Именно данное понятие путем прибавления к нему терминов (экономическая, моральная, политическая, юридическая, формальная, процедурная, исправительная и т. д.) приобретает конкретизированный смысл и использование в определенной сфере общественной жизни. При этом следует сразу оговориться, что, на наш взгляд, употребление термина «справедливость» без конкретизации ее содержания и сферы проявления выглядит некорректным и функционально неопределенным. И, следовательно, не существует справедливости вообще, а есть справедливость как чувство, идея, идеал общественной жизни, справедливость как нормативная система регулирования общественных отношений и справедливость в виде институционально выраженного режима политико-экономической и нравственно-правовой жизни общества. И каждый раз, когда употребляется понятие «справедливость», необходимо уточнять, в каком смысле оно используется, какова функциональная направленность данного понятия. И таким образом, идея, нормативно-оценочная система и объективно сложившийся режим – это три взаимосвязанных, но относительно самостоятельных лика, образа справедливости, проявляемой в общественном сознании и человеческой практике. Непринятие в расчет этого момента ведет к понятийной путанице, перескакиванию с одного образа справедливости на другой без учитывания конкретного смысла и содержания данного понятия, как это продемонстрировано в работе Ю.И. Бытко «Справедливость и право» (Саратов, 2005).
Наиболее важные идеи в сфере нравственности, права и политики лежат в основании соответствующих идеалов, определяя тем самым наиболее нравственно совершенный, предпочтительный образ познания и деятельности. Так, идея справедливости, формируя соответствующий идеал, в качестве обобщенного образа и цели справедливого поведения предлагает пути и средства, ведущие к достижению данного идеала. Но при этом важное значение имеет чувство справедливости как предтеча, психологическая основа познания и деятельности, ориентированных на соответствующий идеал.
Верно в этой связи подмечено, что «нравственное чувство справедливости заяв- ляет о себе прежде всего как возмущение несправедливостью» [8, с. 1]. Думается, что чувство справедливости сродни выработанной в процессе социализации личности привычке и включает в себя элементы интуитивного и рационально обоснованного распознания образа справедливости. Важнейшими элементами его содержания являются нравственно-правовая совесть и честность. Совесть диктует личности необходимость ответственного отношения к актам собственного поведения и поведению окружающих людей. Это нравственно-правовое чувство ответственности предопределяет честный образ мышления и деятельности в общественной жизни. Честность в данном контексте понимается как добросовестность, искренность, порядочность в поведении людей и их оценках окружающей действительности. Психологическая наука констатирует, что обыденные представления людей о справедливости выражаются в терминах: объективность, истинность, честность, порядочность, совесть, правосудие, равноправие, закон, благородство, нравственность, искренность, суд, равенство, искренность, гуманность, прямота, понимание, принципиальность, доверие, помощь [4, с. 24].
Нуждается также в уточнении достаточно старый вопрос о генетическом происхождении содержания справедливости, в частности нравственном или правовом характере ее требований. Как ни странно, но в последние годы наблюдается абсолютизация правовых форм бытия справедливости. Так, В.С. Нер-сесянц утверждает, «что справедливость входит в понятие права, что право по определению справедливо, а справедливость – внутреннее свойство и качество права, категория и характеристика правовая, а не внеправовая (не моральная, нравственная, религиозная и т. д.) [16, с. 28]. Аналогично замечает и Ю.Е. Пермяков, что «с утверждением права справедливость теряет свое моральное содержание и понимается уже как то, что гарантировано властью и законом» [17, с. 282]. Вместе с тем встречаются и противоположные взгляды. Так, Г.В. Мальцев достаточно категорично высказывается о том, «что есть только нравственная ценность справедливости, воздействующая через нравственное сознание на различные сферы социальной регуляции, привносящая в них определенную тональность и элементы гармонии» [13, с. 108]. Думается, в этих высказываниях наблюдается излишняя категоричность в решении вопроса о происхождении и природе требований справедливости. Историческая наука свидетельствует о достаточно древнем происхождении основных норм морали, впитавших в себя этический минимум взаимоотношений людей друг с другом, а следовательно, и нравственно оправданный минимум взаимных требований, основанных на идее справедливости. Специалисты по этике отмечают, что «справедливость есть нравственное понятие, которое может выступать в роли критерия моральной оценки, в роли чувства (имеет эмоциональную окраску), в роли нормы, мотива поведения и, наконец, в роли нравственного идеала» [2, с. 23]. Право в историческом плане – более поздний по времени регулятор общественных отношений, сформировавшийся на основе важнейших и апробированных на практике норм морали, подхвативший эстафету нравственно справедливого регулирования общественной жизни и придавший этой регуляции официальный, государственно значимый характер. Идея и требования справедливости стояли у колыбели права и формировали его основные нормы и институты. Это вполне осознавали древнеримские юристы, подчеркивая генетическую связь справедливости и права. По мнению Ульпиана, предписания права суть следующие: жить честно, не чинить вред другому, каждому воздавать то, что ему принадлежит. Юриспруденция есть познание божественных и человеческих дел, наука о справедливом и несправедливом [6, с. 17]. Все это свидетельствует, что справедливость, являясь центральной системообразующей идеей морали, вместе с тем способствует становлению системы права, сообщая его основным нормам и институтам нравственно оправданный характер. И конкретные нормы права приобретают тем более легитимный и эффективный характер, чем более нравственно насыщенным является их содержание. И это позволяет отметить, что справедливость в равной мере является как нравственной, так и правовой категорией, требования которой организуют, несмотря на возможные противоречия, единство и гармонию морально-правового регулирования.
Категория справедливости в последние годы получила массированное и многоаспектное изучение в сфере гуманитарных наук. Исследуются философские, этические, политологические, экономические, психологические и правовые аспекты данного понятия. И это неизбежно повлекло появление и обоснование новых, порою непривычных с традиционной точки зрения разновидностей понятия справедливости. Складывается впечатление, что ее требования проникают и вплетаются во все более широкие сферы общественной жизни, актуализируя при этом отдельные стороны и аспекты социальных оценок и регуляции. На сегодняшний день можно выделить следующие наименования и соответствующие виды справедливости: социальная (Г.В. Мальцев), юридическая (Н.Н. Вопленко), формальная, реальная, конкретная (Д. Ллойд), правовая, этическая (Г. Радбрух), возмещающая, исправляющая (О. Хеффе), политическая, формальная (Д. Ролз), распределительная, исправительная, процедурная (К. Музды-ваев), дистрибутивная, процедурная, межличностная, информационная, состязательная, инквизиционная (О.А. Гулевич) и т. д. Данный перечень видов справедливости демонстрирует ее многоаспектность, многофункциональность и возможность проявления в различных сферах общественной жизни как специфического регулятора и критерия оценки человеческого поведения и его результатов.
Как уже нами отмечено, «социальная справедливость» используется в качестве понятия для обозначения объективно сложившейся системы общественных отношений обменного и распределительного типа, а также выработанных на основе социальной и прежде всего производственной практики идеологических ценностей, критериев, стимулирующих данные отношения [14, с. 67]. Соответственно, по Г.В. Мальцеву, в содержании социальной справедливости можно различать материальный (социологический) и идеологический (нормативно-ценностный) компоненты. И это позволяет рассматривать социальную справедливость в качестве объективного результата, достигнутого в процессе исторического развития уровня государственно-правового и нравственного развития, воплотивше- гося в системе политико-правовых норм и сложившейся практике обеспечения официального уровня справедливой жизни. Необходимо также отметить, что сложность определения социальной справедливости состоит в том, что, не обладая собственной особой предметностью, она, тем не менее, присутствует в большинстве человеческих отношений, опосредует их и тем самым позволяет оценивать их как справедливые или несправедливые. Это дает возможность выделять различные виды справедливости: юридической, нравственной, экономической, политической и т. д. Социальная справедливость как бы впитывает в себя, результирует на официальном уровне отдельные проявления справедливости в различных сферах общественной жизни и показывает меру достижения ее идеалов в конкретном типе исторически сложившегося общества. Поэтому, несмотря на резкие «филиппики» Фридриха фон Хайека против понятия «социальная справедливость», ее нравственный, экономический и политико-правовой потенциал будет всегда востребован широкими народными массами в борьбе за подлинно справедливое государственное устройство.
Нравственная , моральная или этическая справедливость возникает как исторически первые, изначальные представления людей в межличностных отношениях по поводу меры своих прав и обязанностей и оценки поведения других людей на основе соображений о долге, чести, совести, благе. Она есть понятие нравственного сознания, характеризующее меру воздаяния и требований прав и благ личности или социальной общности, требовательности к личности, обществу, правомерность оценки экономических, политических, правовых явлений действительности и поступков людей, а также самооценки [2, с. 65]. Идея справедливости пронизывает систему нравственных требований и идеалов, сообщая им целенаправленный и морально возвышенный характер. Нельзя быть добрым, гуманным, честным, правдивым, не будучи при этом справедливым. Справедливость, следовательно, – одна из важнейших добродетелей практической морали и категорий в этической теории.
Ганс Кельзен в этой связи заметил, что справедливость предстает как присущая людям добродетель. Как и всякая добродетель, справедливость есть моральное качество, поэтому справедливость находится в сфере морали [10, с. 156]. Аналогично отмечает и Д. Ролз: «Справедливость – это первая добродетель общественных институтов, точно так же как истина – первая добродетель системы мысли» [20, с. 19]. На этой основе он строит свою концепцию «справедливости как честности», ориентированной на мир субъективных взаимоотношений между людьми. «Справедливость как честность – это теория наших моральных чувств, проявляющихся в наших обдуманных суждениях в процессе рефлективного равновесия [20, c. 115]. Обращает на себя внимание чрезмерный авторский акцент на интеллектуально-психологическую сферу проявления справедливости в общественной жизни, который в связи с многочисленными авторскими допущениями типа «предположим», «допустим», «завеса неведения», «рефлективное равновесие», «гипотетическая рефлексия» и т. д. подрывает доверие к его концепции. Творческий произвол, думается, не может являться наилучшим методом научного познания.
Итак, справедливость является по своему происхождению моральной категорией, определяющей меру распределения и воздаяния ценностей и ответственности между людьми, определяемая нравственным, а затем и исторически вызревшим правовым законом. Историческое значение моральной справедливости, в первую очередь, состоит в ее правосозидательном, правообразующем характере. И это позволяет перейти к понятию правовой, или юридической справедливости , которая признается далеко не всеми исследователями. Идея тесной связи справедливости и права, начиная от Аристотеля, проходит через большинство исследований этой проблемы. По словам Ульпиана, «право получило свое название от (слова) “справедливость”, ибо согласно превосходному определению Цель-са право есть искусство доброго и справедливого» [21, с. 83]. Аристотелевские идеи о двух сторонах, или видах справедливости: уравнивающей и распределяющей (воздающей) – достаточно прочно вошли в научную литературу, а сама идея справедливости довольно часто рассматривается в качестве сущностного признака права. Так, например,
Г. Радбрух утверждает, что идея права не может быть ни чем иным, как справедливостью. «Право – это действительность, ценность которой заключается в том, чтобы служить справедливости» [19, c. 42, 44].
На наш взгляд, справедливость наряду со свободой выступает одним из смыслообразующих, сущностных признаков права. Нормы права и акты юридической деятельности в своем подавляющем большинстве ориентированы на идею равенства субъектов правовых отношений и воздаяние им пропорционально персональному вкладу в общественную жизнь. В связи с этим право – своеобразный «слепок» и весьма существенная часть системы официальной социальной справедливости, постоянно подпитываемой нравственными требованиями и идеалами. Справедливость присутствует в праве как его базовая идея, трансформируемая в основополагающий принцип и идеал всеохватывающей юридической деятельности, которая в масштабах общества складывается в качестве особого режима социальной справедливости. Данный режим, будучи результатом претворения в жизнь господствующих в данном обществе норм политики, права, морали, обычаев и других социальных норм, реально демонстрирует меру и уровень достигнутой обществом социальной справедливости. Справедливость действует через данные социальные нормы, метит их и оценивает через свой специфический механизм, выявление и анализ которого составляет важную задачу общественных наук. Интересные мысли по этому поводу имеются у Г. Гурвича.
Он исходит из того, что призвание идеи справедливости состоит в том, чтобы служить сущностной основой любого общего определения права [5, c. 293]. Соотношение же справедливости и морали, по его мнению, состоит в том, что «справедливость неразрывно связана с моральным идеалом; она зажигается от этого идеала благодаря процессу вербализации; она опоясывает моральный идеал как его априорная оболочка, чья защита позволяет моральному идеалу раскрыть содержащиеся в нем богатые и сложные переплетения конкретной индивидуальности» [5, c. 292]. Как можно заметить, автор предлагает рассматривать справедливость как не что отличное, обособленное от моральных ценностей. Тем более это становится очевидным, когда Гурвич заявляет, что «справедливость расположена на полпути между нравственностью и логикой» [5, c. 292]. Следовательно, по Гурвичу, справедливость выглядит как явление, производное от нравственности и логики, но не совпадающее с ними по своему содержанию. Между тем, на наш взгляд, справедливость в качестве идеи, принципа, режима составляет своеобразную квинтэссенцию сферы нравственности, ориентируя ее на идеалы добра и праведности. Она служит критерием измерения нравственного поведения, оценивая его через специфически моральные контрольно-психологические понятия и механизмы в виде совести, стыда, долга, блага и т. д. Из критерия нравственности она зачастую превращается в особый нравственный идеал, высвечивая при этом в моральной системе основную идею ее существования. А следовательно, по способу своего бытия справедливость не может быть представлена чем-то помимо нравственности. Она есть нравственность, ориентированная на праведность и работающая посредством своих моральных категорий и механизмов.
Недопустимо также представлять справедливость в виде особого инструмента логики, который формально и бесстрастно регулирует и оценивает человеческое поведение. Люди видят ее проявление не в логических силлогизмах, а в самой логике жизни, основываясь на чувственно-интуитивных представлениях и опыте нравственного бытия. Как отмечает В.П. Малахов, «справедливость представляет собой сложную симметрию усилий и результатов, потерь и обретений, помыслов и действий, преступлений и наказаний [12, c. 207]. Ее регулятивно-оценочный механизм не столько логичен, сколько принципиально заострен на поиске и учитывании наиболее оптимальных социально-чувствительных средств гармоничного регулирования человеческого поведения. Уравнивая субъектов в их нравственно-правовом положении и тем самым сообщая им единую социальную ценность и равенство возможностей, справедливость требует воздаяния им пропорционально прогрессивному и негативному вкладу в общественную жизнь. Эти две стороны, а точ- нее – два принципа справедливости, и составляют ее внутренний механизм, дополненный средствами и категориями нравственного регулирования. Разумеется, что в каждой сфере общественной жизни действие данного механизма корректируется особенностями нормативно-предметной сферы: экономики, политики, права и т. д. Но с учетом свойства реактивности морали, ее способности проникать и вплетаться в сопредельные области общественного бытия, механизм нравственно справедливого регулирования выглядит как универсальное и всепроникающее средство корректировки социальных норм и оценок, а также формирования специфических форм, или видов справедливости: экономической, политической, правовой и т. д.
Проблема правовой, или юридической справедливости предстает прежде всего как проблема нравственного насыщения основных норм, институтов, отраслей права, а также правового сознания и актов индивидуального правового регулирования. Ее конкретно-исторические черты определяются уровнем и качеством нравственного наполнения официального правосознания, правотворчества и юридической деятельности. Она основывается на признании и безусловном культивировании в общественном и правовом сознании ценности нравственных идеалов, наличии справедливого законодательства и оправдываемом требованиями справедливости режиме законности. Последний элемент выглядит особо актуальным, ибо в глазах населения страны юридическая справедливость ассоциируется, в первую очередь, с легальностью и легитимным характером деятельности органов государственной власти, управления и судебной системы. Наиболее часто на весах юридической справедливости общественное мнение взвешивает акты правосудия и иной правоприменительной деятельности. И здесь справедливость актов применения права выглядит в виде нравственной обоснованности и законности решений по юридическим делам. Другими словами, общая формула юридической справедливости предстает как совпадение, совмещение в правовой квалификации юридического дела законности и нравственной безупречности. Это означает, что нельзя признать справедливым неправомерное, незакон- ное решение по юридическому делу, как не обладает этим качеством и решение, формально соответствующее требованиям действующего законодательства, но противоречащее нормам морали. Юридическая справедливость – это нравственно-правовой идеал, и его достижение зачастую связано с преодолением противоречий и даже конфликтов между формальными требованиями права и нравственным долженствованием. И чем более преодолены или сглажены в процессе конкретного правоприменения нравственно-правовые коллизии, тем в значительной степени правоприменительное решение приближается к идеалу юридической справедливости. Между тем юридическая практика свидетельствует, что весьма значительная часть выносимых решений по юридическим делам вступает в законную силу и существует, не обладая в полной мере качеством нравственной обоснованности. Это лишает подобную практику свойства легитимности, и ее бытие основывается только на формальной законности. Отсюда длящиеся во времени процессы обжалования состоявшихся правоприменительных решений, падение престижа правосудия, явлений правового нигилизма и прочие негативные черты правовой системы. Поэтому достижение юридической справедливости в правоприменительной деятельности выглядит как задача исключительной важности, от решения которой зависит прочность и стабильность правопорядка.
Научные представления о юридической справедливости находятся в состоянии становления. Так, В.П. Малахов выделяет три предельно общих признака данного явления. По его мнению, правовая справедливость характеризуется тем, что она: а) есть справедливость упорядочивающая, б) она есть своеобразный противовес социальной несправедливости, ее «симметричная» сторона, в) она есть реальный и практически достижимый аналог меры справедливости [12, с. 209]. Анализ данных признаков вызывает некоторые сомнения в эффективности их использования для оценки юридической практики. Например, подчеркивание упорядочивающего характера правовой справедливости вряд ли позволяет надежно отграничивать ее от других нормативно-оценочных явлений. Таким свойством обладают право, мораль, политика и многие
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ иные явления общественной жизни. Другое дело, если сделать акцент на гармонизацию общественных отношений в сфере сознания, в которых проявляет себя правовая справедливость. Именно ее способность привносить гармонию в общественную жизнь, способствовать прогрессивному развитию социальных процессов содействует формированию в общественном сознании легитимной оценки и отношения к актам справедливости в сфере права. И это позволяет выделять легитимность в качестве одного из существенных признаков юридической справедливости.
Но основным недостатком анализируемой концепции, на наш взгляд, является игнорирование непременной и тесной связи правовой справедливости с законностью. Без законности нравственное совершенство состоявшегося акта применения права лишается качества легальности. Оно не выдерживает критики с точки зрения действующего законодательства и, как правило, подлежит отмене органами контрольно-надзорной деятельности. Верно в этой связи отмечает С.А. Иванова: «Законность – очевидно необходимая и важная предпосылка справедливости». Без наличия строго очерченной и отшлифованной нормативной системы, которая выражает волю народа, справедливость того или иного решения была бы полностью отдана на откуп субъективному мнению [9, с. 4]. Думается, законность не только предпосылка, но и один из основных признаков и показателей справедливости в сфере права. Она обеспечивает нравственно-правовой характер юридической ответственности и ее результатов, способствует прочности и стабильности правового порядка. Все это позволяет заключить, что основными признаками правовой (юридической) справедливости выступают: совпадение нравственной и правовой квалификации общественных отношений в актах юридически значимой деятельности; легитимность правовых актов; законность состоявшихся решений по юридическим делам и одновременно их нравственная обоснованность; противоположность несправедливости; реальный характер достигнутой меры справедливости в правовом регулировании. Разумеется, что поиск и уточнение признаков правовой справедливости должны быть продолжены, ибо слишком уж высока социальная значимость данного явления.
Следующим часто употребляемым в последнее время понятием справедливости выступает справедливость процессуальная, или процедурная. В самом общем виде процесс есть длящаяся во времени последовательно упорядоченная система действий, ведущая к достижению определенной цели. Социальный процесс характеризуется последовательностью своих стадий, раскрывающих внутреннее единство целенаправленной деятельности. Понятие процесса используется в тех сферах общественной жизни, где большое значение имеет процедура, порядок последовательно осуществляемых действий: право, политика, религия, обычаи и т. д. Непременным признаком процесса является процессуальная урегулированность, то есть наличие процессуальных норм. И в этом смысле право – благодатная почва для юридического процесса, дифференцированного по отраслям, видам юридически значимой деятельности: правотворческий, правоприменительный, контрольно-надзорный, интерпретационный и т. д. [22, с. 65–70]. Основными проблемами теории юридического процесса являются: стадии, принципы, производства и режимы процессуальной деятельности. Вопрос о процессуальной справедливости в данной концепции практически не ставится. В работе В.Н. Баландина и А.А. Павлушиной, посвященной принципам юридического процесса, процессуальная справедливость называется в качестве общего принципа, но не раскрывается содержательно [22, с. 89]. Однако надо отметить, что все специалисты по теории юридического процесса значительное внимание уделяют принципу законности в качестве ведущей идеи, пронизывающей все стадии, производства и режимы процессуальной деятельности. Более того, обосновывая ценность понятия юридического процесса, В.М. Горшенев и его сторонники называют законность в качестве одной из основных целей, которая может быть достигнута с помощью детально разработанной и законодательно урегулированной процессуальнопроцедурной деятельности. Приходится констатировать, что проблема законности в юридическом процессе «поглотила» собой процессуальную справедливость, излишне юридизи- ровала и «подмяла» под себя нравственный аспект в процессуальной деятельности. В значительной мере это объясняется природой процессуальных правовых норм, работающих ради осуществления «чужого» интереса, заложенного в нормах материального права. Последние более морально насыщенны, ибо закрепляют права и обязанности субъектов, отвечают на вопросы «что можно и что нельзя делать». Процессуальные же нормы отвечают на вопросы «как, в каком порядке можно действовать в сфере права» и регламентируют процедуру юридически значимой деятельности по осуществлению норм материального права. Они менее насыщенны нравственными требованиями и носят вспомогательный, «деловой» характер, обеспечивая точность, последовательность, законность процессуальной работы по реализации материально-правовых норм. Поэтому проблема процессуальной правовой справедливости чаще всего возникает и актуализируется на отдельных важных стадиях, этапах процессуальной деятельности или конечном этапе юридического процесса, когда становится очевидным, что нарушение процедуры могло существенно сказаться на результатах нравственно-юридической деятельности. Например, закрепление следователем процессуальных доказательств по уголовному делу с помощью «лжепонятых» или голосование депутатов по законопроекту при отсутствии кворума.
Процессуальная справедливость в сфере права обладает всеми основными признаками юридической справедливости: а) единством нравственной и правовой квалификации процессуальных отношений; б) легитимностью процессуальных актов; в) законностью и нравственностью процессуальных решений; г) противоположностью несправедливости; д) выражением реальной меры достигнутой справедливости правового регулирования. Ее значение состоит в том, что она путем процессуального упорядочивания указывает путь к достижению правовой справедливости по юридическому делу и одновременно сигнализирует о своеобразных «болевых точках» проблемы формирования юридически законных и нравственно обоснованных решений. В научной литературе выделяются следующие виды процедурной справедливости: состязательная, инквизиционная, авторитарная, арбитражная и торговая [4, с. 98–99]. Современная юридическая наука отдает безусловное предпочтение состязательному и арбитражному процессам, как основывающимся на уважении к правам и свободам личности и ориентированным на осуществление правосудия, а следовательно, на достижение максимальной справедливости при рассмотрении деликтов и споров по юридическим делам. Как отмечает О. Хеффе, «судопроизводство – это инновация в области справедливости, имеющая подлинно всемирно-историческое значение» [24, с. 77]. И роль юридических процедур, регулирующих судебное правоприменение, исключительно велика. Можно сказать, что детально разработанные и законодательно закрепленные процедуры правоприменительной, в том числе и судебной, деятельности – гарантия достижения процессуальной правовой справедливости.
Справедливость, с точки зрения своего содержания, «предполагает соответствие между деянием и возданием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием. Она есть совокупность принципов и процедур, регулирующих распределение жизненных благ и тягот, прав и обязанностей индивидов и общественных групп» [15, с. 94]. И в этой связи в науке выделяются такие ее виды, как распределительная, воздающая, исправительная и т. д. Данные наименования справедливости используются для обозначения ее отдельных аспектов социального действия, обусловленных особой функциональной нацеленностью.
Распределительная, или дистрибутивная, справедливость, концепция которой представлена в работе Г.В. Мальцева, выглядит как развертывающаяся «в границах данного общественного строя совокупность реальных обменных и распределительных отношений» [14, с. 66]. Разумеется, что эта система отношений складывается на основе выработанных обществом норм, принципов, критериев и оценок, обеспечивающих регулирование процессов производства, обмена и распределения материальных и духовных благ. Она требует соответствия между реальной значимостью различных индивидуумов (социальных благ) и их социальным положением, между правами и обязанностями, между трудом и вознаграждением [18, с. 7]. Уравнивая субъектов в их правовом статусе, она воздает им пропорционально вкладу в общественную жизнь и, таким образом, предстает в качестве системы объективно сложившейся социальной справедливости, против которой так резко выступил Фридрих фон Хайек.
Категория «распределительная» справедливость употребляется и в более узком смысле, как противоположная справедливости «воздающей». В последнем случае акцент делается на индивидуальных качествах субъектов, их социально значимых достоинствах и недостатках, пропорционально которым им предоставляются права и обязанности, награды и наказания. В основе воздаяния лежит представление о социальной или индивидуальной ценности человека, группы, что и позволяет отмерить им соответствующий объем прав, льгот, преимуществ или порицания. Как пишет В.П. Малахов, «воздается достоинству и ценности человека или умалению того и другого, воздается честью или позором как неким допустимым – в рамках человечности, ценности личности, христианской любви и т. п. – предельным ответом на вызов, который человек бросает окружающим людям или обществу в целом своими действиями и проявленными в них побуждениями и установками» [12, c. 205–206]. Воздающая справедливость уточняет, конкретизирует формальное равенство субъектов, повышая тем самым социальную чувствительность нормативно-оценочной системы, и это позволяет видеть в ней ведущий элемент общего содержания справедливости.
Исправляющая справедливость как понятие используется для обозначения системы норм, действий и отношений по поводу восстановления нарушенного режима справедливости. В сфере права ее бытие наиболее ярко проявляется при обнаружении и устранении правотворческих и правоприменительных ошибок, восстановлении нарушенного права, деятельности органов пенитенциарной системы. Своими требованиями и оценками она реагирует на отклонения от режима справедливости и действует по мере устранения выявленных аномалий. Ее основными чертами выступают: ситуационность, временный характер, нацеленность на устранение пороков и недостатков социального регулирования, формализованность процедуры исправления обнаруженной несправедливости.
Формальная справедливость как понятие используется для акцентирования внимания на преобладающем значении норм, принципов, установленных критериев и формализованных оценок в социальном регулировании отношений справедливости. Д. Ллойд выделяет три основных момента формальной справедливости: а) должны существовать нормы, предписывающие, как следует обращаться с людьми в конкретных случаях; б) эти нормы должны быть общими по своему характеру; в) применение этих норм должно осуществляться беспрестанно, без всяких поблажек, дискриминации или исключений из общих правил [11, с. 138]. Последний пункт особенно подчеркивает формальный характер справедливости, основанной на принципе равного отношения ко всем субъектам и на уравнивании их в правовом и ином социальном положении. Принцип воздаяния каждому пропорционально его вкладу в общественную жизнь здесь не принимается во внимание. Отсюда ограниченный, неполный характер формальной справедливости, которую можно рассматривать как начальный, предварительный этап действительно справедливого регулирования. В современных развитых правовых системах ограниченный характер формального равенства субъектов дополняется и сглаживается наличием специальных и индивидуальных статусов субъектов, детально разработанных процедур правоприменительной деятельности, социально чувствительных источников права и т. д. Это позволило Джону Ролзу заметить, что «концепция формальной справедливости, правильного и беспристрастного использования публичных правил, в применении к юридической системе, становится правлением закона [20, с. 210].
Таковы наиболее часто встречающиеся в науке понятия справедливости. Употребление их требует некоторой понятийной чистоты и строгости, чему препятствуют субъективные предпочтения и особенности методологии отдельных авторов, разделяющих постмодернистские установки. Кроме рассмотренных понятий справедливости, в науке можно встретить и иные, например справедливость политическая, межличностная, информационная, реальная, конкретная, торговая и т. д. В данных случаях речь идет об отдельных сферах или аспектах ее проявления. Все это свидетельствует о возрастающем характере справедливости как специфически тонком и чувствительном средстве регулирования и оценки современной жизни.