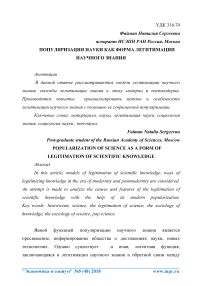Популяризация науки как форма легитимации научного знания
Автор: Файман Н.С.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 5 (48), 2018 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются модели легитимации научного знания, способы легитимации знания в эпоху модерна и постмодерна. Производится попытка проанализировать истоки и особенности легитимации научного знания с помощью ее современной популяризации.
Историцизм, наука, легитимация науки, социология знания, социология науки, поп-наука
Короткий адрес: https://sciup.org/140238746
IDR: 140238746
Текст научной статьи Популяризация науки как форма легитимации научного знания
Явной функцией популяризации научного знания является просвещение, информирование общества о достижениях науки, новых технологиях. Однако существует и иная, латентная функция, заключающаяся в легитимации научного знания и обратной связи между наукой и обществом. Популяризация науки необходима для социального, общемировоззренческого утверждения наиболее значимых научных доктрин.
Легитимация знания изучается, в частности в контексте социологии знания. Зарождение этой дисциплины, как и социология культуры (термин введен в научный оборот А. Вебером), явилась следствием осмысления кризисного положения интеллектуалов в Германии в 1890-1933 годы. Основополагающие идеи социологии знания как научной дисциплины уходят корнями в немецкий интеллектуальный контекст веймарского периода. Она отражала сущностные и методологические проблемы этой эпохи.1 Эта дисциплина изучает взаимоотношения между выражаемой мыслью и ее социальной средой. Возможно ли изучение закономерностей, если существует проблема историзма? Каково соотношение между наукой «чисто технической» и «морально значимой»? Эти и другие темы подняты в работах М. Шелера и К. Мангейма – основателей социологии знания.2
Наука часто является одним из легитимирующих механизмов господства.3 Наиболее ярко это прослеживается в паре «наука – идеология». Проявление подобного взаимодействия особенно очевидно в периоды социальной трансформации, когда происходят изменения социальных структур, производственных отношений, политической системы. Данные процессы находятся в отношении взаимообусловленности с изменениями в науке. И. Пригожин указывает, что ньютоновская парадигмальная система возникла в эпоху слома феодализма в Западной Европе, когда социальная система пребывала в неравновесном состоянии. Используемая как мировоззренческая установка, она нашла свое приложение в иных областях не только благодаря своей научной состоятельности, но и благодаря тому, что только начинающееся проявляться индустриальное общество наиболее благоприятно для восприятия этой модели.4
М. Вебер предложил модель общественного прогресса, основанную на возрастании рациональности социальной жизни. В его эпоху своеобразным предельным социальным воплощением этой рациональности служил идеальный тип рациональной бюрократии. Такого рода организация характеризуется четким разграничением должностных обязанностей, работники в подобной организации поощрялись бы за функциональную компетентность, обезличенность работы, особая совокупность правил и процедур, предписывающих права и ответственность сотрудников, иерархия команд, охватывающих все уровни организации. 5 Эта социальная модель крайне похожа на картину мира, предложенную И. Ньютоном, и, более того, принципы идеальной бюрократии напоминают нам о деятельности «идеально типического» академического сообщества. В целом, для науки общества модерна, для классической науки6, эта модель наиболее применима, к примеру, к механической модели разделения властей на основе «сдержек и противовесов» Дж. Локка, научной организации труда Ф.У. Тейлора, построениях Г. Спенсера и многих других теорий, которые выступали, в свою очередь, принципами и технологиями управления.
В создании новой идеологии наука оказывает комплексное воздействие через изменение картины мира, повсеместное внедрение научного метода как наиболее правильного и создания нового, особенного и наиболее формализованного языка.
Обыденная картина мира формируется под воздействием науки, воспринимается она как «естественный порядок вещей». Именно эта апелляция науки к правильности, «естественности», доказательности является существенным аргументом в пользу доверия к ней широких слоев. Так, уже в трудах первых философов космологические построения были связаны с легитимацией социального порядка. Примером тому может служить влияние, оказанное древнегреческим философом Анаксимандром на космологическую картину мира для его современников. 7 Или же политикоуправленческая система координат и наука - Конституция Соединенных Штатов и политэкономия А. Смита.
Таким образом, метафорой эпохи классической рациональности науки может служить машина, а мир, представлявшийся человеку традиционного общества Храмом, становится Фабрикой – организованной системой машин.8 Эта эпоха по-новому переопределила такие понятия, как свобода, прогресс.
Проблема легитимации знания - область, занимающейся вопросами признания, господства оснований и их историзме доксы, способы ее оправдания и обоснования. Она аккумулирует социальную и эпистемологическую проблематику, часто не проводя различений в социальных и когнитивных феноменах. В структурализме это направление представлено теорией поля П. Бурдье, власти знаний и дисциплины М. Фуко, «мифа» Р. Барта. В рамках феноменологии это «социальное распределение знания» в социологии А. Шюца, «института» и «символического универсума» П. Бергера и Т. Лукмана. Постмодернист Ж.-Ф. Лиотар 9 описывает легитимацию знания через «метанарратив» и «языковую игру».
Методами социальной эпистемологии является контент-анализ10, доксоморфный (то есть логико-семантический)11 анализ, конверсионный12 и дискурс-анализ, и другие.
Феноменологическое направление рассматривает процесс легитимации знания, прежде всего, с точки зрения его упорядочивания. Исследователи этого направления изучают, какими предстают объективные реалии – события, социальные ситуации, действия – в сознании индивидов.
Согласно Э. Гуссерлю, человеческое сознание сталкивается с двумя «мирами»: миром повседневной жизни и миром, формализованным в процессе научного описания. Изучать необходимо именно мир повседневности, ибо научный мир искажается из-за идеализаций. 13 Научный мир воспринимается как «объективный» по отношению к «субъективному» миру повседневности или миру субъективного опыта. Их проект социологии был основан на понимании, каким образом люди структурируют феномены воспринимаемого ими мира в сознании и каким образом воплощают это в повседневных действиях.
П. Бергер и Т. Лукман в работе «Социальное конструирование реальности» рассматривают теоретическое знание лишь как очень небольшую и далеко не самую важную часть того, что можно считать знанием в обществе. 14
Аналитически легитимацию можно ранжировать по уровням ее осуществления:
-
• дотеоретическое знание (уровень, в котором объяснение осуществляется по типу «так уж устроены вещи»);
-
• теоретические утверждения, находящиеся в зачаточной форме (Это могут быть объяснительные схемы, сказки, мифы, поговорки и т. д.);
-
• уровень теорий (появление науки, создание
дифференцированной системы научных знаний);
-
• символический универсум (уровень, являющийся
всеобъемлющей системой координат, система знаний, содержащая разные области социально объективированных и субъективных значений, проявляется институциональный порядок во всей его целостности).
На уровне символического универсума, собственно, и осуществляется процесс легитимации институционального порядка. При этом П. Бергер и Т. Лукман подчеркивают, что эти символические процессы, в сущности, являются сигнификацией (обозначением), оперирующим реальностями, не пересекающаяся с реальностью повседневной жизни.
Таким образом, П. Бергер и Т. Лукман на базе феноменологии осознают социальную относительность знания, усматривая в разных мирах опыта и разницу между «знанием» и «реальностью». Причем их проект социологии знания основан на изучении «знания» не как научного, а как любого, таковым считающимся в данном социальном контексте.
С одной стороны, эта концепция предоставляет нам возможность анализа процесса социального конструирования, восприятия научного знания. С другой – дает нам право утверждать, что социальное восприятие знания, как и повседневные практики влияют на научное познание, его рефлексию. Более того, благодаря тому, что что теоретическое определение реальности не исчерпывает всех реалий, считающиеся таковыми в обществе, социология знания должна иметь дело с их исходными посылами – социальным конструированием реальности.
Показательно, что П. Бергер и Т. Лукман рассматривают в этой работе особый социальный конфликт между практиками и экспертами, и между экспертами.15 Смысл его состоит в том, что существует конкуренция определений реальности. Для этого они вводят понятие «монополии на предельное определение социальной реальности», это значит, что только одна символическая традиция (выигравшая в этом конфликте) поддерживает данный универсум. Показательно, что ситуация монополии не единственная. Возможен вариант плюралистической легитимации, при котором центральные и частные универсумы взаимно приспосабливаются. Для подобного плюрализма необходимы следующие условия: городское сообщество с развитым разделением труда, с высоко дифференцированной социальной структурой и существенными экономическими излишками. Иными словами, это индустриальное и постиндустриальное общество. В связи с тем, что плюрализм приводит к скептицизму и нововведениям, они, в свою очередь, имеют подрывной характер для господствующей и признанной традиционной реальности. Совокупность объяснений этого порядка принимается индивидами как часть их жизненного мира.
Рассуждая об интеллектуалах, которых П. Бергер и Т. Лукман определяют их как экспертов, в экспертизе которых общество не нуждается, их оценка нежелательна. Это объясняет маргинализацию интеллектуалов. Предлагаемый ими социальный проект не находит иной социальной объективации, кроме как в сообществе точно таких же интеллектуалов. 16
Таким образом, наличие сообщества экспертов, которые применяют объяснительные схемы первого порядка (то есть научного) обуславливается у данных социологов как институциональная необходимость легитимации символического универсума. Его можно с погрешностями переопределить как научную картину мира. А плюралистическую ситуацию, характерную для индустриального и постиндустриального общества, можно обозначить как конкуренцию в поле науки разнообразных интерпретационных схем объяснения реальности.
Проблемой легитимации науки и технологии как особого вида проявления отношений господства занимались представители Франкфуртской школы. В рамках «критической теории» рассматривается позднекапиталистическое общество. Г. Маркузе указывал, что технологии связаны с политическим господством.17 Ю. Хабермас в своей статье «Технический прогресс и социальный жизненный мир» (сборник «Наука и техника как идеология» 18) Полемизируя с О. Хаксли, он утверждает, что социальный жизненный мир, полностью открытый науке, невозможен, поскольку она представляет собой не внемировой унивсум фактов. По его мнению, наука и технологии имеют все возрастающую силу, способную управлять и преобразовывать, и в этом мире у человека есть несомненная привилегия. Хаксли поднимает вопрос о соотношении научной культуры и литературной, основываясь не только на внедрении науки в социальный жизненный мир на основе применения научной информации. Он полагает, что литература призвана ассимилировать научные высказывания, дабы наполнить науку «плотью и кровью». С точки зрения О. Хаксли, для этого необходим гений поэта, Знающего, каким образом «поэтически озвучить» и пространные слова предания, и точные категории учебников, дабы сделать их пригодными для общения в обыденной жизни, обмена эмоциями и переживаниями. Ю. Хабермас полагает, что это невозможно. Точная научная информация может стать частью социального жизненного мира, только если она будет переработана в технологическое знание, необходимое для усиления технологического потенциала. Принципиально то, что научная информация функционирует на другом уровне, нежели самосознание социальных групп, ориентированных, главным образом, на практическое действие. Ю. Хабермас полагает, что для жизненно-практического сознания, которое и находит свое отражение в литературе, не имеет значения содержание научной информации. Лишь тогда, когда необходимо оценивать прогресс или иные взаимосвязанные непосредственно с человеком факторы, требуются некоторые знания (как сказали бы сейчас, экспертные оценки). В качестве примера он приводит знание ядерной физики, которое, взятое отдельно, никаким образом не влияет на изменение интерпретации окружающего человека мира жизни, и именно поэтому неизбежна пропасть между этими культурами. Лишь в случаях, если с помощью знания физической теории расщепляется ядро, и мы используем научную информацию для пробуждения каких-либо природных сил, возможно говорить о внедрении в художественную составляющую жизненного мира ужасов Хиросимы, но никак не в результате литературной обработки гипотезы расщепления ядра. Иными словами, Ю. Хабермас показывает, что перевод научного мира в мир художественный как часть социального жизнненого мира, возможен только при переводе технически реализуемого знания в практику и, тем самым, в социальный жизненный мир. Между этими двумя конкурирующими традициями, однако, он видит жизненную проблему “онаученной” цивилизации: какой именно в таком случае должна быть рефлексия стихийно формирующихся связей между техническим прогрессом и непосредственно социальным жизненным миром, как возможно их упорядочивание и контроль путем рациональных дискуссий.
Именно в связи с такой двойственностью и возможно существование поп-науки – с одной стороны, неуклонно возрастает технологическое развитие, с другой – сфера науки воспринимается как мифологическая, большинство социальных практик иррационально. Именно поэтому поп-наука, с ее, с одной стороны, опорой на науку, а, с другой, на сенсационность и маркетинговые технологии распространения, становится такой популярной.
Безусловно, ученый играет роль эксперта в сообществе. История богата примерами и прототипами этой социальной роли эксперта. Эксперт – это индивид, реализующий свою социальную функцию экспертного оценивания, суждения, свидетельства, основанием для чего выступает его обладание универсалистским, теоретически нагруженным знанием, легитимированным в определенном сообществе.20 Это знание является институционально обусловленным: с одной стороны, научное или иное профессиональное сообщество (в нашем ракурсе рассмотрения, научное) дает сообществу определенное право выступать от его имени. Символическим капиталом, который свидетельствует об этом праве выступают ученые звания, степени, место обучения и специализация.
Эксперт обладает особой ролью, поскольку, как правило, владеет междисциплинарным или межсистемным знанием. Он способен наиболее эффективно выстраивать «соединительный мост» между научным и практическим знанием. Именно поэтому эксперт – безусловно, маргинальная фигура, поскольку его деятельность находится на границе двух важных сфер и языков описания. Однако природа практического суждения, как правило, основывается на опыте, в то время как суждение ученого содержит в себе саму методику познания объекта. Экспертное высказывание – это соединение научной части с его методикой познания, данными и высказывания на уровне здравого смысла, представляющее собой совет по какой-то проблеме. Именно в практическом приложении, компетенции эксперта и заключается смысл его привлечения к проектам в разных сферах.
Поп-наука - новое направление популяризации науки посредством массмедиа - как способ осмысления действительности ввиду ее неформализованного характера приводит ее потребителей ни к чему иному, как к своеобразному подобию метафизики, которую Дж. Ло определяет как
«размышления о непроверяемых и зачастую неявных допущениях, упорядочивающих опыт»21. Однако и сама наука с философской точки зрения работает подчас основываясь на непроверяемых метафизических предпосылках. Например, эта метафизическая предпосылка о примитивной, изначальной интуиции существования реальности, которая независима от человеческих действий и восприятия, или то, что внешняя реальность возникает до нас, она нам предшествует, альтернативная ей точка зрения – что внешнее возможно только в отношении к разумному существу.
П. Бергер и Т. Лукман в «Социальном конструировании реальности» описывают необходимость легитимации объяснительных схем, вкупе с властными механизмами обозначены как идеологии. Как уже было показано в предыдущем параграфе, социальные и научные идеологии находятся в тесной взаимосвязи. П. Бергер и Т. Лукман не отделяют их, когда описывают символический универсум. Институциональная необходимость легитимации символического универсума, а также ситуация плюрализма диктует необходимость конкуренции экспертов за господство их версии реальности.22 Эта конкуренция экспертов находит свое отражение как в академической научной дискуссии, так и в поп-научных текстах. В сущности, конкуренция объяснительных схем есть не что иное, как конкуренция разнообразных интерпретаций социальной или внесоциальной реальности.
Констатация нарративного характера науки исходит из базовой предпосылки, что любое научное занятие предполагает определенную письменную фиксацию эмпирических или теоретических данных - текст. Дж. Ло в работе «После метода» 23 указывал, что нарративный характер связан, прежде всего, с тем, что наука есть текст, и в нем содержится ряд аксиоматических допущений.
Б. Латур, в прошлом семиотик, основатель Акторно-сетевой теории (ANT), сравнивает науку и судебный процесс как договорные процедуры, в обеих случаях имеет место установление, что есть факт и заблуждение. Иными словами, он представляет науку как лингвистический феномен. Действительно, присутствие риторических приемов в науке очевидно: из-за многообразия способов представления знания и конкуренции интерпретационных моделей ученые вынуждены прибегать к приемам убеждения. ANT берется устанавливать отношения взаимозависимости между предметным содержанием научной деятельности и сопутствуюзщие им договорными процедурами24. Наука оказывается тождественной производству записей. А, по Дж. Ло, экспериментальность не имеет свою полную воспроизводимости, поэтому количество научных версий реальности все возрастает.
Иными словами, в последнее время все чаще звучит критика научной рациональности, а вопрос об объективности знания социологами науки заменяется на вопрос легитимации знания, которое лишь считается объективным.
Социологи М. Малкей и Д. Гилбрейт в своей работе «Ящик Пандоры: социологический анализ высказываний ученых» занимались социологическим анализом высказываний ученых в статьях, интервью. Они проанализировали дискуссии вокруг одной из биохимических теорий, выявляя разные особенности толкования диаграммы Спенсера и иные случаи и нашли общую закономерность формирования консенсуса ученых. Д. Гилбрейту и его команде удалось определить интерпретационные правила, найти аналитический подход для них. Ученые показали, как используются различные формы интерпретации, и чем отличаются, скажем, черты формальных и неформальных высказываний ученых. Примером такого правила является установка «истина выявится сама»: ученые считают, что личностные факторы всегда или почти всегда ведут к ошибочным утверждениям и некорректным наблюдениям, и если все они считают, что правильные, на их нынешний взгляд, выводы свободны от таких влияний, то отсюда с необходимостью следует, что общепризнанные факты всегда должны были бы быть независимы от личностных и социальных факторов. Ведь условные факторы - по определению или, вернее, по характеру интерпретационного процесса - связаны с неверными взглядами и ошибками, и, следовательно, не могли влиять на то, что в данный момент признано истинным. Или, к примеру, те требования, которые подразумеваются социологами как критерии консенсуса, на деле являются результатом интерпретации, зависящим от контекста. Иными словами, схема когнитивного консенсуса (то есть соотношение противоположных мнений в статье) выстраивается по-разному при использовании разной выборки мнений ученых. Выстроенная ученым схема консенсуса существенно зависит от того, как именно отбираются мнения ученых, и принцип отбора этой выборки зачастую неясен и субъективен, это их собственная «история воззрений» на данную проблему, которая выгодна их выводам. Исследователи также выделяют два репертуара - эмпирический (формальный) и условный. И именно на разнице между ними основан научный юмор. По мнению Гибрейта, ученые, как и другие действующие лица, то и дело прибегают к различным репертуарам, конструируя такие версии своего социального мира, которые зачастую кажутся буквально несовместимыми. Но именно эта несовместимость и не сочетаемость -необходимое условие для юмора. Он возникает как столкновение эмпирического и условного репертуаров. Формальный репертуар используется для научных статей, условный – для бытовых разговоров ученых.25
В поп-науке происходит своеобразный процесс «креолизации» этих двух стилей. Эмпирический репертуар и условный смешиваются, текст представляет собой параболическое движение от одного репертуара к другому. Этот эффект, конечно, является следствием медиатизации научного знания.
Таким образом, в широкие массы проникают слова «либидо», «экзистенция». Конечно же, подобные термины проникают и из других продуктов массовой культуры, имеющих косвенное отношение к поп-науке. Скажем, это такие профессиональные популярные сериалы, как «Доктор Хаус» (медицина), «Кости» (антропология), «Следствие по телу» (судебная медицинская экспертиза), «Мыслить как преступник» (психиатрия и психология преступности) и многие другие. В этих продуктах массовой культуры наиболее ярко выражены профессионализм и призвание как центральные характеристики личности. Конечно же, эти сериалы наполнены многочисленными профессиональными терминами, представленными в непосредственной ситуации своего применения.
М. Хайдеггер писал, что наука себя не мыслит. Действительно, редкий ученый задумывается об общемировоззренческих значениях своих исследований. Как правило, его интересы узкопрофессиональны, и узкопрофессионален язык описания. Поп-наука же навязывает ученому-популяризатору функцию рефлексии своей собственной теории, встраивании ее в мировоззренческие схемы. Посредством медиатизации ученому навязывается иная роль – роль эксперта, сопряженная с ролью организатора интеллектуального досуга масс.
Тем не менее, существенны и выгоды ученого от использования языка науки. Используя свой особенный язык, метафорику, он навязывает ее использование, настаивает на своей очевидности, тем самым предлагая свою версию и интерпретации социальной реальности. Это может влиять на принятие многочисленных управленческих решений.
Науке необходимо конструировать собственные мифологемы (Р.Барт) так, одним из способов поддержания мифа о «большой науке» является атрибутика ученого: образ ученого с трубкой, с книгой, образ публичных библиотек (Лондонская библиотека) и так далее.
Поп-наука предполагает использование маркетинговых технологий для формирования социального заказа науке. На современном этапе популярная наука вынуждена конкурировать с другим контентом: развлекательным, сугубо образовательным, новостным и иными.
Зачастую поп-научные статьи относятся к таким категориям, как медицина, антропология, экономика, биоинженерия и другие. Это еще раз подтверждает тезис о том, что современная поп-наука в целом отражает ситуацию постнеклассической науки, которая является «человекоцентрированной» 26, то есть, по мысли В. Степина, проявление этой особой новой рациональности, для которой важен социальный контекст – сама наука становится все более культурно детерминированной. С развитием стран Азии она обретает восточные «черты», например, исходный посыл восприятия природного мира, в котором живет человек в качестве живого организма, а не как неорганический агрегат. Во-вторых, западная установка на человека как актора силового преобразования «человекоразмерных» систем в современных условиях показывает свою неэффективность, ибо в ситуации постоянной трансформации социальных и технологических систем представляется сложным совершить преобразования подобия с одним и тем же объектом.27
Поп-наука максимально приближена как к конечному потребителю ее продукта посредством простоты языка, его неформализованности, краткости формы. Благодаря своей ненавязчивости, использованию условного репертуара, основные концепции доносятся в ясном и простом своем варианте до широких слоев. Та концепция, которая будет пользоваться наибольшим успехом, и легитимизирует парадигму, концепцию или идеологию. Более того, она обретет новый статус и в самой научной среде. Это касается как социальных, так и естественнонаучных, технических дисциплин.
Список литературы Популяризация науки как форма легитимации научного знания
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. -М.: "Медиум", 1995.
- Гавриленко С.М. Легитимация знания//"Энциклопедия эпистемологии и философии науки" (под общ. ред. член-корр. РАН Касавина И.Т.). -канон-плюс М, 2009.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.
- Гилберт Д., Малкей М. Открывая ящик Пандоры: Социологический анализ высказываний ученых. М.: Прогресс, 1987. -269 с.
- Ерофеева М. «Шутки в сторону! Актроно-сетевая теория о легитимации научного знания».//Социология власти №6-7, 2012 г. -С.27-37.
- Кара-Мурза С. Г. "Идеология и мать её наука". (Серия: Тропы практического разума.) -М.: Алгоритм, 2002. -
- Кожанов А.А. Анализ экспертного знания и социальной роли эксперта как автономная предметная область современных социальных исследований науки/Социологические этюды. М.: ИС РАН, 2006.
- Логико-семиотические свойства доксоморфного дискурса/А. В. Нехаев//Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. -2009. -№ 3 (11). -С. 48-54.
- Ло Дж. После метода: беспорядок и социальная наука /пер. с англ. С. Гавриленко, А. Писарева и П. Хановой. Науч. ред. перевода С. Гавриленко. -М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.
- Постнеклассика: философия, наука, культура. СПб.: Издательский дом «Мiръ», 2009. С.249 -295
- Пригожин И. Философия нестабильности//Вопр. философии. 1991. № 6.
- Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 1890-1933/Пер. с англ. Е. Канищевой и П. Гольдина. М.: Новое литературное обозрение, 2008
- Розенберг Наталья Владимировна.Феноменология как методологическая основа исследования повседневности//Известия ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2007. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/fenomenologiya-kak-metodologicheskaya-osnova-issledovaniya-povsednevnosti (дата обращения: 22.04.2017).
- Семин В. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность//Вопросы философии, 2003. № 8. С. 16-17.
- Степин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения//Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная монография/Отв. ред. Л.П. Киященко и В.С. Степин. СПб.: Изд. дом «Мiръ», 2009. С. 249-295.
- Трактат по социологии знания. -М.: "Медиум", 1995. -323 с.
- Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. с.125-467
- Хабермас Ю. Наука как техника и идеология. Пер. с нем. М.Л. Хорькова М.: Праксис, 2007.
- Deutschen Soziologentages in Heidelberg 1964. Tübingen: Mohr Siebeck, 1965.pp. 161-180. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-352701
- Marcuse H. Industrialisierung und Kapitalismus. Max Weber und die Soziologie heute: Verhandlungen des 15.
- Sacks H., Schegloff E.A., Jefferson G.A. Simpliest for the organization of turn-taking for conversation//Language. 1974. Vol. 50. No. 4. Part 1. P. 696-735.
- Weber M. Briefe 1906 -1908//Lepsius M.R. u. a. M/Weber Gesamtausgabe. Tubingen, 1990.