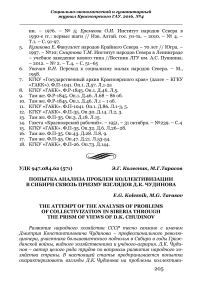Попытка анализа проблем коллективизации в Сибири сквозь призму взглядов Д. К. Чудинова
Автор: Колесник Э.Г., Тарасов М.Г.
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (4), 2016 года.
Бесплатный доступ
Развитие народного хозяйства СССР тесно связано с именем Дмитрия Константиновича Чудинова - профессионального револю-ционера, участника большевистского подполья в Сибири в годы Граж-данской войны, видного хозяйственника и учѐного-агрария. Д.К. Чуди-нов - автор целого ряда трудов по вопросам развития народного хо-зяйства страны. В настоящей статье предпринимается попытка охарактеризовать взгляды Д.К. Чудинова на проблемы коллективи- зации. Этот анализ приводит авторов к выводам, что в ходе прове-дения массовой коллективизации в специфических условиях Сибири крестьянство отдавало предпочтение кооперативным формам хо-зяйствования, поскольку это отвечало их частнособственническим интересам. Причем Чудинов не отрицал возможности перехода си-бирских крестьян к коллективному хозяйствованию в обозримом бу-дущем. Даже такой умеренный подход к проблеме кооперации кресть-янства вызвал серьѐзную критику со стороны партийного и хозяй-ственного руководства на всех уровнях. Д.К. Чудинова обвинили в иг-норировании «генеральной линии партии» и попытках затормозить ход коллективизации в Сибири. Он был снят с руководящих постов, исключен из партии, затем арестован и расстрелян. Реабилитирован только через 20 лет после своей смерти. В настоящее время его ра-боты продолжают оставаться востребованными историками и спе-циалистами в области сельского хозяйства.
Коллективизация, кооперация, сибирь, сель-скохозяйственные науки, репрессии
Короткий адрес: https://sciup.org/140205698
IDR: 140205698 | УДК: 947.084.62
Текст научной статьи Попытка анализа проблем коллективизации в Сибири сквозь призму взглядов Д. К. Чудинова
Развитие народного хозяйства СССР, в том числе сельского хозяйства, тесно связано с именем Дмитрия Константиновича Чудинова, человека, довольно широко известного в 20-е годы прошлого века не только в Сибири, но и во всей стране. Профессиональный революционер, активный участник большевистского подполья в Сибири в годы Гражданской войны, один из организаторов вооруженного восстания в Иркутске против колчаковцев. После окончания Гражданской войны работал в Иркутском губкоме партии, руководил Сибирским отделом народного образования в Новониколаевске, был членом Президиума Госплана Казахстана, руководил Институтом народного хозяйства в Новосибирске. И это далеко не полный перечень участков работы, на которых он трудился. Для большинства руководителей того времени имел довольно высокий уровень образованности: учился в Иркутской учительской семинарии [1], в Народном университете Шанявского в Москве, закончил Московский педагогический институт. Его перу принадлежит целый ряд трудов по вопросам развития народного хозяйства страны, в том числе в Сибири, в 20-е – начале 30-х годов XIX в. [2]. Его жизнь и деятельность, его судьба представляют интереснейший материал для любого, кто интересуется отечественной историей того периода. Авторы ограничили свое исследование характеристикой взглядов Д.К. Чудинова на проблемы коллективизации, изложенные им на страницах журнала «Жизнь Сибири».
Интерес к научно-публицистическому наследию Д.К. Чудинова объясняется еще и тем, что его произведения были объявлены сперва «неправильными», затем «вредными» и, наконец, «враждебными». В то же время они не подвергались глубокому научному анализу. Этот пробел стал восполняться лишь в последние годы. Одна из таких попыток была предпринята М.Д. Северьяновым [3], хотя автор больше внимания уделил анализу работ Д.К. Чудинова начала 20-х гг., посвященных проблемам новой экономической политики. Характеристика же последних трудов Д.К. Чудинова менее подробна и скорее означает постановку проблемы. В какой-то мере этот пробел был восполнен в совместной работе С.В. Гришаева и Э.Г. Колесника [4], но, по мнению авторов, изучение жизни и деятельности Д.К. Чудинова может и должно продолжаться.
Как известно, 1929 год вошел в отечественную историю как «год великого перелома», когда в колхозы, по мнению И.В. Сталина, пошли основные массы крестьянства. На самом же деле к ноябрю 1929 г. в колхозах состояло лишь 6–7 % крестьянских хозяйств [5]. «Перелом» состоял в другом: Сталину и его ближайшему окружению удалось навязать партии и стране свои взгляды, политические решения и методы их реализации, что наглядно выразилось в безудержном форсировании коллективизации. В духе сталинских воззрений были приняты соответствующие решения на ноябрьском (1929 г.) Пленуме ЦК ВКП(б), которые затем нашли отражение в Постановлении ЦК «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». В этих документах полностью игнорировались настроения крестьянства, его неготовность, даже нежелание отказаться от собственного хозяйства, напрямую отвергались установки ХV съезда партии о недопустимости и пагубности спешки и насилия при кооперировании деревни. Устанавливались нереальные сроки проведения сплошной коллективизации, а колхозы рассматривались как форма, «переходная к коммуне» [6]. Решить в срок поставленные задачи было невозможно, и тогда в ход пошли испытанные в период «военного коммунизма» методы и средства: демагогические обещания, грубый диктат, угрозы и расправы. «Процесс пошел»: к началу 1930 г. в колхозах числилось свыше 20 % крестьянских хозяйств, а к началу марта – более 50 % [7]. Главным последствием такой политики стало массовое недовольство и протесты крестьян, вплоть до открытых вооруженных выступлений. Известно, что только за первые три месяца 1930 г. по стране было зарегистрировано более 2 тысяч таких выступлений [8].
Реакция в партийной среде на эти события была неоднозначной. Одни бурно приветствовали «успехи» коллективизации, другие молчали, но были и третьи, которые пытались противостоять «чрезвычайщине» в деревне. Среди последних был и Д.К. Чудинов. Его трудно причислить к активным борцам против сталинизма, скорее он был противником администрирования и чрезвычайных мер в деятельности партии. Он, как и многие другие, не мог распознать идентичность этих понятий, и в этом была его ошибка и трагедия. Однако молчать он не мог и свой талант ученого и организатора направил на смягчение социальных последствий политики «большого скачка» в деревне [9].
В своих трудах начала 30-х гг. Д.К. Чудинов отстаивает последовательность развития кооперативных форм в деревне. Анализируя кооперативное движение в 20-е гг., он подчеркивает, что попытки наладить в первую очередь производственные объединения социалистического типа в большинстве случаев терпели неудачу. Опыт показывал, что подавляющее большинство крестьянства идет в кооперацию «для удовлетворения своих, прежде всего частнохозяйственных целей, отпочковывая от своего хозяйства те функции, которые наиболее удобно и целесообразно передавать объединенному предприятию» [10]. Хотя при этом он и не называл конкретных цифр, известно, насколько он был прав: к концу 20-х гг. производственные кооперативы в сельском хозяйстве давали лишь 2 % всей продукции, в то время как простейшими формами кооперации – сбытовой, кредитной, снабженческой – было охвачено свыше половины крестьянских хозяйств [11].
Развивая далее идею последовательного кооперирования, Д.К.Чудинов обращает особое внимание на обязательный учет специфи- ческих условий различных регионов страны. При этом он подробно характеризует особенности Сибири, население которой было крайне неоднородным по своему хозяйственному укладу, социальному и национальному составу, справедливо отмечая, что нельзя ставить в один рад население земледельческих районов Омского и Новосибирского округов с охотниками и звероловами Севера и кочевниками Ойротии (ГорноАлтайская область) и Бурят-Монголии [12]. Хорошо известно, к чему привело игнорирование этих особенностей Сибири в отношении ее малых народов.
Но, пожалуй, не это было главной «крамолой» Д.К. Чудинова. Отстаивая свободу форм коллективного хозяйствования на селе, он предлагал прекратить гонку за колхозами, «игру на процентах», которая дискредитировала саму идею социалистического преобразования сельского хозяйства [13]. Кроме того, Д.К. Чудинов видел в колхозах производственные объединения товарного типа, что противоречило теории прямого продуктообмена между городом и деревней, которой следовал Сталин. В то время такие взгляды квалифицировались как «отход от линии партии», «капитулянтство» со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Развивая свои взгляды на процесс коллективизации, Д.К.Чудинов затрагивал еще одну важную проблему: быть или не быть в деревне коммуне? По существу, он отвергает эту форму коллективного хозяйствования в деревне. При этом он пытается защитить себя ссылками на известную статью Сталина «Головокружение от успехов», где тот считает коммуну преждевременным явлением, поскольку условия для ее успешного развития «еще не созрели» [14]. Так, значит, еще созреют? Тут же Д.К. Чудинов берет в союзники известного специалиста в области сельского хозяйства Н.А. Милютина, который характеризует коммуну как «самопотребляющую» организацию, существующую только для себя, но не работающую и не производящую для всего общества [15]. При этом Д.К. Чудинов осторожно замечает, что, возможно, в дальнейшем суть коммуны изменится, но тут же ставит вопрос: где гарантии, «что коммуна в будущем не противопоставит себя государству?» [16]. Вывод напрашивался один: коммуна не может считаться приемлемым типом хозяйствования в деревне, тем более в сибирской деревне, где в то время налицо было поразительное многообразие хозяйственных форм, представляя собой, по словам Д.К. Чудинова, «поразительную лабораторию» для изучения истории их развития [17]. Сегодня мы видим, насколько он был прав в своих воззрениях.
Следует подчеркнуть, что для произведений Д.К. Чудинова всегда были характерны серьезный научный подход к рассматриваемым проблемам, четко выраженная гражданская позиция и смелость взглядов. Все это делало его неординарной личностью, а следовательно, довольно опасной для существующей системы. Выводы были сделаны быстро: буквально через несколько месяцев после выхода ряда его статей по данным вопросам их автор был снят с должности ректора Института народного хозяйства и в течение года он перебивался случайными заработками. В 1932 г. его направили на строительство Томмотской культба-зы на р. Лене, что, по сути, было настоящей ссылкой. После 1935 г. последовало типичное, но от этого не менее трагичное развитие событий: исключение из партии, попытка скрыться, арест, расстрел и посмертная (через 20 лет) реабилитация [18].
Изучение таких страниц отечественной истории, по глубокому убеждению авторов, может и должно быть задачей современных исследователей.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СИБИРИ В ПРОЦЕССЕ
ЕЕ КОЛОНИЗАЦИИ
THE FORMATION OF THE IMAGE OF SIBERIA IN THE PROCESS OF ITS COLONIZATION
В статье анализируется формирование сибирской идентичности как поселенческой, заданной колонизацией, развернувшейся в имперский период. Колонизация была связана с формированием особых представлений об отдаленных регионах России, в том числе Сибири. Помимо «символического» освоения Сибири посредством установления имперского контроля, шло ее ментальное присоединение, основаниями которого выступили конфессиональность и нейминг территории. Автор делает вывод, что в обыденном сознании осуществлялось естественное, стихийное конструирование образов Сибири, имевших как положительные, так и отрицательные коннотации. Как отдаленная территория, Сибирь представлялась некоей качественной сущностью, менявшей переселявшихся сюда людей. Акцентирование разных образов Сибири зависело от качественных характеристик русских переселенцев, от скорости и успешности преодоления ими мировоззренческих, эмоционально-психологических, ситуативных барьеров. Важными параметрами конструирования образа Сибири являлись географическая отдаленность региона, его специфические природно-климатические условия, дистанцирование сибиряками себя от других сообществ, в первую очередь от жителей Европейской России. В качестве методологической основы исследования в статье выступают идеи социального конструктивизма, поскольку представленные в сознании образы территории, ее населения являются результатом направленной социокультурной обработки (активно конструируют-
Список литературы Попытка анализа проблем коллективизации в Сибири сквозь призму взглядов Д. К. Чудинова
- Рабецкая З.И., Татаринов В.И. Иркутский педагогический: от учи-тельского института к университету. Т. 1. Иркутский учительский институт/Восточно-Сибирский педагогический институт народного просвещения. -Иркутск, 2007. -265 с.
- Чудинов Д.К. Голод и кризис крестьянского хозяйства // Сибирские огни. - 1922. - № 2. - С. 17-24; Чудинов Д.К. Кризис социального воспитания и материалистические основы педагогики // Сибирский педагогический журнал. - 1923. - № 1. - С. 5-10; Чудинов Д.К. Но-вый учитель идет // Сибирский педагогический журнал. - 1923. - № 3. - С. 3-7; Новые поселения в Казахстане / ред. Д.К. Чудинов. - Кзыл-Орда: Изд-во Госплана КазССР, 1929. - 234 с.
- Северьянов М.Д. Нэп и современность. Полемические заметки. -Красноярск: Изд-во КГУ, 1991. -238 с.
- Гришаев С.В., Колесник Э.Г. Д.К. Чудинов: взгляды на некоторые проблемы коллективизации в Сибири в конце 20-х -начале 30-х гг.//ХХ век: исторический опыт аграрного освоения Сибири: мат-лы республ. науч. конф. -Красноярск, 1993. -С. 210-214.
- Данилов В., Ильин А., Тепцов Н. Коллективизация: как это было//Урок дает история. -М.: Политиздат, 1989. -С. 150.
- КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. -9-е изд. -М.: Политиздат, 1983. -Т.2.-С.73-74.
- Данилов В. Коллективизация//Переписка на исторические темы. Диалог ведет читатель. -М.: Политиздат, 1989. -С. 383.
- Там же.
- Северьянов М.Д. Указ. соч. -С.43-45.
- Жизнь Сибири. -1930. -№ 4. -С. 5.
- Шмелев Н., Попов В. На переломе: перестройка экономики в СССР. -М.: Изд-во АПН, 1989. -С. 20.
- Жизнь Сибири. -1930. -№4. -С. 6.
- Там же. -С. 3.
- Правда. -2 марта 1930 г.
- Жизнь Сибири. -1930. -№4. -С. 7.
- Там же.
- Там же. -С.6.
- Гришаев С.В., Колесник Э.Г. Указ. соч. -С. 214.