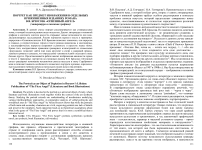Портрет как предмет изображения в отдельных прижизненных изданиях романа В. Я. Брюсова "Огненный ангел" (литература и книжная графика)
Автор: Дровалева Наталия Алексеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (41), 2017 года.
Бесплатный доступ
В данной статье портрет рассматривается как универсальная точка, в которой сходятся разные виды искусства. Диалог литературы и книжной графики в контексте синтеза искусств открывает новые возможности для междисциплинарных исследований. Анализ портретов героев в тексте и гравюрных портретов в «Огненном ангеле» В.Я. Брюсова позволяет заключить, что портреты и главных, и второстепенных героев в тексте романа живописны и многомерны, а ксилографические портреты сохраняют условность и простоту языка эпохи. Кроме того, контрастивное сравнение гравюрных иллюстраций со словесными «рисунками» позволяет найти еще один аргумент в споре о жанровой принадлежности романа и доказать, что определение «символистский» подходит к нему больше других. Представленный в работе анализ изображения внешности героев в тексте и гравюрных портретов на страницах романа В.Я. Брюсова «Огненный ангел» расширяет понимание механизмов синтеза искусств в эпоху Серебряного века и позволяет выявить особенности словесного портрета в романе, определенные владеющим тайнами ремесла нескольких видов искусства автором.
В.я. брюсов, "огненный ангел", портрет, символизм, символистский роман, синтез искусств, книготворчество, гравюра
Короткий адрес: https://sciup.org/14914605
IDR: 14914605
Текст научной статьи Портрет как предмет изображения в отдельных прижизненных изданиях романа В. Я. Брюсова "Огненный ангел" (литература и книжная графика)
Исследователи, изучающие взаимодействие литературы и книжной графики, как правило, обращаются к практической типографике в отрыве от содержания книги, редко рассматривают способы создания иллюстративного ряда к произведению в связи с его сюжетом и стилем, лишь пунктирно говорят о соотношении графических приемов с художественным материалом (А.Д. Чегодаев1, Н.И. Шантыко2,
В.В. Пахомов3, А.Д. Гончаров4, Н.А. Гончарова5). Применительно к эпохе Серебряного века, о которой пойдет речь, вопрос о связях литературных текстов и книжной графики требует особого рассмотрения в контексте проблемы синтеза искусств, который предполагает совершенно новое единство, «восстанавливаемое из полностью определившихся различий между отдельными видами художественного творчества»6.
Идея создания словесно-визуальной целостности находит отражение в книгоиздательских взглядах В .Я. Брюсова. По мнению писателя, конечная цель развития синтетической культуры - не механическое сложение, а «рождение единой художественной системы, вбирающей в себя наследие прошлого и достижения настоящего»7. Результат в данном случае зависит как от качества издательской подготовки8, так и от творческих принципов автора. В письме к П.П. Перцову о книге стихов «Chefs d’ Oeuvre» Брюсов призывает: «Умоляю Вас, читая ее, - читать все подряд, <...> ибо все имеет свое назначение, и этим сохранится хоть одно достоинство -единство плана»9. Он прекрасно знал культуру издательского дела, сам подбирал шрифты и другие элементы книги, которые нередко становились образцом для книготворчества других символистов10. Мы остановимся на портрете как предмете изображения в отдельных прижизненных изданиях «Огненного ангела» (за рамками исследования остается журнальная публикация романа в «Весах» за 1907 и 1908 гг). Нас будет интересовать не только литературный, но и визуальный портрет - изображение в книжной графике (гравюрный оттиск).
История взаимоотношений портрета в литературе и живописи крайне сложна. М.Г Уртминцева кратко, но очень емко объясняет переход этого термина в литературу: «Сам термин “портрет” в его прямом значении заимствован из близкого к литературе вида искусства - живописи. В старофранцузском языке существовало выражение pour-trait, что обозначало изображение оригинала trait pour trait - “черта в черту”. Корни слова восходят к латинскому глаголу “protrahere”, что означает “извлекать наружу, обнаруживать”»11. Позднее смысл расширяется, термин приобретает дополнительное значение «изображать, портретировать».
Интерес к портрету в качестве иллюстрации не был отдельной темой рассмотрения в специальной литературе. Однако очевидно, что на разных этапах культурного развития оформление более или менее значимо для понимания текста. Ю.Я. Герчук считает, что «при своей крайней примитивности, первоначальная ксилография с первых же шагов оказалась искусством целостным и органичным», а «ее лаконичный графический язык - плоскостность, характер и масштаб угловатого штриха - прямо порождался естественными свойствами материала и инструмента»12. Характерное качество ксилографии - это «ее относительная независимость от той книги, для которой она была первоначально изготовлена, от предназначенного ей места в наборе». Схематизм независимой ранней печатной иллюстрации скорее знаковый, чем изобразительный (в отличие от живописи). Именно поэтому возможности использования гравюры расширялись: одна и та же картинка «могла изображать, в зависимости от контекста, разных персонажей, различные местности или события»13. Яркий пример - «Всемирная хроника» Г. Шеделя (конец XV в.), где один и тот же портрет используется для изображения одного из библейских праотцев, гомеровского героя, римского поэта и немецкого рыцаря: читатель того времени, видимо, не ждал документальной достоверности образов, «вполне удовлетворяясь тем, что названному в тексте явлению находилась хотя бы приблизительная параллель в изображении»14. Ощущение полноты и правдивости возникало уже в связи с присутствием портрета на страницах книги.
В XVIII в. иллюстрации играли роль «изобразительного» комментария. Ю.Н. Белова на примере иллюстраций Ю. Гравелло и Ж. Паскье к «Истории кавалера де Грие и Манон Леско» рассматривает механизмы подготовки иллюстраций15. Все гравюры, на которых изображены герои, помещены на отдельных страницах, что не дает читателю спокойно переходить от визуального к словесному. Иллюстраторы «стремятся максимально точно отразить сюжет и используют вольно или невольно художественные приемы, присущие не только Ватто», но и Прево16. В начале XIX столетия на смену идеализированному изображению XVIII в. графика и живопись выдвигают «именно характерность, порой сознательно обостренную до гротеска»17, герой иллюстрации, как и герой литературы, все ближе к реальной жизни, к быту. Потребность в жизненной достоверности и бытовой конкретности распространяется не только на современные, но и на исторические сюжеты. Во второй половине XIX в. тоновая ксилография позволяет моделировать объем и воздушное пространство изображения, что провоцирует уход зрителя и читателя в иллюзорный мир героев. Эпоха модерна или время красивой книги - период не второстепенных графиков-оформителей. В конце XIX в. оформлять книги стали ведущие мастера зарубежной и русской живописи, привнося в портретные изображения собственный уникальный стиль и стиль главенствующего в графике направления, сочетая его с литературными задачами. Из Франции на русскую почву пришла «книга художника», в которой иллюстрации выполнял, как правило, известный профессиональный художник в различных техниках - литографии, офорте или гравюре на дереве. Портреты, как и другие иллюстрации, делались максимально качественно: они были декоративными, иллюзорными и детально прорисовывались.
Первое издание брюсовского «Огненного ангела» украшают именно такие виньетки и три портрета, выполненные И. Заттлером в собственном стиле. Для второго издания Брюсов более тщательно подбирает иллюстративный материал, значительно расширяет примечания и заново пишет предисловие18 (здесь и далее в скобках будут указаны страницы «Огненного ангела» 1909 года издания, VIII), в котором считает необходимым отметить, что украшения книги воспроизводят именно гравюры конца XV и XVI вв., а не созданные современным художником, как было в издании 1908 г: «Исключение составляет одно воспроизведение гравюры самого начала XVII в., которой мы должны были воспользоваться, так как не нашли более раннего гравированного портрета Фауста» (VIII).
При работе с иллюстративным материалом мы будем опираться только на второе издание, содержащее несколько десятков портретных изображений на страницах книги, и подробно остановимся на образах Фауста, Мефистофелеса, Агриппы Неттесгеймского, Ренаты, Генриха и Мадиэля, возникающих в тексте романа.
Большинство портретных гравюр во втором издании выполнено в древнейшей ксилографической технике. Гравюрный оттиск, по мнению художника и оформителя-теоретика В.А. Фаворского, - явление цельное: «...в любой момент, когда гравируешь, остановись и напечатай, - должна быть вещь. Цельность - в каждый момент»19. Вот почему еще в процессе работы следует проверять единство восприятия оттиска, «чтобы от подробностей не пострадала цельность силуэта». Гравюре не свойственна перегруженность деталями, что определяется самой техникой ее создания. Ощущение воздушного пространства в изображении сведено к минимуму.
Позднее гравюрное изображение доктора Фауста и Мефистофелеса, помещенное на первой странице одиннадцатой главы «Огненного ангела», в целом сохраняет характеристики средневековой гравюры: отсутствуют детализация, натуральная перспектива, приближенная к живописи. Перед нами - оттиск, переходящий из книги в книгу, штамп, принадлежащий двумерному книжному пространству, но в тексте внешний вид Фауста и, в особенности, Мефистофелеса ускользает от восприятия Рупрехта: «Один из них, человек лет тридцати пяти, одетый как обычно одеваются доктора, с небольшой курчавой бородкой, - производил впечатление переодетого короля. <.. > Спутник его был одет в монашеское платье; он был высок и худ, но все существо его каждый миг меняло свой внешний вид, так же, как его лицо - свое выражение» (214). Кто Фауст: фокусник или волшебник? Известно, что некоторые современники считали исторического Фауста шарлатаном20. В романе это мнение озвучивает граф фон Веллен, говоря о Фаусте и его спутнике Мефистофелесе (238). Б.И. Пуришев отмечает, что Брюсов отчасти опирается на «Историю о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике». В «народной книге» XVI в. «он нашел и фигуру Мефистофеля». Однако в ней, полагает ученый, «Мефистофель - это могущественный бес, которому Фауст продал свою душу, в романе же это всего лишь умный и ловкий фокусник». К тому же, Брюсов не стремится осудить «человеческий порыв» к знанию. Читателю начала XX в. Фауст был прежде всего знаком по трагедии И.В. Гете и олицетворял собой «ищущее человечество». Однако Брюсов, по мнению Б.И. Пуришева, создает более многослойный образ.
Личность Агриппы Неттесгеймского также успела стать историческим штампом, как и растиражированная гравюра, изображающая ученого и воспроизведенная в середине шестой главы издания 1909 г. (127). Как пишет Б.И. Пуришев, в памяти «потомства Агриппа сохранился лишь как банальный чернокнижник, один из тех шарлатанов, которые пускали пыль в глаза людям доверчивым»21. Брюсов сделал удачную попытку показать выдающегося ученого в истинном свете. В тексте романа словесный портрет Агриппы сложен, подробен и неоднозначен: «Я узнал Агриппу, ибо он очень похож на свой портрет, напечатанный на обложке книги “De Occulta Philosophia”; только выражение лица показалось мне несколько иным: на портрете оно добродушное и откровенное, - у Агриппы же было в лице что-то пренебрежительное или брезгливое, может быть, оттого, что губы его как-то старчески свисали...» (130-131).
Рупрехт сравнивает изображение Агриппы из прижизненного издания «De Occulta Philosophia» и того человека, которого он видит, а наш взгляд невольно переходит на портретную гравюру, помещенную Брюсовым в этой главе так, чтобы визуальное вступало в диалог с текстом (127). Перед читателем - портрет-картина. Агриппа представлен в смысловой и сюжетной взаимосвязи с окружающим его миром вещей и интерьером. В конце романа дается групповой портрет: «...на широкой супружеской кровати <.. > лежал неподвижно, протянув руки вдоль тела, великий чародей <...>. Вокруг кровати в скорбном молчании стояли ученики, слуги и сыновья Агриппы...» (324).
Групповой портрет - относительно новый тип портрета, получивший широкое распространение в Голландии в XVII в. Он сложнее, чем портреты, характерные для Позднего Средневековья, времени брюсовского романа. Его герой мыслит уже не средневековыми категориями, согласно которым «жизнь представлена не длящимся процессом, а остановившимся мгновением»22. В тексте писатель изображает не «маску ставшего», а само становление жизни, которое только спустя столетие запечатлеет Рембрандт, мастер группового портрета.
Изменчивость жизни характеризует также образ Ренаты, уходящий в исторический, биографический и живописный планы. А.И. Белецкий считает, что ее прототипом была Мария Рената Зенгер (последняя ведьма, сожженная на костре в XVIII в.)23. Вместе с тем Брюсов дает «натуралистически написанный» портрет Н.П. Петровской24, который, по воспоминаниям А. Белого, «писался два года, в эпоху горестной путаницы между нею, Брюсовым и мною»25: «Быт старого Кельна, полный суеверий, быт исторический, скрупулезно изученный Брюсовым», напоминал Белому отчет о «бредах» Петровской, которая в такие моменты была похожа на Ренату.
Силуэт Ренаты является Рупрехту в живописи - на картине Сандро Филиппепи: «.. .сидит покинутая женщина, опустив голову на руки, в безутешности горя; лица ее не видно, но видны распущенные темные волосы; тут же поблизости разбросаны одежды, и кругом нет никого более» (41). Рупрехт отмечает, что образ с картины и «явленный жизнью» слились и «живут в душе неразрывно» (42). Лицо спящей Ренаты герой сравнивает с детскими ликами на картинах Беато Анджелико во Фьезоле, ему кажется невероятным, что ею недавно владел дьявол (25). В монастыре Рената (сестра Мария) была предметом восхищения, с ее появлением начали исцеляться недуги, над головой девушки сияло нечто, напоминающее нимб святых, но позже проявились вокруг Ренаты проделки бесов (267). Иногда она казалась загадкой, не живым человеком, а «каким-то святым символом» (206). Она то слабая женщина, то тверда, как камень (281).
В пятнадцатой главе портрет Ренаты, напротив, очень телесен. Рупрехт обращает внимание на родинку на левом плече, куда палач вонзал острие шила. Образ героини не имеет постоянных характеристик, и герой сомневается, что между ее ликами можно найти единство (186). Сказанное прямо соотносится со взглядами писателя, создавшего роман. В соответствии с ними истинно то, что человек признает «теперь, сегодня, в это мгновение»26, поэтому в мире людей и мире духов лики Ренаты столь различны. Ее «портрет» (обращение к реальному прототипу времени Брюсова (Петровской), и к живописным образам XV в., и к историческому прототипу) отсылает нас к символистской идее о творении «художником» новых миров, многослойное™ и многозначности создаваемых образов.
Генрих (реальным прототипом которого был Андрей Белый27) кажется Ренате прекрасным духом, а его портретные характеристики полностью совпадают с видениями: «...узнала Рената приехавшего в их местность молодого графа из Австрии. Одевался он в белые одежды; глаза у него были голубые, а волосы словно из тонких золотых ниток, так что Рената тотчас признала, что это - Мадиэль» (23). И совсем обычным молодым человеком Генрих предстает в глазах Рупрехта, который отмечает множество деталей костюма: шелк, прорезанные рукава, золотую цепь на груди и мелкие золотые украшения. В седьмой главе дается подробный портрет графа: «Голубые глаза его, сидевшие глубоко под несколько редкими ресницами, казались осколками лазурного неба, губы, может быть, слишком полные, складывались невольно в улыбку» (148). Герой отчасти напоминает ангела, но он не идеальный оттиск: глаза сидят глубоко, ресницы редкие, губы полные, волосы хоть и напоминают нимб, принадлежат обычному человеку, они сухие и острые. Образ рассыпается на мелкие детали, за которыми мы узнаем Белого. По утверждению Белецкого, Генрих не представитель немецкой мистики исторического времени романа, это теософ XX в., показанный в нарочито кривом зеркале28. Его речи - сознательная пародия. Автор сам признает, что они не вполне историчны: «В речах графа Генриха слышатся зачатки тех учений, которые были полно развиты современными оккультистами, преимущественно французскими» (350). Граф Генрих - это и Андрей Белый, и современный оккультист. При ближайшем рассмотрении образ оказывается еще более многомерным.
Итак, можно с уверенностью заключить, что если ксилографические портреты на страницах «Огненного ангела» сохраняют условность и декоративность языка эпохи, даже когда художник вводит моделирующую штриховку, то в тексте романа портреты и главных, и второстепенных героев очень живописны, многомерны. Они не являются мгновенным оттиском и маской. Граф Генрих - простой смертный или земное воплощение огненного ангела Мадиэля? Агриппа - чернокнижник или ученый? Рената - болезненная девушка или ведьма?
Среди многомерных портретов есть только один, в создании которого Брюсов идет за техникой средневековой гравюры. В начале романа Мадиэль предстает таким, каким его видит маленькая Рената: «Было Ренате лет восемь, когда впервые явился ей в комнате, в солнечном луче, ангел, весь как бы огненный, в белоснежной одежде. Лицо его блистало, глаза были голубые, как небо, а волосы словно из тонких золотых ниток» (20-21). И уже взрослой героине Мадиэль является в том же виде: «Рената узнала тотчас своего Мадиэля, ибо он был таким же, как прежде: лицо его блистало, глаза были голубые, как небо, волосы словно из золотых ниток...» (184). Перед смертью Рената описывает свое последнее видение Мадиэля в неизменном обличье (312). Несмотря на то, что в портрете присутствуют цветовые эпитеты, они повторяются в одной и той же последовательности и не детализированы. Портрет Мадиэля соответствует средневековому изображению духов, не меняется во времени и всегда принадлежит одному миру. Подобные неизменные гравюрные изображения ангелов и скелетов можно неоднократно встретить на страницах издания 1909 г. Все они выполнены в грубой ксилографической манере и представляют собой ранние образцы гравюры (в основном оттиски взяты из книги «La Grande Danse macabre des Hommes et des Femmes» как указывает сам Брюсов в перечне рисунков к роману) (369).
Как видно, портрет оказывается той универсальной точкой, в которой сходятся разные виды искусства (литература, живопись, книжная графика), а их диалог открывает новые возможности для междисциплинарных исследований в области взаимодействия словесного и визуального рядов. Очевидно, что разговор о портрете не ограничивается исключительно технической составляющей и неизбежно выводит нас в сферу реального комментария текста. Контрастивное сравнение гравюрных иллюстраций со словесными «рисунками» позволяет найти еще один весомый аргумент в давнем споре о том, какова жанровая принадлежность брюсовского романа и почему определение «символистский» подходит к нему больше других.
Список литературы Портрет как предмет изображения в отдельных прижизненных изданиях романа В. Я. Брюсова "Огненный ангел" (литература и книжная графика)
- Чегодаев А.Д. Пути развития русской советской книжной графики. М., 1955.
- Шантыко Н.И. Творчество советских иллюстраторов. М., 1962.
- Пахомов В.В. Книжное искусство: в 2 т. М., 1962.
- Гончаров А.Д. Художник и книга. М., 1964.
- Гончарова Н.А. Композиция и архитектоника книги. М., 1977.
- Мазаев А.И. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. М., 1992. С. 324.
- Царева Н.А. Проблемы философии искусства и культуры в русском символизме и европейском постмодернизме (компаративистский подход). Владивосток, 2009. С. 228.
- Переписка с Андреем Белым (1902-1912)//Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 14.
- Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову: 1894-1896 гг.: (к истории раннего символизма). М., 1927. С. 37.
- Толстых Г.А. Книготворческие взгляды русских поэтов-символистов//Книга: исследования и материалы. Сб. 68. М., 1994. С. 209-229.
- Уртминцева М.Г. Говорящая живопись. (Очерки истории литературного портрета). Нижний Новгород, 2000. С. 4.
- Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М., 2013. С. 140.
- Белова Ю.Н. Прево и Ватто: волшебные отражения иллюзий. Иллюстрации Ю. Гравелло и Ж.-Ж. Паскье к роману А.-Ф. Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско»//Библиофилы России: альманах. Т. 5. М., 2008. С. 172-188.
- Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986. С. 148-149.
- Пуришев Б.И. Брюсов и немецкая культура XVI века//Брюсов В.Я. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4. М., 1974. С. 338.
- Тарабукин Н.М. Портрет, как проблема стиля//Искусство портрета. М., 1928. С. 173.
- Белецкий А.И. Первый исторический роман В.Я. Брюсова//Брюсов В.Я. Огненный ангел. М., 1993. С. 414.
- Мирза-Авакян М.Л. Образ Нины Петровской в творческой судьбе В.Я. Брюсова//Брюсовские чтения 1983 года. Ереван, 1985. С. 223-234.
- Переписка с Андреем Белым (1902-1912)//Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 332.
- Белецкий А.И. Первый исторический роман В.Я. Брюсова//Брюсов В.Я. Огненный ангел. М., 1993.