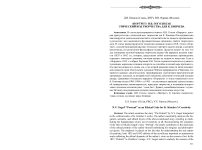"Портрет" Н.В. Гоголя как этический код творчества для К. Кинчева
Автор: Иванов Дмитрий Игоревич, Варава Владимир Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается повесть Н.В. Гоголя «Портрет», которая трактуется как «этический код» творчества для К. Кинчева. Последовательно анализируются лингвосемантический и этический пласты данного произведения, в результате чего выявляются фундаментальные принципы любого творческого акта. В статье реконструируется семантика названия повести Н.В. Гоголя «Портрет», способствующая раскрытию этического портрета самого автора, в котором воплотились его религиозно-философские искания. Делается акцент на том, что для понимания истиной природы творчества важны оба варианта издания повести (1835 и 1842 гг.), которые, представляя собой полноценные произведения, отражают этическую динамику взглядов автора на сущность искусства. Если в «Портрете» 1835 г. в образе Черткова Н.В. Гоголь стремится воплотить сущность художника, моральное сознание которого не способно в полной мере противостоять преследующим его силам зла, то во второй редакции повести автор изменяет имя главного героя. В результате художник Чертков превращается в Чарткова, что является важным свидетельством трансформации «когнитивно-прагматический программы» писателя, за которой стоит изменение собственно этической позиции автора. Сравнивая гоголевские варианты «Портрета» и этапы творческого пути К. Кинчева (песни 1985-1994 гг. и 1995 - до настоящего времени) делается вывод об универсальных закономерностях, присущих творчеству, в основании которого лежат этические коллизии (свет / тьма, Бог / Дьявол, самообожествление / служение Истине), вне разрешения которых невозможно подлинное искусство.
Н.в. гоголь, повесть «портрет», к. кинчев, творчество, этика, истина, служение, вера, безверие
Короткий адрес: https://sciup.org/149139239
IDR: 149139239 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_311
Текст научной статьи "Портрет" Н.В. Гоголя как этический код творчества для К. Кинчева
Творчество H.B. Гоголя оказало настолько сильное влияние на все дальнейшее развитие отечественной словесной и философской культуры, что его можно поставить в ряд самых выдающихся явлений русского гения. Интерпретаций этого творчества, как и самой жизни, как хорошо известно, существует множество. Гоголь - это загадка, разгадывая которую, мы лучше постигаем не только самого автора, но и самих себя, свое национальное самосознание. И процесс этот нескончаем. Как справедливо заметил Д.П. Святополк-Мирский: «Вероятно, его психологическая загадка так навсегда и останется загадкой» [Святополк-Мирский 2008, 182].
О значимости религиозно-философских исканий Гоголя, оказавших бесспорное влияние на творчество многих ярких и талантливых представителей отечественной культуры, очень точно сказал В.В. Зень-ковский. В «Истории русской философии», назвав Гоголя «пророком православной культуры», он пишет следующее: «Гоголь впервые в истории русской мысли подходит к вопросу об эстетическом аморализме, с чрезвычайной остротой ставит тему о расхождении эстетической и моральной жизни в человеке. <...> “Естественный” аморализм современного человека, по Гоголю, связан с тем, что в нем доминирует эстетическое начало. Вопрос о природе эстетического начала и об отношении его к моральной теме в человеке всю жизнь занимал, можно сказать, мучил Гоголя: он сам был горячим, страстным поклонником искусства, но с полной, беспощадной правдивостью вскрывал он таинственную трагичность эстетического начала» [Зеньковский 2001, 175; 178].
Кого только ни мучали подобные вопросы, кто только лишь соприкасался с творчеством, находясь в лоне отечественной культуры, и неважно досоветского, советского или постсоветского ее периодов?
Это принципиально важные, с нашей точки зрения, программные слова В.В. Зеньковского о сущности философских задач, которые поставил перед собой Гоголь, испытывая сильнейшие духовно-нравственные борения, задач, которые были вынуждены решать последующие поклонения творцов русской культуры в ее разных пластах и изводах, в том числе и в рок-культуре. В качестве одного из наиболее ярких примеров из этой сферы, как нам представляется, является фигура Константина Кинчева, в

жизни и творчестве которого отразились основные этапы духовного пути, который прошел сам Гоголь, оказавший на него огромное влияние.
Из всего творческого наследия Гоголя в контексте поставленных нами задач выделяется «Портрет», который можно рассматривать в качестве этического кода творчества для К. Кинчева. Именно в этом произведении, с нашей точки зрения, ставятся фундаментальные вопросы, вне ответа на которые, любое творчество просто не существует.
Прежде всего нам хотелось бы рассмотреть некоторые лингвосемантические аспекты самого названия повести Н.В. Гоголя «Портрет», которые способствуют уяснению глубинных этических смыслов произведения. Дело в том, что портрет в данном случае - это, во-первых, специфический, стержневой когнитивно-концептуальный знак, синтезирующий и воплощающий в себе «деятельное единство языка, речевого общения и человека. Это триединство обеспечивает существование в реальном мире, где он мыслит, познает и создает вокруг себя ценностно-смысловое пространство - эпицентр человеческой культуры и цивилизации» [Шевченко 2014, 34-35]. Во-вторых, своеобразная концептуально-смысловая мета-форически-художественная форма воплощения «когнитивно-прагматический программы» (в дальнейшем КПП) [Иванов 2016, 30], включающая в себя систему частных взаимосвязанных между собой понятий («языковой портрет» [Юдина, Кузнецова 2016], «речевой портрет», «языковая личность»), на основе синтеза которых формируется личность синтетическая [Иванов 2017] (субъект-источник - субъект-интерпретатор) и выстраивается когнитивно-ментальная карта полидискурсивной личности порождающего субъекта / генератора КПП.
Основными структурообразующими компонентами этой когнитивноментальной карты являются когнитивно-концептуальные знаки, репрезентирующие ценностно-смысловое пространство личности. Они же служат и главным предметом «языкового портрета» [Шевченко 2014, 35-36]. М.Н. Шевченко замечает: «Когнитивно-концептуальные знаки проявляют уникальность своей природы: выполняют речемыслительную функцию, формируя кодовое мышление индивида, таящее в себе коды личностных ориентиров в окружающем мире. Когнитивно-концептуальные знаки, являясь достоянием индивидуально-кодовой системы, способствуют возникновению авторского образа на основе сравнения или противопоставления с уже существующими, освоенными и осознанными индивидом объектами действительности и помогают ориентироваться в авторском видении совершенства реального мира <...> Когнитивно-концептуальные знаки несут главные для автора идеи и однозначно характеризуют идиостиль на фоне общелитературного языка» [Шевченко 2014, 35]. Здесь следует заметить, что традиционно статусом когнитивно-концептуального знака наделяются «прозвища, прецедентные имена, авторские метафоры, авторские фразеологизмы, авторская паремия, авторские формулы и афоризмы великих мыслителей, используемые в тексте индивида» [Шевченко 2014, 35].
Мы же полагаем, что ряд вербально-языковых единиц, которые могут реально приобрести статус когнитивно-концептуального знака должен быть существенно расширен. Как минимум в этот перечень необходимо включить название текста произведения. Причем это может быть как название литературного, философского, духовно-религиозного произведения, так и названия текстов песен и других номинаций, которые имеют высокую степень резонансной активности. Дело в том, что заглавие произведения - это не только некая фактическая (статическая) квинтэссенция концепции генератора КПП, но и специфическая когнитивно-прагматическая форма выражения внутренней, ментально-интенциональной динамики духовно-нравственного развития личности.
Именно поэтому название гоголевской повести («Портрет») можно интерпретировать как подсознательное стремление писателя не к простой визуализации изображаемого в тексте субъекта, который, в действительности, является специфической субъектно-ролевой самоидентификацион-ной инкарнацией Н.В. Гоголя, но к воплощению когнитивно-ментального состояния субъекта изображающего, т.е. самого себя. Это своего рода, внутренний, этический портрет самого автора, в котором воплотились те его религиозно-философские искания, о которых мы говорили выше, приводя слова В.В. Зеньковского.
Другими словами, «портрет Гоголя» в повести «Портрет» - это опыт самовоплощения и самопознания «себя-в-себе-через другого», «себя-в пространстве-своей КПП», т.к. в этой попытке сливаются воедино три ключевых вопроса, сама постановка которых активизирует процесс моделирования КПП. Эти вопросы предельно просты: а) что изображается? (уровень самоидентификации); б) зачем изображается? (уровень целеполагания); в) как изображается? (уровень формирования инструментально-операциональной стратегии реализации КПП). В своем единстве эти вопросы образуют ту этико-эстетического целостность, которая характеризует «Портрет», и которая конгениальна рассматриваемому нами творчеству К. Кинчева.
Исследуем более подробно обозначенные аспекты, совершив, прежде всего, небольшой экскурс в историю публикаций этого произведения Гоголя.
Как известно, повесть Н.В. Гоголя «Портрет» имеет два варианта издания: а) издание 1835 года; б) издание 1842 года. Отметим, что достаточно часто в литературоведческих исследованиях встречается мнение о том, что первая редакция повести - это всего лишь «черновик, неудачная проба, место которой - в лучшем случае в разделе “Другие редакции” (именно там располагается версия “Портрета” 1835 г. в третьем томе Полного собрания сочинений 1937-1952 гг.)» [Волоконская, 2014, 119]. Вероятно, это весьма сомнительное убеждение сформировалось под влиянием многих критических отзывов, которым подверглась первая редакция повести.
Так, оценивая «Портрет», ВТ. Белинский отмечает: «“Портрет” есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде. Здесь его талант падает, но он и в самом падении остается талантом. Первой части этой повести

невозможно читать без увлечения; даже, в самом деле, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое в этом таинственном портрете, есть какая-то непобедимая прелесть, которая заставляет вас насильно смотреть на него, хотя вам это и страшно... Но вторая ее часть решительно ничего не стоит; в ней совсем не видно г. Гоголя. Это явная приделка, в которой работал ум, а фантазия не принимала никакого участия» [Белинский, 1988, 241].
Однако, в действительности, называть версию «Портрета» (1835 г.) «черновиком» и тем более «неудачной пробой» не просто не корректно, но и ошибочно. Этот факт подтверждают современные исследования повести. Вот как о «Портрете» 1835 г. пишет А. Терц: «Смысловое ядро “Портрета”, крайне актуальное для его автора, более чисто и очевидно выступает в ранней версии текста, менее сложной и разработанной в литературном отношении, но, безусловно, прямее отвечавшей на тему, тревожившую и затрагивавшую Гоголя персонально, тему власти и страха, заключенных в изобразительной магии» [Терц 2009, 473].
На наш взгляд, оба варианта повести (а) 1835; б) 1842 - это самоценные, оригинальные произведения, в каждом из которых представлен опыт когнитивно-ментального «самовоплощения» Н.В. Гоголя через реализацию того или иного этапа моделирования единой КПП, что соответствует его духовно-нравственной эволюции. Эти редакции отражают этическую динамику взглядов Гоголя, которую также претерпел в своей жизни и творчестве К. Кинчев. Вот почему так важны оба эти варианты.
В этом контексте «радикальную переработку» [Волоконская, 2014, 119] первого варианта повести нельзя считать «вынужденной», формальной мерой. Это не простая попытка Н.В. Гоголя «угодить» недовольным критикам, а естественный, концептуально обусловленный результат процесса развития (эволюции) его КПП. Н.В. Гоголь так же, как и К. Кинчев, учитывая «ошибки» прошлых целевых, самоидентификационных и других самовоплощений, стремится выйти на новый уровень понимания себя-в-себе и реализовать себя в новом этическом образе, формирующемся на основе трансформации «старых» (ошибочных, некорректных) духовно-нравственных установок. Подобный прием повторного самовоплощения использует и К. Кинчев при переходе с одного этапа своего творчества на другой.
Другими словами, гоголевские варианты «Портрета» 1835 г. и 1842 г, так же, как и песни К. Кинчева 1985-1994 гг. и 1995 - до настоящего времени - это взаимодополняющие друг друга этапы этической эволюции единой, целостной КПП. Они выглядят следующим образом. Первый этап моделирования КПП Н.В. Гоголя: инфернально-мистическая, апокалиптическая версия программы («Портрет» 1835 г). Первый этап моделирования КПП К. Кинчева: деструктивно-героическая (демоническая, шаманическая) версия программы (песни и стихи 1985-1994 г). Второй этап моделирования КПП Н.В. Гоголя и К. Кинчева: конструктивно-христианская версия программы, направленная, во-первых, на утверждение со-творческой природы искусства, во-вторых, на обретение «бытия-к-
Богу», на спасение души и гармонизацию души и духа.
Еще в 1939 г. Н.И. Мордовиченко, анализируя специфику работы Н.В. Гоголя над новой редакцией повести «Портрет», справедливо заметила: «Если в первой редакции эстетическая тема была подчинена социальной, - в новой редакции центр тяжести был перенесен именно на эстетическую проблематику, на самую методологию искусства. Вопросы о “презренном и ничтожном” в искусстве, о назначении художественного творчества и о необходимых качествах “художника-создателя” - таковы основные темы новой редакции “Портрета”» [Мордовиченко 1939, 98].
О программном характере изменений, внесенных Гоголем во вторую редакцию повести, говорит и Е.Н. Галяткина. Исследовательница отмечает:
«В новой редакции “Портрета” писатель отошел от прежнего мифологизма и апокалиптических образов, <...> изменил фамилию главного героя с Черткова на Чартков; исключил из повести сцены мистических, необъяснимых появлений портрета и его заказчиков; представил более подробные характеристики второстепенных персонажей <...> Наибольшим изменениям подверглась вторая часть повести. Если переработки первой части “Портрета” касаются, преимущественно, расширения описаний и характеристик персонажей, которые практически не затрагивают главные элементы сюжета и не оказывают влияния на них, то во второй части повести серьёзные преобразования претерпели сюжетообразующие детали, что привело к изменению всей канвы произведения. Так, в рассматриваемых нами редакциях различно представлены история появления портрета, оказываемое им действие на героев и дальнейшее развитие событий, изменены личность и роль рассказчика, финал повести. Во второй редакции Гоголем уделяется большее внимание рассмотрению роли искусства и творчества в жизни человека, значения личности художника в обществе и качеств, необходимых человеку-творцу <...> повесть “Портрет” при второй редакции была значительно переработана Н.В. Гоголем и что изменения, внесенные в произведение, привели к преобразованию идеи повести, перераспределению акцентов и изменению значения сюжета произведения в целом» [Галяткина 2017, 10; 21-22].
Нетрудно заметить, что в зону художественной трансформации Н.В. Гоголь выносит, прежде всего, ключевые концептуально-смысловые элементы повести: а) историю появления портрета, б) имя главного героя (субъектно-ролевой инкарнации генератора КПП); в) специфику воздействия портрета на героев; г) финал повести и т.д. Подобная акцентировка представляется вполне закономерной и оправданной. Дело в том, что именно в этих концептуально-смысловых зонах сконцентрированы системообразующие элементы нового варианта КПП писателя. Приведем несколько конкретных примеров.
Пример первый. Во второй редакции «Портрета» (1842 г.) Н.В. Гоголь изменяет имя главного героя первой части повести. В результате художник Чертков превращается в Чарткова. На наш взгляд, подобная трансфор-
мация имени (одной из ключевых субъектно-ролевых инкарнаций генератора КПП) является важным свидетельством трансформации КПП писателя, за которой стоит изменение собственно этической позиции автора. В «Портрете» 1835 г. в образе Черткова Н.В. Гоголь стремится воплотить сущность художника, моральное сознание которого не способно, в полной мере, противостоять преследующим его силам зла. Чертков - это специфический тип «креативного субъекта», который пытается, следуя своему «предназначению-дару», изображать (визуализировать на холсте) в образе субъекта изображаемого сущностные черты живой, одухотворенной души человеческой.
Причем сам момент «фиксации» души в «теле» художественного произведения Н.В. Гоголь также понимает как естественный, органичный, взаимообусловленный, двусторонний синтез черт души (внутреннего духовно-ментального и этического облика) изображающего и изображаемого субъектов. Он глубоко убежден в том, что только таким способом можно создать истинное произведение искусства. Подчеркнем, что одним из ключевых компонентов подлинного искусства должна стать одухотворенная божественной силой специфическая, объективированная в «художественном тексте» и явленная миру особая форма живой креативной субъективности.
При этом данный тип субъекта дистанцирован и от субъекта изображающего, и от субъекта изображаемого, но в то же время неразрывно с ними связан. Их связь обеспечивается тем, что «креативная форма субъективности» является своеобразным «двойным отражением» изображающего (субъект 1) и изображаемого (субъект 2). Другими словами, креативный субъект, которого условно можно назвать воплощением «третьей субъективности» - это некая совмещенно-синтетическая форма фиксации когнитивно-ментальных и духовных состояний первого и второго субъектов. Такова его этическая позиция. Заметим, что в данном контексте речь идет не только о тех состояниях, которые переживают изображающий и изображаемый субъекты во время непосредственной реализации творческого акта, но и о состояниях «до- и после-творческих» (построение креативной цели, создание творческого замысла, определение функциональных характеристик будущего произведения и т.д.).
Результатом воплощения этого синтеза является рождение произведения искусства (картины, литературного текста, фильма), за которым, согласно со-творческой концепции искусства Н.В. Гоголя, всегда стоит незримая, но ощущаемо-живая высшая сила: а конструктивно-созидательная (Бог); б) инфернально-деструктивная (демоническая) (Дьявол). К. Кинчев выражает это так: «Вот он я, смотри, Господи, / И ересь моя вся со мной. / Посреди болот алмазные россыпи / Глазами в облака да в трясину ногой. / Кровью запекаемся на золоте, / Ищем у воды прощенья небес, / А черти, знай, мутят воду в омуте, / И стало быть ангелы где-то здесь. / Вольному -воля, / Спасенному - боль. / Но только в комнатах воздух приторный, / То ли молимся, то ли блюем. / Купола в России кроют корытами, / Чтобы реже вспоминалось о Нем. / А мы все продираемся к радуге / Мертвыми лесами да хлябью болот, / По краям да по самым по окраинам, / И куда еще нас бес занесет?..» [Кинчев 1993, 115].
Все это позволяет говорить о том, что в «ментальном теле» «креативного субъекта» активизируется процесс двойного синтеза: а) синтез «явленной» («тварной) субъективности (взаимодействие когнитивно-ментальных состояний живых людей); б) синтез «надчеловеческой» («нетварной») субъективности (взаимодействие божественного и демонического начал).
Ситуация двойного синтеза порождает в сознании «креативного субъекта» некую непреодолимую, но закономерно-естественную противоречивость, за которой стоит внутренняя, зачастую неосознаваемая человеком борьба. Основные формы этого противостояния можно представить как последовательность этических актов самого автора: а) борьба «себя-с-собой» (внутренняя борьба); б) борьба «себя-с-другими» (внешнее противостояние: человек - мир»; в) борьба «себя-с-другим-в-себе» (противостояние Света (Бога) и Тьмы (Дьявола) в душе человека).
Важно, что эти формы противостояния в моральном сознании человека сливаются в единое целое. Все это проводит к тотальной дезориентации личности, которая в своем стремлении к «созидательному бунту», чаще всего, выбирает самый простой и понятный для себя путь. Это путь концентрации на двух первых формах борьбы (а) борьба «себя-с-собой» (внутренняя борьба); б) борьба «себя-с-другими» (внешнее противостояние: человек - мир»), которые в действительности являются, всего лишь, частными (внешними) проявлениями третьей формы противостояния.
В погоне за «победой» над самим собой или над «враждебной» реальностью (миром) человек автоматически начинает «подменять понятия», не замечая этого. Он поглощен, увлечен «игрой в бисер» перед самим собой. Упоение «битвой» и жажда «победы» затемняют его сознание. Оно наполняется псевдоконструктивными и откровенно ложными психо-эмоциональными состояниями псевдоверы (безверие), псевдовосторга (обреченности, уныния, постоянного недовольства другими), псевдолюбви (ненависти), псевдоискренности (тщеславия, гордыни). Об этом же прямо говорит К. Кинчев: «Слепые заткнули уши, / Неясно кому здесь петь. / Учтивая спесь - черта равнодушных, / Звенящая медь. <...> Рвали рубахи в клочья, / Бились, как рыбы об лед. / Искали себя в череде многоточий, / Падение приняв за взлет. / Привыкли служить дешевизне, / Кроить по сусекам сор, / Но у всех, кто поставил на смерть после жизни / Хронический перебор» [Кинчев, 2005 а].
Принципиальным является то, что процесс возникновения и смены этих деструктивных моральных состояний, который метафорически можно назвать «когнитивно-ментальным пульсом» личности, преодолеть собственными силами человек не в состоянии. Для выхода из «круга искусственной обреченности» человек должен отказаться от ложных форм борьбы за самоуничтожение. Художник должен признать, что в мире существует только два источника силы - Бог и Дьявол. Именно они, а не сам
человек, являются главными противоборствующими сторонами. Пересмотрев свои этические взгляды, каждый человек должен сделать выбор: кому и ради чего он должен служить: «Здесь в силе волчий метод - / “Цена достойна потерь”, / Но если ты строить свой дом на камнях, / Бойся, проси и верь. <...> / Здесь постоянен тезис - / “Исправим, но не теперь”, / Но если ты сеешь на доброй земле, / Бойся, проси и верь. <...> / Здесь даже первый номер / Глядит, как загнанный зверь, / Но если ты стал для мира, как прах, / Бойся, проси и верь» [Там же].
От того, какую сторону (Светлую (Бог) / Темную (Дьявол)) выберет человек, зависит судьба всего созданного им. Если художник выбирает путь «бытия-к-Богу», то творение его рук, души и разума становится истинным произведением искусства, дарующее ему самому и человеку, соприкасающимся с ним, надежду на очищение и спасение души. Если же человек встает на путь «бытия-к-бездне» (Дьяволу)», то «созданное» «им» превращается в безжизненную симуляцию истинного творчества, разрушающую и опустошающую все, с чем оно соприкасается, т.к. в пустоте жизни быть не может.
И Н. В. Гоголь, и К. Кинчев прекрасно осознают, что дух дезориентированного человека, лишенного веры, слаб: «Кровь замутила Чертова мать, / Да отпустила петлять до весны. / Но голову шальную / Пулей не спасти, / Вьюга затянет жаркую рану белым рубцом. / На удачу бесу / Спину не крести, / Подмигни да сплюнь, коль узнал в лицо» [Кинчев 1993, 116].
Художник весьма хрупкое метафизически и этически существо, как никто, подвластное «дьявольским» искушениям и далеко не всегда способное отделить зерна (истину, добро, веру) от плевел (ложь, зло, безверие). Именно поэтому он часто попадает в капкан самообмана, в пространстве которого даже прекрасный творческий замысел, направленный на создание истинного произведения искусства, зачастую превращается в искаженную, симулятивно-овеществленную форму фиксации своей духовной опустошенности.
Достаточно четко специфику этого процесса сумел выразить А. Башлачев: «Мы хотим пить, / Но в колодцах замерзла вода. / Черные-черные дыры ... / Из них не напиться. / Мы вязли в песке, / Потом соскользнули по лезвию льда. / Потом потеряли сознание и рукавицы. / Мы строили замок, а выстроили сортир. / Ошибка в проекте, но нам, как всегда, видней. / Пускай эта ночь сошьет мне лиловый мундир. / Я стану хранителем времени сбора камней. / Я вижу черные дыры / Холодный свет. / Черные дыры / Смотри, от нас остались / Черные дыры / Нас больше нет. / Есть только / Черные дыры» [Башлачев, 2010, 68-69] .
В этом случае «креативный субъект» превращается в источник демонической силы («черную дыру»), а изображающий субъект, «создавший» на холсте этот «безжизненный» слепок своей опустошенной души, становится невольным участником «оборотнической игры», в которой Бог представляется ему Дьяволом, а Дьявол Богом. К. Кинчев называет подобный опыт духовного саморазрушения «пляской в огне» («Песни под стон топора. / Пляшет в огне чертополох. / Жги да гуляй до утра, / Сей по земле переполох!») [Кинчев 1993, 107], игрой в «подкидного дурака». Причем «дураком» является не демон, управляющий сознанием человека, а сам «художник», трагический финал которого предрешен: «Я толком никогда не глядел в пустоту, / И пустота вгляделась в меня, / Из вранья был слеплен почестей ком, / Матом урезонили шах. / Кто в жизни утверждался “подкидным дураком”, / К финишу пришел в дураках» [Кинчев 2005 Ь].
«Смысл» этой игры сводится к симуляции и блокировке истинной борьбы за спасение души человеческой, место которой занимает процесс бессмысленного поиска: а) «Бога-в-бездне» неверия; б) себя самого в омуте ложных самоуподоблений, самоотождествлений с Дьяволом, предстающим перед художником в образе Творца: «Так и бродят по Руси нераскаянные блики / Тех, что Духом не смогли душу обуздать, / Что пасли самих себя, в зеркалах узрев великих, / Да пытались ветку-жизнь под себя ломать» [Кинчев 2003].
Однако вернемся к Гоголю, поскольку именно в «Портрете» обозначен тот момент, когда художник принимает правила этой демонической игры абсурдно-деструктивных «самоуподоблений», воспринимая их как «свое» истинное предназначение, «свою» судьбу. Тем самым, он автоматически отворачивается от Бога, предает «свой» творческий дар и перестает быть художником-творцом в высшем понимании этого слова. Именно этот этический смысл несет в себе имя героя повести «Портрет», о чем мы уже говорили выше. Называя художника, носителя дара Божьего, Чертковым, Н. Гоголь стремится осмыслить сущностные особенности неуловимого и неподвластного человеку механизма непрерывного духовного и этикоэстетического противостояния Божественного и Демонического начал. Он пытается понять, какова природа произрастания зла в добре и веры в омуте безверия.
Однако стремление это остается всего лишь попыткой, т.к. сознание писателя в определенной степени блокировано инфернально-демоническим компонентом его КПП. Сущность этой «блокировки» заключена в том, что Н.В. Гоголь сам вступает в порочный круг «оборотнической игры». Это обстоятельство не позволяет ему решать поставленный перед собой вопрос «изнутри». Модель внутреннего, естественного, органичного, т.е. этического самоанализа («добро и зло, произрастающее во мне, есть знак незримого присутствия-противостояния в душе моей высших сил (Света и Тьмы), проводником которых я являюсь) превращается в модель внешнего «отстраненного» наблюдения, объектом которого становится не он сам, а дистанцированный от него субъект.
Возникает парадоксальная ситуация: Н.В. Гоголь уверен, что смотрит в себя, но видит в-себе-другого, того, кем он в действительности не является. На момент создания первой редакции «Портрета» (1835 г), это нравственное противоречие писатель разрешить не в состоянии. Он вынужден действовать по правилам навязанной ему игры, в которой Свет и Тьма не-
отделимы друг от друга. Более того, то, что кажется Н.В. Гоголю «добром-светом-(даром Божьим)-в-себе» представляется «злом-ненависть-тьмой-(демонической игрой)-в-другом», который на самом деле является его симулятивной копией.
Закономерным результатом описанных выше псевдоконструктивных, игровых процессов (поиска «себя-в-себе» / «другого-в-другом» в череде перманентно возникающих, исчезающих, неуловимых «переходов» Тьмы в Свет и Света в Тьму) становится иллюзия того, что художник, вынужденный балансировать на грани, рано или поздно делается «заложником» «своего» дара и не в состоянии противостоять демоническим силам («демонам-в-себе»), Соответственно, в «Портрете» (1835 г.) доминирующим источником творческого дара художника становится Дьявол. Вот поэтому он сам и получает имя Черш(кова), т.е. человека, «отмеченного» темной силой. Здесь невольно вспоминается «черная метка» К. Кинчева, получение которой «клеймит» душу художника, заставляя ее служить демоническим силам «рока»: «Чуткий час времени “Ч”, / Звезд парча на моем плече, / В чарах порчи лечу в луче, / Моя черная метка - Rock. / Звездам ночь, свет Отцу, / Пыль дорог моему лицу. / До конца танцевать к концу, / Моя черная метка - Rock. / Если ты знаешь, как жить, / Рискни ответить мне, / Кто мог бы стать твоим проводником в небо?..» [Кинчев 1993, 144].
В этих условиях творчество («божественный» дар) и воплощенный в нем «креативный субъект» Черткова-Гоголя (соответственно, эксперимен-татора-бунтаря-Кинчева) становится всего лишь симуляцией истинного искусства, специфической деструктивной формой демонической игры в искусство, экстатическим пределом которой является внутренняя духовная опустошенность («немота», «слепота», «глухота») так называемого художника-«Творца». «Лукавый поводырь», проникая в душу человека, стремится «оставить свой след» на всем, к чему прикасается идущий по его следу псевдотворец.
В каждом движении его кисти, в каждом написанном слове, сыгранной ноте ощущается незримое проявление воли «мастера»-поводыря-Дьявола, и цена такого искусства предопределена: «Дорогу выбрал каждый из нас, / Я тоже брал по себе. / Я сердце выблевывал в унитаз, / Я продавал душу траве. / Чертей, как братьев, лизал в засос, / Ведьмам вопил: “Ко мне!” / Какое тут солнце? Какой Христос?! / Когда кончаешь на суке-луне! / Костер, как плата за бенефис, / И швейцары здесь не просят на чай. / Хочешь, просто стой, а нет сил - молись! / Чего желал, то получай! / Вино - как порох, любовь - как яд, / В глазах слепой от рождения свет. / Душа - это птица, ее едят, / Мою жуют уже почти сорок лет» [Кинчев 1993, 117].
При этом основной вопрос, который ставит перед собой Н.В. Гоголь в первой редакции «Портрета», так и остается не решенным. До тех пор, пока писатель остается во власти демонических иллюзий ложного само-обожествления, он не в состоянии преодолеть искусственно созданную им самим «границу» между «внешним» и «внутренним» противостоянием Света и Тьмы. Иными словами, у него отсутствует четкая этическая ори- ентация, мешающая прорваться к свету истинного творчества.
Нечто подобное происходит и в сознании К. Кинчева, который воспринимает «свое» движение к Свету как опыт противоестественного, духовно-деструктивного, когнитивно-ментального самоотрицания, самоотстранения от себя, от Бога, от Истины. Важно, что ощущение это постепенно перерастает в непреодолимое чувство метафизической обреченности, которое воспринимается поэтом как нечто естественно-органическое.
Итак, можно подвести итоги. Мы определили, что К. Кинчев так же, как и Н.В. Гоголь, выстраивает линию своего творческого пути к пониманию сущности искусства как особого типа со-творчества и, соответственно, к постижению смысла существования по одной и той же схеме. В ее основе лежит принцип моделирования КПП логоцентрического типа, отвечающей этической трансформации от «дьявольского» (инфернального) к Божественному (истинному).
Наиболее ярко ситуация взаимодействия когнитивно-прагматических и этических программ Н.В. Гоголя и К. Кинчева воплощается в повести Н.В. Гоголя «Портрет», которая ценна тем, что оба варианта (1835 и 1842 гг.) демонстрируют духовно-нравственную эволюцию, этическую динамику взглядов, которую проходит на своем пути каждый художник, ищущий подлинного творчества.
В этом смысле «Портрет» можно воспринимать как фундаментальную этико-эстетическую парадигму любого творчества, которое, чтобы стать истинным, с необходимостью должно претерпеть порой мучительную этическую трансформацию от служения своему ложному самобожествле-нию до подлинного служения непреходящим ценностям, воплощенных в триединстве Истины, Добра и Красоты.
Список литературы "Портрет" Н.В. Гоголя как этический код творчества для К. Кинчева
- Барановская Н. Константин Кинчев. Жизнь и творчество. Стихи. Документы. Публикации. СПб.: Новый Геликон, 1993. 239 с.
- Башлачев А. Черные дыры // Наумов Л. Александр Башлачев. Человек поющий. СПб.: Амфора, 2010. С. 68-70.
- Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу. М.: Современник, 1988. 651 с.
- Волоконская Т.А. Мотив странных превращений в «Портрете» Н.В. Гоголя: на материале двух редакций повести // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2014. № 3 (31). С. 118-125.
- Галяткина Е.Н. Текстологический анализ двух редакций повести Н.В. Гоголя «Портрет» // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 2017. № 3 (79). С. 10-22.
- Зеньковский В.В. История русской философии. М.: Академический проект, 2001. 880 с.
- Иванов Д.И. Синтетическая языковая личность в русской рок-культуре: генезис, типология, структура, межкультурные связи. Иваново: ПресСто, 2016. 384 с.
- Иванов Д.И. Теория синтетической языковой личности: в 2 т. / Гуандунский ун-т междунар. исследований (Китай), Guangdong University of Foreign Studies (People's Republic of China). Т. 1. Логоцентрическая модель синтетической языковой личности: структура и общие вопросы (на материале русской рок-культуры). Иваново: ПресСто, 2017. 360 с.
- Кинчев К. Душа. 2003. URL: https://www.gl5.ru/alisa-dusha.html (дата обращения: 18.09.2020).
- (а) Кинчев К. Бойся, проси и верь. 2005. URL: https://www.gl5.ru/alisa-bojsya-prosi-i-ver.html (дата обращения: 18.09.2020).
- (b) Кинчев К. Моя война. 2005. URL: https://www.gl5.ru/alisa-moya-vojna. html (дата обращения: 18.09.2020).
- Мордовченко Н.И. Гоголь в работе над «Портретом» // Ученые записки Ленинградского государственного университета. Серия филологических наук. 1939. Вып. 4. С. 97-124.
- Святополк-Мирский Д.П. История русской литературы с древнейших времен. М.: Эксмо, 2008. 873 с.
- Терц А. В тени Гоголя. М.: Колибри, 2009. 514 с.
- Шевченко Н.М. Особенности языкового портрета // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2014. № 2. С. 33-39.
- Юдина Н.В., Кузнецова Е.А. Языковой портрет современного финансиста. М.: Финансовый университет, 2016. 280 с.