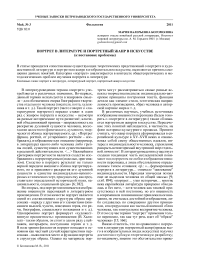Портрет в литературе и портретный жанр в искусстве (к постановке проблемы)
Автор: Богомолова Мария Валерьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (116), 2011 года.
Бесплатный доступ
Портрет в литературе, литературный портрет, портретный жанр в искусстве
Короткий адрес: https://sciup.org/14749901
IDR: 14749901
Текст статьи Портрет в литературе и портретный жанр в искусстве (к постановке проблемы)
В литературоведении термин «портрет» употребляется в различных значениях. Во-первых, данный термин используется в жанровом смысле – для обозначения очерка биографии и творчества отдельного человека (писателя, поэта, художника и т. д.). Такой портрет (часто говорят о «литературном портрете») нередко ставят в один ряд с жанром портрета в искусстве – несмотря на разные исторические пути развития1; ключевой объединяющий признак – направленность на раскрытие духовной сущности человека, воссоздание целостного (физического, духовного, творческого) облика портретируемого, ср.: «Портр е т (франц. portrait, от устаревшего portraire – изображать), изображение или описание (например, в литературе) какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности. <…> Важнейшим критерием портретности является сходство изображения с портретируемым (моделью, оригиналом). Сходство в портрете результат не только верной передачи внешнего облика портретируемого, но и правдивого раскрытия его духовной сущности в единстве индивидуально-неповторимых и типических черт, присущих ему как представителю определенной исторической эпохи, национальности, социальной среды» [6; 382].
Во-вторых, под портретом понимается изображение внешности персонажей в литературном произведении. В этом качестве портрет является одной из составляющих структуры образа персонажа – наряду с другими его элементами (описанием мыслей, чувств, поведения героя, его речи, биографии, социального положения и т. д.). Одновременно портрет формирует «художественную предметность» произведения (В. Хали-зев) – таким образом, он стоит в одном ряду с пейзажем, интерьером, поступками героев и т. д. В поле зрения филологов портрет попадает в основном как частный случай характеристики персонажа – выявляются место и функции портрета в структуре образа. Однако на материале пор- трета могут рассматриваться самые разные аспекты творчества писателя: индивидуально-авторские принципы построения текста, функции детали как элемент стиля, эстетическая направленность произведения, образ человека в авторской картине мира и т. д.
В различных научных, учебных источниках изображение внешности персонажа (будем говорить о «портрете в литературе») также сближается портретным жанром в искусстве. Пересечение этих понятий наблюдается, в частности, на фоне историко-культурного процесса. Принято считать, что жанр портрета сформировался в европейской культуре в XV–XVII веках и ознаменовал собой смену общественных идеалов, интерес к индивидуальности человека, стремление раскрыть неповторимый внутренний мир отдельной личности2. В литературоведении существует сходная тенденция: часть исследователей понимают под портретом не любое изображение внешности персонажа, а лишь обусловленное определенным типом сознания; ср.: «…формирование портрета в литературе… означало “завоевание” индивидуальности. Народная эпическая поэзия еще не выделяла человека из общей массы» [9; стлб. 894]; «портрет… узко историчен… многие века европейская литература прекрасно обходилась и без него, – хотя человек как таковой присутствовал в ней постоянно, но его внешность в современном понимании не привлекала ее внимания, не считалась достойной изображения, либо создавалась по совершенно другим принципам, игнорирующим как частный внешний облик человека, так и визуальное восприятие человека. В этом случае термин “портрет” применим только переносно, так как тут речь идет об “образе” человека» [15; 166].
Важно отметить, что по сравнению с портретом в литературе портретный жанр (прежде всего в изобразительных видах искусства) получил достаточно глубокую теоретическую разработку; по-видимому, именно это обстоятельство приве- ло к тому, что во многих работах литературоведов, направленных на анализ внешности персонажей, отразились представления о портретном жанре в искусстве.
В частности, в литературоведении встречаются следующие определения искусствоведов: «Портр е т (франц. portrait, от устаревшего port-raire – изображать), изображение или описание (например, в литературе) какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности» [6; 382]; «Портрет в искусстве – образ реального человека, воплощенный средствами того или иного вида художественного творчества с целью запечатлеть именно этого человека» [7; 16]; «портрет – синтез духовной сущности данного человека в художественно интерпретированном образе, оформ ленном средствами искусства» [4; 192]; «на портрете изображается внешний облик (а через него и внутренний мир) конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего в настоящем человека» [2; 129]; «портрет – это равнодействующая трех моментов: это лицо картины, в котором отражаются личность модели и личность художника, создавая особый новый лик» [5; 51] и т. п.
Кроме того, рассматривая портретный жанр как отражение определенного типа сознания, особого мироощущения, исследователи могут не проводить четких границ между разными объектами изображения, одинаково воплощающих мировидение художника. Так, Н. Тарабукин, рассматривая портрет как определенное состояние сознания3, не связывает портретный жанр исключительно с изображением человека: «…если изображая природу, художник в ней раскроет себя, то тем самым он создаст портрет природы. Пейзаж Коро тому убедительное доказательство» [14; 176]. Если же на портрете изображается человек, но при этом «воспринимается как внеположный воспринимающему “я” объект, то художник создает произведение не портретного, а какого-либо другого стиля. Лицо превращается в таком случае в иллюзионистическую маску или снижается до натуралистической копии» [14; 177]. «Портретное» мироощущение Н. Тара-укин связывает с конкретными стилистическими приемами [14; 191–193], в результате на первый план выступает проблема стиля художника, а изображение облика человека на картине рассматривается как вариант (правда, основной) реализации данного стиля.
Подобная тенденция встречается и в литературоведении. Например, Е. Тагер, рассматривая портрет как одно из проявлений общего индивидуально-авторского стиля, не видит основания выделять его в отдельный объект анализа: «Своеобразие портретов Пушкина и Горького… восходит не к особенностям характеров, запечатлен- ных в соответствующих портретных приметах, а к особенностям художественного “зрения”, к разным способам “видеть” человека. И так же, как проблема портретной характеристики является частью более общей проблемы истолкования образа в целом, так и проблема различных методов портретного изображения входит в более широкую проблему “описания” вообще. Разным писателям присущи разные принципы живописно-пластического видения мира, и эти принципы в равной мере сказываются в изображении природы, вещной обстановки, т. е. во всей изобразительно-описательной сфере словесного искусства… портрет как изображение внешности персонажа вряд ли заслуживает самостоятельного, изолированного изучения. Речь может идти либо об истолковании определенного образа, и тогда описание внешности привлекается в качестве одного из многих выразительных моментов, из которых складывается представление о характере человека, либо о своеобразии описательной манеры автора, его изобразительного стиля, и тогда грани между “портретом”, “пейзажем”, “интерьером”, по существу, стираются» [13; 378]. Более того, исследователь отмечает неадекватность самого термина «портрет» применительно к изображению внешности персонажа: «…слово “портрет” в указанном значении – термин весьма неточный и условный. Прямой аналогии с портретом живописным и скульптурным здесь нет. Ведь изображение внешности не является прерогативой именно портретного жанра; в любом жанре изобразительных искусств человек не может быть показан иначе, как через его внешность. Точнее было бы говорить о словесной “пластике” или “живописи” применительно к изображению человека» [13; 378–379]. Слову «портрет» находится более подходящее применение: «…в литературоведении термин “портрет” употребляется и в другом смысле, гораздо теснее связанном со спецификой собственно портретного искусства. <…> Портрет – это прежде всего изображение конкретного лица, не вымышленного образа, созданного воображением художника, а единичной, “именованной” личности» [13; 379]. Смещая акцент с портрета как изображения внешности персонажа на портрет как очерк биографии и творчества реального человека, Е. Тагер разрабатывает определение: «…образу, широко обобщенному, созданному лишь воображением, противопоставлен не просто сколок с натуры, а образ, построенный на живых и единичных приметах отдельной личности (курсив наш. – М. Б.)» [13; 380] («живые и единичные приметы» здесь не только наружность, но любые «устойчивые черты изображаемой личности»). Как подчеркивает Е. Тагер, главный признак такого портрета (в соответствии с общим представлением о классическом портрете в искусстве) – интерес к индивидуальному в человеке. Сходные размышления на тему портретного жанра можно встретить во многих литературоведческих работах, направленных на изучение портрета как изображения внешности персонажей.
Очевидно, что сложившиеся в искусствоведении представления о портретном жанре оказывают существенное и не всегда благотворное влияние на проблему изучения словесного портрета в литературоведении; из них наиболее явно сказались следующие.
-
1. Портрет – элемент изобразительности, живописности, описательности.
-
2. Портрет – способ раскрытия духовной сущности человека, индивидуальности, неповторимой единичности отдельной личности.
-
3. Портрет – изображение человека.
Однако это лишь одна из многих (причем не самая первостепенная) функций портрета в художественном произведении4.
Данный признак закреплен в представлениях о классическом портрете, но в целом история изображения человека знает множество случаев, когда требования раскрытия индивидуальности, внутреннего мира человека отступали на второй план (например, портреты-типы, отражающие общие представления об идеале) или вообще были «противопоказаны» (например, ритуальные маски, выполняющие защитные функции).
Раскрытие духовного мира человека – также одна из возможных функций портрета в литературе. При этом, в отличие от портретного жанра, диада «модель – художник» (здесь – автор и прототип персонажа) менее актуальна: в художественной литературе образ, создаваемый с помощью портрета, и его прообраз могут отстоять друг от друга весьма далеко.
В истории культуры имеется множество случаев, когда изображение человека не обязательно подразумевает собственно человека. В этом ряду выделяются явления антропоморфизации, персонификации, отсылающие к «архетипическим способам осознания универсума» и служащие «одной из форм уподобления – неотъемлемого свойства человеческой психики и мышления» [12; 138–139]. Принимать человеческий облик в этом случае может любой объект – природные явления, мир в целом, абстрактные понятия, ценностные категории и т. д.
Такому виду «освоения» мира искусство конца XIX – начала ХХ века противопоставило множество работ, в которых портрет в первую очередь становился средством выражения внутреннего состояния художника, его мироощущения. В этом случае личность автора подчиняет себе требования портретного жанра, ср.: «…сама живописная материя как бы выступала носительницей личностной характеристики. Прежде всего “удары цвета” интересовали Ван Гога в его поздних автопортретах, через цвет раскрывавших состояние духа. Для его передачи не всегда нужно было даже изображать себя» [12; 145–146].
Очевидно, что в исторической перспективе развитие портрета (и, шире, человеческого изображения) шло по пути колоссальных трансформаций его форм и функций (мемориальных, ма-гически-ритуальных, идеологических, декоративных и т. д.). Это движение отражает длительную эволюцию человеческого сознания, указывая на общее стремление стереть границы между миром человека и миром не-человека5. Однако если в первом случае, при антропоморфизации, знáком отсутствия границ становится внешность человека (контакт устанавливается на уровне общих внешних признаков, при этом распознать, изображен в человеческом образе человек или не-чело-век, иногда затруднительно: все персонифицируется и антропоморфизируется), то в случае, например, с Ван Гогом художник отталкивается от внешности, использует зрительный образ для раскрытия собственного мироощущения; контакт с миром устанавливается на уровне внутреннего чувства или знания.
При этом существуют примеры, когда портрет вбирает оба указанных полюса, отражая одновременно как архаическое, так и индивидуально-авторское начала. В литературе данное явление характерно, например, для творчества Андрея Платонова. Так, в следующем фрагменте: «Захар Павлович заметил не столько утро, сколько смену работников – дождь уснул в почве, его заместило солнце; от солнца же поднялась суета ветра, взъерошились деревья, забормотали травы и кустарники, и даже сам дождь, не отдохнув, снова вставал на ноги, разбуженный щекочущей теплотой, и собирал свое тело в облака» [11; 28], – автор создает «портрет» дождя, наделяя его антропоморфными признаками. При этом в описании природного явления отражено представление о непрерывности процессов, взаимопревращении разных форм материи, а также имплицирована идея освоения мира, макрокосма через микрокосм без вмешательства в существующий миропорядок.
В данной статье затронуты лишь отдельные аспекты проблемы портрета, но даже эти наблюдения убеждают в масштабности и сложности теоретических задач. В целом можно отметить, что сложившиеся на сегодняшний день в теории литературы представления о портрете как изображении внешности персонажа дают лишь самые общие ориентиры для работы филологов, далеко не всегда обеспечивающие необходимый теоретический фон. Очевидна необходимость не только обобщения и систематизации накопленного в литературоведении опыта, но и дальнейшей разработки методологических основ изучения портрета.
Список литературы Портрет в литературе и портретный жанр в искусстве (к постановке проблемы)
- Алпатов М. Очерки по истории портрета. М.; Л.: Искусство, 1937. 60 с.
- Басин Е. Я. К определению жанра портрета//Советское искусствознание. М., 1986. Вып. 20. С. 175-195.
- Басин Е. Статьи об искусстве. М., 2010. 200 с.
- Домогацкий В. Н. Теоретические работы. Исследования, статьи. Письма художника. М.: Сов. художник, 1984. 386 с.
- Жинкин Н. И. Портретные формы//Искусство портрета: Сб. ст. М., 1928. С. 7-53.
- Зингер Л. Портрет//Большая советская энциклопедия: В 30 т. Т. 20. М.: Сов. Энциклопедия, 1975. С. 382-386.
- Зингер Л. К определению портрета//Творчество. М., 1980. № 10. С. 15-16.
- Касьянова Д. Литературный портрет в России//Ростовская электронная газета. № 22 (76). 2001. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.relga.sfedu.ru/n76/litved76.htm
- Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. Т. 5. М.: Сов. Энциклопедия, 1968. 976 стлб.
- Лотман Ю. М. Портрет//Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб.: Академический проект, 2002. С. 349-375.
- Платонов А. П. Чевенгур: Роман/Сост., вступ. ст., коммент. Е. А. Яблокова. М.: Высш. шк., 1991. 654 с.
- Свирида И. И. Человек -не-человек в искусстве (о границах бытия)//Миф в культуре: человек -не-человек/Ред. Л. А. Софронова, Л. Н. Титова. М.: Индрик, 2000. С. 138-149.
- Тагер Е. Б. Жанр литературного портрета в творчестве Горького//О художественном мастерстве Горького. М.: АН СССР, 1960. С. 375-418.
- Тарабукин Н. М. Портрет как проблема стиля//Искусство портрета: Сб. ст. М., 1928. С. 159-193.
- Фарино Е. Введение в литературоведение: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. 639 с.