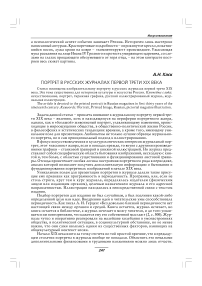Портрет в русских журналах первой трети XIX века
Автор: Каск Анна Николаевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Искусствознание
Статья в выпуске: 2 (28), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изобразительному портрету в русских журналах первой трети XIX века. Эта тема существенна для историков культуры и искусства России.
Искусствознание, портрет, тиражная графика, русский иллюстрированный журнал, журнальная иллюстрация
Короткий адрес: https://sciup.org/14488753
IDR: 14488753
Текст научной статьи Портрет в русских журналах первой трети XIX века
ПОРТРЕТ В РУССКИХ ЖУРНАЛАХ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА
Статья посвящена изобразительному портрету в русских журналах первой трети XIX века. Эта тема существенна для историков культуры и искусства России. Ключевые слова: искусствознание, портрет, тиражная графика, русский иллюстрированный журнал, журнальная иллюстрация.
The article is devoted to the printed portrait in Russian magazines in first thirty years of the nineteenth century. Keywords: Portrait, Printed Image, Russian, pictorial magazine illustration.
Задача данной статьи – привлечь внимание к журнальному портрету первой трети XIX века – явлению, хоть и находящемуся на периферии портретного жанра, однако, как и «большой» живописный портрет, улавливающему изменения, происходящие в мироощущении общества, в общественно-политической жизни России, в философских и эстетических тенденциях времени, а кроме того, имеющему уникальное поле для презентации. Любопытны не только лучшие образцы журнального портрета, но и сам принципиальный подход к иллюстрированию.
В фокус искусствоведческих и культурологических интересов журнальный портрет, этот «пасынок» жанра, если и попадал прежде, то вкупе с другими произведениями графики – станковой гравюрой и книжной иллюстрацией. Но журнал представляет собой специфическую область бытования изображений, несходную с книгой и, тем более, с областью существования и функционирования листовой гравюры. Отсюда проистекает особая логика построения портретного ряда в периодике, анализ которой позволяет получить дополнительную информацию о бытовании и функционировании портретных изображений в начале XIX века.
Уникальным полем для презентации портретов в журнале делали такие присущие ему признаки как программность и периодичность. Программа, или, если не столь строго, круг тем и курс журнала, определялась издателем (физическим лицом или издающим органом), целевым назначением журнала и его адресной направленностью. Иллюстрации находились в непосредственной связи с текстом издания.
Подбор портретов для издания не был случайным, а был подчинен какой-либо определенной цели или идее. Внедрению идеи в читательские умы способствовала периодичность. Как писал А. И. Герцен: «Без довольно близкой периодичности нет настоящей связи между органом и средой. Книга остается, журнал исчезает, но книга остается в библиотеке, а журнал исчезает в мозгу читателя, и до того усваивается им повторениями, что кажется ему его собственной мыслью» (2, с. 300). Журналы чутко и оперативно реагировали на малейшие колебания в умонастроениях общества, в политической ситуации, в социокультурной обстановке, но не менее важно, что они сами являлись одним из существенных факторов, влияющих на общекультурный контекст эпохи.
Начало XIX века взято за точку отсчета по той простой причине, что в предыдущем столетии портреты в журналы вообще не попадали. Объяснить это немалыми дополнительными финансовыми и трудовыми вложениями можно лишь отчасти.
г
Аллегорические фронтисписы, картинки мод, научная и техническая иллюстрация уже присутствовали в русской периодике XVIII века, но портретов там мы не найдем. Напротив, характерным и распространенным приемом оформления книги уже с начала 1770-х годов является использование портрета, часто в качестве единственного иллюстративного материала. Первое периодическое издание, содержащее портретную графику, появилось лишь в начале девятнадцатого столетия.
Анализируя «портретную ситуацию» в Александровскую эпоху, ученый отмечает, что в это время «на просторах страны могло находиться от одного до десяти миллионов подобных работ (т.е. портретов. – А. К. ), и если ныне не помнить этого, то всякий разговор о портрете в России будет заведомо бессмысленнен. Портрет в таком понимании не “жанр”, а часть жизни и быта» (7, с. 439–440). Представляя себе эту «пропитанность» русского быта портретами, когда «дом без портретов и за дом не считался» (7, с. 439–440), когда ценилась портретная миниатюра, когда набирала силу популярность рукотворных альбомов, где приоритет оставался все за тем же портретом, то, на первый взгляд, кажется удивительным, что гибкая периодика не впитывала эту моду.
Но это удивительно только на первый взгляд, так как журнальный портрет, в отличие от портрета из частной галереи или личного альбома, должен был быть интересен не только близким и знакомым портретируемого, но значительно более широкому кругу лиц. Портреты, которые мы встречаем в журналах, – портреты иного рода. Это изображения личностей исторически знаковых, которые и должны были, по мысли издателей, вызвать интерес у читающей публики.
Идея общественной значимости изображения замечательных людей проникала в русское общество постепенно. Первыми ею загорелись образованные просвещенные люди своего времени, к которым относились и издатели русских журналов. Именно они принимали на себя роль заказчика портретной графики. Их соображениями, вкусом, возможностями диктовался выбор модели или оригинала для воспроизведения. Изображения под их руководством ложились в структуру издания, подчинялись его общему замыслу. Будучи предметом особого беспокойства и отдельных немалых финансовых затрат, введение визуального ряда всегда являлось результатом обдуманного и взвешенного решения. Журналы первой трети XIX века, регулярно публиковавшие портреты, это – «Пантеон российских авторов» (1801– 1802), «Русский Вестник» (1808–1820), «Вестник Европы» (1802–1830), «Журнал императорского человеколюбивого общества» (1817–1826), «Пантеон славных российских мужей» (1816, 1818), «Русский зритель» (1828–1830), «Телескоп» (1831– 1835/36). (Отдельные портретные изображения встречаются и в других изданиях этого периода – таких, как «Благонамеренный» (1818–1826), «Дамский журнал» (1823–1825), « Дух журналов» (1815–1820), «Записки, издаваемые государственным адмиралтейским департаментом» (1807–1825), «Мнемозина» (1824, 1825), «Сибирский вестник» (1818–1825) и некоторых других, но это единичные случаи.)
Нарушая хронологию публикаций, сначала обратимся к самому «нашумевшему» журнальному портрету первой трети XIX века, инициировавшему выпуск отдельного иконографического исследования. Этот портрет – вымышленное изображение Ермака из журнала «Сибирский вестник» (СПб., 1818, ч.1). Известность он приобрел благодаря письму видного деятеля русской культуры А.Н.Оленина (1763–1843) издателю журнала Г.И.Спасскому, которое было опубликовано в 1821 году отдельной брошюрой (6). На основании анализа одеяния изображенной персоны Оленин убедительно показал, что представленный «Сибирским вестником» портрет отнюдь не покорителя Сибири, а скорее «какого-то неизвестного западной Европы рыцаря XV или начала XVI века». Разбирая фасон головного убора и отложного воротничка модели, Оленин отмечает, что казаки никогда ничего подобного не носили, более того, «сей убор вовсе Ермаку (Василию Тимофеевичу) неприличен, равно как и латы, представленные на сем мнимом его портрете» (6).
Такой подход к иллюстрированию, когда публике предлагается гипотетическое воспроизведение облика, мы встречаем и в первом отечественном журнале, иллюстрированном портретами, – «Пантеоне российских авторов» . Его открывают вымышленные изображения Бояна – «древнейшего русского поэта» и Нестора-летописца. Издатель «Пантеона российских авторов» П. П. Бекетов ставил перед собой задачу – «изъявить усердие ко славе Русских Писателей», для чего задумал ознакомить публику с их изображениями и биографиями.
Бекетов одним из первых стал интересоваться иконографией русских деятелей. Много лет собирая живописные портреты, гравюры и рисунки с изображениями замечательных личностей, он скопил богатый иконографический материал. Чтобы иметь возможность его опубликовать, Бекетов организовал школу граверов из крепостных. Портретных гравюр, принадлежащих «школе Бекетова», выполненных «черной» манерой насчитывается около 300. В этих своеобразных образцах печатной графики начала века проявляется сочетание профессиональных навыков и народного мышления (4). Многие произведения несут черты лубочности, к чему вряд ли стремился издатель. В меньшей степени упрощенный схематизм коснулся первых портретов, двадцать из которых, составили четыре тетради иллюстрированного журнала «Пантеон российских авторов» . Среди них – изображения В. Н. Татищева, В. К. Третьяковского, М. В. Ломоносова и другие.
Журнал, на создание которого было затрачено много усилий и средств, был встречен российской публикой с равнодушием. Достаточного числа подписчиков не нашлось, и выпуск прекратился на четвертом номере. Не имело успеха и следующее издание Бекетова «Собрание портретов россиян, знаменитых по своим деяниям воинским и гражданским, по учености, сочинениям, дарованиям, <…> с приложением их кратких жизнеописаний» (1821–1824).
Возможно, упомянутые особенности стиля гравюр стали причиной неудач этих издательских предприятий Бекетова, однако более вероятно, что в своей массе даже образованная часть русской публики не сразу стала воспринимать «чужие» изображения как важную для себя эстетическую и иконографическую информацию, тогда как желание обладать своим собственным изображением и изображениями близких было налицо.
На средства Бекетова печатались и первые книжки «Русского Вестника» , следующего русского журнала содержащего портретную графику. Основатель и идеолог этого издания писатель, переводчик Сергей Николаевич Глинка (1776–1847) посвятил свой журнал борьбе с французским влиянием. В канун надвигающейся войны он был воодушевлен патриотической целью: «возбуждением духа народного». Популяризируя русскую историю, Глинка помещал в своем журнале портреты исторических лиц: Н. К. Нарышкиной, Н. Зотова, А. А. Матвеева и др. В период, когда в российском высшем обществе царила атмосфера антифранцузских настроений и русского патриотизма, журнал Глинки органично вливался в нее и активно подпитывал.
Выбор живописных и других источников изображений исторических личностей, чью важную роль в истории России стремились донести до современников издатели книг и журналов, был ограничен. Не случайно гравюры, восходящие к одним и тем же оригиналам, мы встречаем из издания в издание. Например, на многочисленных портретах Натальи Кирилловны, урождённой Нарышкиной (1651–1694), мать Петра Великого предстает молодой вдовой в темном меховом уборе и такой же темной накидке со спокойно скрещенными на груди руками. Таково ее изображение на резцовой гравюре из книги Ф. О. Туманского «Полное описание деяний… Петра Великого» (СПб., 1788, ч. 1), на гравюре пунктиром в пышном «резцовом» обрамлении из «Краткого исторического и хронологического описания жизни и деяний великих князей Российских, царей, императоров и их пресветлейших супруг и детей…» Е. Филиповского (М., 1810, ч.3), а также на иллюстрациях из журнала
«Русский вестник» , где портрет Наталии Кирилловны помещался дважды – в 1808 и 1810 годах (см.: Русский вестник, 1808, №12 (портрет пунктиром заключен в прямоугольную рамку, гравированную резцом, под рамкой гравированная надпись: «Одежды швейныя своими руками раздавала бедным»); Русский вестник, 1810, №11 (портрет в овале, пунктир)). При этом лица на этих журнальных портретах так непохожи, будто перед нами две разные женщины. Следовательно, по крайней мере, в одном случае отсутствие сходства с оригиналом не повлияло на решение издателя опубликовать портрет.
В 1808 году один из самых примечательных и многотиражных изданий Александровской эпохи – журнал «Вестник Европы» (в начале XIX века около 2 тыс. экземпляров, для сравнения «Русский вестник» – 600 экз.) выходил с гравированными титульными листами, объединяющими под собой четыре номера. В центре титульного листа, в круге, располагался миниатюрный портрет, выполненный мастером А.Касаткиным в технике резцовой гравюры или пунктиром. Согласно тематике и направленности журнала это были изображения замечательных деятелей Европы: М. Аврелия, И. К. Лафатера, М. Парка, И. Канта, Ф. Г. Клопштока и И. В. Гете. Сам факт публикации портрета в издании еще раз показывает, какие личности занимали умы читающей аудитории в то время или какие фигуры вводились издателями в орбиту общественного интереса.
Портрет не являлся самым распространенным видом иллюстраций в журнале «Вестник Европы» . Тем не менее издание через портреты «представляло» читателям своих героев – европейских мыслителей, художников, музыкантов: Ф. Бэкона, Р. Декарта, Д. Локка, Рафаэля, Микеланджело, П. Рубенса, Д. А. Россини и пр.
Программа «Пантеона славных российских мужей» очевидна уже из самого названия журнала. Следуя ему, издатели журнала – А. Ф. Кропотов и П. П. Свинь-ин – знакомили своих читателей с изображениями Ермака, К. Минина и Д. М. Пожарского, графа А. П. Орлова-Чесменского, патриархов Филарета и Гермогена, А. С. Матвеева, П. А. Румянцева и др.
Идея нравственного долга помощи бедным являлась основополагающей для «Журнала императорского человеколюбивого общества» (1817–1826), до 1877 года единственного в русской периодике издания, посвященного благотворительности. Подвижники милосердия, филантропы, бескорыстные служители «делу человеколюбия» становились героями издания. При этом круг лиц отнюдь не ограничивался отечественными деятелями. Гравюры из этого журнала разнородны по технике воспроизведения и по художественному качеству. Примером замечательной, тонко выполненной иллюстрации является литографированный портрет Осипа Петровича Козодавлева (1745–1819) – писателя и государственного деятеля (3).
Характеризуя в целом портретный жанр в журнальной иллюстрации первой трети XIX века, следует еще раз отметить: требования к журнальному портрету были сфокусированы на достоинствах модели. Издатели вводят в общественный обиход портреты, исходя из значительности портретируемого вообще и важности упоминания данной личности для конкретного журнала в частности. При этом несхожесть черт лица на гравюре и оригинале, как в случае с изображением Наталии Кирилловны в «Русском вестнике» , не является поводом для отмены публикации портрета, а в исключительных случаях допускались и вымышленные изображения. Объясняется это просто. Публикация иллюстрации это еще один, очень действенный, метод привлечения внимания к персоне. А именно этого в первую очередь и добивались издатели. Изображение героя было призвано дать памяти читателя визуальную опору. Апелляция к иконографической важности изображений уместна тогда, когда такое документально точное изображение наличествует. В представлении героев-моделей состоит одна из важнейших функций портретного искусства в целом (см. например: 1), и в периодике рассматриваемого периода она четко выражена. При этом каждый журнал актуализовал, согласно идее издания, своих собственных героев.
Только в 1860–1870-е годы классические дворянские портретные галереи были потеснены портретными галереями нового типа, где главное место отводилось не фамильным портретам, а изображениям духовных лидеров поколения, героев эпохи, «лучших людей». Подобные галереи, как отмечает Т.Л.Карпова, отражали духовный мир личности коллекционера: «Собиратель галереи второй половины XIX века назвал бы ее: “Я и мои исторические предки”, “Я и мои духовные отцы”. Подобного рода портретная галерея приобретала неповторимый авторский характер. Личная история человека и история его рода включались в контекст мировой истории и культуры. Личность ищет и обретает “отцов” в истории человечества, значение духовных связей утверждается над родовыми» (5, с. 70). Эта концепция построения портретных галерей близка к изначально принятой практике формирования портретного ряда в журналах. Нечто похожее наблюдалось в периодике уже в начале девятнадцатого столетия, так как портретная галерея журнала всегда поддерживала общую линию издания, а линия частного издания являлась «авторской» изначально.
Список литературы Портрет в русских журналах первой трети XIX века
- Алферова Н. В. Функции портрета в русской культуре: автореф.... канд. культурологии/Н. В. Алферова. -СПб., 2006.
- Герцен А. И. Собрание сочинений/А. И. Герцен. -М., 1957. -Т. 11.
- Журнал Императорского человеколюбивого общества. -СПб.: Тип. Импер. воспит. дома, 1820. -Ч. 11.
- Иткина Е. И. Лубок и профессиональное искусство. Портретная серия гравюр П.П. Бекетова 1820-х годов/Е. И. Иткина//Забелинские научные чтения -1998. -М., 1999. -С. 52-67.
- Карпова Т. Л. Смысл лица. Русский портрет второй половины XIX века. Опыт самопознания личности/Т. Л. Карпова. -СПб., 2000.
- Письмо о портрете Ермака, завоевателя Сибири, от А.О. к Господину Издателю Сибирского Вестника/А. Н. Оленин. -СПб., 1821.
- Турчин В. С. Александр I и неоклассицизм в России/В. С. Турчин. -М., 2001. -С.439-440.