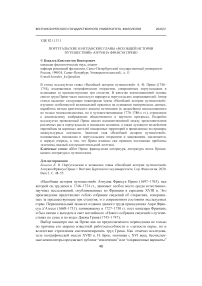Португальские и испанские главы «Всеобщей истории путешествий» Антуана Франсуа Прево
Автор: Ковалев К. В.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются главы «Всеобщей истории путешествий» А. Ф. Прево (17461754), посвященные географическим открытиям, совершенным португальцами и испанцами за предшествующие три столетия. В качестве композиционной основы своего труда Прево часто использует маршруты португальских мореплавателей. Автор статьи выделяет следующие новаторские черты «Всеобщей истории путешествий»: изучение особенностей колониальной практики на основании эмпирических данных, выработка метода критического анализа источников (в дальнейшем использованного не только энциклопедистами, но и путешественниками 1770-1780-х гг.), стремление к комплексному изображению общественного и научного прогресса. Подробно исследуется проведенный Прево анализ взаимоотношений между представителями различных рас в португальских и испанских колониях, а также духовного воздействия европейцев на коренных жителей покоренных территорий и приведенные им примеры межкультурных контактов. Значение глав «Всеобщей истории путешествий», посвященных испанским и португальским открытиям и завоеваниям, заключается, в первую очередь, в том, что Прево изменил сам принцип постановки проблемы экзотизма, важный для просветительской эстетики.
Аббат прево, французская литература, литература эпохи просвещения, литература о путешествиях
Короткий адрес: https://sciup.org/148317741
IDR: 148317741 | УДК: 821.133.1
Текст научной статьи Португальские и испанские главы «Всеобщей истории путешествий» Антуана Франсуа Прево
Ковалев К. В. Португальские и испанские главы «Всеобщей истории путешествий» Антуана Франсуа Прево // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 2. С. 48–55.
«Всеобщая история путешествий» Антуана Франсуа Прево (1697–1763), над которой он трудился в 1746–1754 гг., занимает особое место среди естественнонаучных исследований, опубликованных во Франции в середине XVIII в. Это произведение представляет собою собрание сведений об открытиях, совершенных за предшествующие три столетия, и о современном состоянии исследуемых стран. Первоначальный замысел издания данного труда принадлежал Анри Франсуа д’Агессо (1668–1751), занимавшему в 1727–1750 гг. пост канцлера Франции, и был связан с выходом в свет английского «Нового собрания сведений о путешествиях по суше и по воде» Джона Грина (1745–1747).
Выбор канцлера пал на Прево как на предполагаемого переводчика не только по причине его широко известной работоспособности и «легкости пера», но и вследствие стремления систематизировать труд Грина. Как отмечал исследователь географической мысли XVIII в. Н. Брок, «начиная с XVI века, бесчисленные компиляторы предлагают публике “извлечения” или “сокращенные варианты”
книг о путешествиях. Однако читатель XVIII столетия, желающий просветиться или развлечься без лишних усилий, оказался бы не в состоянии прочесть эти старинные сборники... Именно этой (познавательной и развлекательной. — К. К. ) цели отвечает масштабная “Всеобщая история путешествий” аббата Прево, публикация которой начинается в 1746 г.» [9, р. 258].
Таким образом, можно выделить еще одну, вероятно, самую важную причину того, почему Прево стал переводчиком, а с восьмого тома — и самостоятельным автором «Всеобщей истории путешествий», — это широко известная способность новаторски подойти к любому явлению художественной или научнопопулярной литературы.
Самой жанровой природе отчетов о путешествиях присуща новизна как содержания, так и художественных способов его передачи. «Нет науки о путешествиях: авторитеты, начиная от Аристотеля, молчат; путешествия не попали под ферулу риторики, и писатель свободен пробираться в недра гор, или опускаться в глубину океанов, с ученою пытливостью или, пожалуй, на крыльях вдохновения скользить по ним быстро и ловить мимоходом на бумагу их образы» [2, с. 12]
В первой половине XVIII в. субъективное присутствие автора в отчете о путешествии было еще более отчетливым. По мнению Н. Брока, в эпоху Прево жанр путешествия был скорее подлинным дневником, «документом сегодняшнего дня», чем научно-исследовательским трудом с характерными для него остранением от описываемых явлений и отсутствием оценочных характеристик обытий [9, р. 4].
Новаторство Прево во «Всеобщей истории путешествий» заключается, в первую очередь, в объективировании материала, которым он пользовался. Однако его стремление представить впечатления различных путешественников об одном и том же географическом пункте, но при этом иногда разделенные несколькими десятилетиями, часто приводило к механическому соединению их отчетов. Результатом, как отмечал в предисловии ко второму изданию «Всеобщей истории путешествий» ее редактор Франсуа Лагарп, стало «общее смешение фактов, эпох и действующих лиц» [12, vol. I, р. VII].
Данное обстоятельство всполне закономерно вытекает из художественных принципов Прево, сложившихся к середине 1730-х гг. По словам М. В. Разумовской, автор «Всеобщей истории путешествий» — «не романист настоящего. И хотя его рассказчик, вспоминая прошлое, воскрешает в памяти былые жизненные страдания, волнения, страсти, автор не ограничивается этим. Он стремится отразить в романе объективную истину. С этой целью он вводит в роман дополнительные свидетельства, поясняющие и уточняющие наблюдения рассказчика» [6, с. 78].
Таким образом, упрек Лагарпа подтверждает тезис о художественном единстве «Всеобщей истории путешествий» и романов Прево 1730-х гг.: в научнопопулярном сочинении он продолжает апеллировать к индивидуальному восприятию читателя, предоставляя ему возможность самостоятельно выбирать нужную для себя информацию. Критическое отношение Лагарпа, выпустившего в свет «Сокращенную всеобщую историю путшествий» (Abrégé de l’histoire générale des voyages) связано с тем, что он увидел во «Всеобщей истории путешествий» повествование, а не работу справочного характера, как позиционировал свой труд Прево. Несомненно, есть основания для того, чтобы сопоставить «Всеобщую историю путешествий» и «Энциклопедию» Дидро и д’Аламбера, так как в обоих изданиях обнаруживается стремление создать целостную картину мира. У энциклопедистов основой этой картины стала философия, у Прево — география и естественная история.
Собранные материалы он располагает в книге не хронологически, а топографически: читатель как бы повторяет путь мореплавателей. Вместе с ними он огибает мыс Доброй надежды, попадает в Индию и в страны Индокитая, затем посещает Китай и Японию. Главы, посвященные Америке и Сибири, Прево написал самостоятельно — после того, как в 1747 г. из Великобритании перестали приходить новые тома «Нового собрания сведений о путешествиях...» Грина. Таким образом, можно обнаружить, что в качестве композиционной основы своего труда Прево использует маршруты португальских (и, в меньшей степени, испанских) мореплавателей, приоритет которых в сфере географических открытий был неоспорим.
Во «Всеобщей истории путешествий» обращает на себя внимание противопоставление испанских и португальских первооткрывателей, не характерное для французской исторической мысли XVIII в. Выделение особенностей колониальной практики двух этих народов в «Персидских письмах» Монтекскье [5, c. 280–281] выглядит как основанное на умозрительной схеме, а не на эмпирических наблюдениях автора.
Отношение Прево к присоединению заморских территорий было традиционным для французских просветителей, т. е. отрицательным. Из того внимания, которое он уделял естественной истории описываемых им стран, видно, что наиболее близкой ему была позиция физиократов. Главная причина колониальных захватов — жажда обогащения определяется им в самом начале повествования именно в связи с португальскими экспедициями в Африку. Золото, по оценке Прево, это «драгоценный и пагубный металл» [12, vol. I, p. 3].
С точки зрения методологии Прево представляет интерес и его восприятие распространенной версии историков о центре португальских исследований — мореходной школе на мысе Сагреш, основанной принцем Генрихом Мореплавателем (1394–1460). Как пишет О. И. Варьяш, «в наше время исследователи склоняются к мысли, что замечательная школа в Сагреше — лишь плот патриотических мечтаний деятелей XVII в., когда предпринималось множество попыток отыскать в прошлом обоснования для величия настоящего и в особенности будущего Португалии» [1, c. 90–91].
Интерес Прево к португальской действительности проявился раньше, в период работы над романом «Мемуары и приключения знатного человека» (Mémoires et aventures de l’homme de qualité, 1728–1731), и вполне вероятно, что он был знаком с легендой о Сагреше. Тем не менее, во «Всеобщей истории путешествий» он ни слова не пишет о существовании мореходной школы, сообщая о принце Генрихе и его увлечениях следующее: «Он сначала изучил то, что жуе было известно в области географии и математики, а затем воспользовался знаниями мавров Феса и Марокко. У них он узнал о берберах, окружающих пустыни, и о тех народах, которые живут на побережье. Из города Тернубал* на мысе Сагреш, где находилась его резиденция, он постоянно устремлял свои взоры на море» [12, vol. I, p. 2]. Следовательно, отношение Перво к историческим фактам было критическим — в своей научной работе он исходил из тех же критериев достоверности, что и энциклопедист де Прад, который десятилетие спустя выделял в качестве ее оснований не только «показания очевидцев», но также письменные памятники и устную традицию (иначе говоря, осмысление и интерпретацию фактов через определенный промежуток времени) [4, c. 24].
Те эпизоды в истории Португалии, в аутентичности которых сомневался Прево, послужили для него косвенным поводом, чтобы внушить недоверие к сомнительным фактам мировой истории в целом. Этот новаторский метод, как отмечала французская исследовательница М. Дюше, был в дальнейшем использован не только энциклопедистами, но и путешественниками 1770–1780-х гг. [10, p. 153], иными словами, «Всеобщая история путешествий» приобрела, помимо познавательного, еще и практико-методологическое значение.
Во «Всеобщей истории путешествий» проявляется и другая характерная особенность просветительского мышления — стремление к комплексному изображению общественного и научного прогресса. Современник Прево Ж. Бюффон в 1749 г. начинает искать «общий принцип, который позволил бы ему объяснить порядок природы и разнообразные сходства, какие наблюдаются между ее объектами» [7, c. 46]. Прево идет несколько дальше, когда говорит о закономерности успеха испанцев и португальцев в их заморских походах. Удача, сопутствовавшая им, была, по мнению автора «Всеобщей истории путешествий», неразрывно связана с развитием европейской техники — например, он упоминает в данном контексте о Бертольде Шварце, которому приписывали изобретение пороха [12, vol. I, p. 59].
Следует отметить, что португальские мореплаватели выглядят в изображении Прево коммерсантами, а не борцами за распространение христианства. Он улавливает их прагматические стремления, в частности, проявившиеся в сфере религии. Инквизиция, учрежденная в Гоа (центре португальского наместничества в Индии), не препятствовала отправлению традиционных местных культов, не стремившихся к прозелитизму, и преследовала мусульман, пропагандировавших свою веру и препятствовавших туземцам переходить в христианство. Торговое соперничество европейских и арабских купцов повлияло и на борьбу за религиозное господство в бассейне Инда (12, vol. V, p. 193–197]. Точка зрения Прево подтверждается современными исследованиями, из которых явствует, что инквизиционный трибунал в Гоа появляется только в 1557 г. — через двадцать лет после учреждения инквизиции в самой Португалии [11, p. 381–385].
Столь же подробно Перво останавливается на взаимоотношениях представителей различных рас в португальских колониях, неоднократно отмечая широту распространения там смешанных браков. «Португальцы не испытывают угрызений совести, превращая в наложниц молодых рабынь, которых они покупают... Если они впоследствии выдают их замуж, то отказываются от права собственности на них, и слово это становится законом» [12, vol. V, p. 188–189]. Кроме того, Прево говорит о том, что в зависимости от колонии, различается также положение детей от таких союзов. Например, в Анголе «количество мулатов очень велико, они испытывают смертельную ненависть к неграм, не делая исключения и для своей матери-негритянки, и все их честолюбие заключается в том, чтобы добиться возможно большего равенства с европейцами [12, vol. III, p. 357]. В этом же разделе он приводит примеры взаимного соперничества мулатов.
В XVI–XVII вв. португальские власти официально противились метисации, но этот процесс происходил весьма интенсивно, в первую очередь, из-за того, что европейские женщины отказывались иммигрировать в африканские колонии с тяжелым климатом [8, c. 199–201]. Вопрос о смешении рас поднят во «Всеобщей истории путешествий» не случайно. Исходя из идеи всеобщего равенства людей, Прево сопоставляет как мотивы поведения различных народов, так и историю самых, казалось бы, далеко стоящих друг от друга стран. По словам М. Дюше, «“История путешествий” — это, вместе с тем, история тех завоеваний, контактов и конфликтов, из которых постепенно рождаются новые империи. Прево становится их хронистом, демонстрируя при этом широту взгляда, которая предвещает появление Вольтера и Рейналя. То, что сегодня называется испанским, французским или английским приоритетом, поочередно им описывается и сопоставляется, раскрывается в процессе рассказа как совокупность исторических фактов. Острое чувство утраченного прошлого и фатального пути империй, романтическое вѝдение истории как превосходного поля для человеческой деятельности, наконец, призвание моралиста — всем этим обосновывается новый принцип обращения с событиями и обстоятельствами, анализируемыми умом просветителя» [10, p. 150–151].
Понимание истории как процесса, развивающегося не только прогрессивно, но и стадиально, проявляется в начале большинства глав «Всеобщей истории путешествий». Говоря о первенстве португальцев и испанцев в открытии различных земель, Прево упоминает и о причинах, которые их заставили уступить свои владения голландцам и англичанам. В отличие от Монтескье, он не противопоставляет методы колонизации, осуществлявшейся Испанией и Португалией, так как приводит примеры как жестокости обоих народов, так и их уважения к туземным традициям — например, сохранения института касиков в американских владениях Испании [12, vol. XIV, p. 280–282]. Прево уделяет внимание духовному воздействию европейцев на коренных жителей покоренных территорий, показывает культурные контакты различных цивилизаций и даже говорит о связи между африканскими племенными мифами и христианской терминологией. «Существуют различные племена негров, — пишет он, — которые исповедуют веру в двух богов. Один из них белого цвета, и они именуют его “Жангу-Мон”, то есть добрый человек. Они смотрят на него, как на бога, покровительствующего европейцам. Другой — черного цвета; по примеру португальцев они называют его демоном, или дьяволом, (в оригинале использованы соответственно португальские слова “demónio” и “diabo”. — K. K. ) и считают весьма злым и вредоносным... Это — особый вариант манихеизма, основанный на соединении понятий Добра и Зла и встречаемый у всех народов» [12, vol. III, p. 153].
Приведенный отрывок можно трактовать двояко. С одной стороны, он показывает как идейное, так и языковое влияние европейцев на африканские народы и позволяет провести параллель с многочисленными примерами заимствований туземных выражений и слов для описаний климатических, ботанических и зоологических реалий, не имеющих аналогов в Европе. С другой стороны, перед нами иллюстация выдвинутого Прево тезиса о сходном развитии различных цивилизаций, проходящих одинаковые фазы.
Прево также иллюстрирует свою мысль примером из области литературы, сравнивая с Вергилием и Гомером Камоэнса, чье творчество было тесно связано с историей географических открытий. При этом он не проводит границ между творческими приемами авторов различных эпох, следуя «Опыту об эпической поэзии» Вольтера (1727). Содержание произведения, по мнению Прево, определяет его форму, поэтому «Камоэнсу следовало для своего сюжета избрать особую манеру письма. Он должен был использовать тот величественный и возвышенный тон, который присущ Гомеру» [12, vol. I, p. 108]. Таким образом, литература развивается по тем же законам, что и общество, доказывает Прево.
С одной стороны, эта идея отражает уже упоминавшееся стремление автора «Всеобщей истории путешествий» постигнуть весь комплекс человеческих интересов и устремлений, а с другой — лишний раз подтверждает, что мысли самого Прево всегда были связаны с областью художественного творчества. В этом отношени «Всеобщая история путешествий» в его писательской деятельности 1740-х гг. играет ту же роль систематизатора сведений о литературе, что и журнал «За и против» (Le Pour et Contre), издававшийся Прево в 1733–1740 гг.
В этом же контексте можно рассматривать размышления Прево о деятельности ордена иезуитов в Парагвае. Для него представляли большую ценность труды члена Ордена Иисуса Ж. Лафито о нравах индейцев и об истории открытия Нового Света. В сочинениях Лафито и испанских иезуитов Прево усматривает этнографический интерес, напрямую не связанный с созданием экзотического мифа о «мудром дикаре», а посвященный эмпирическому изучению общества, стоящего на разных ступенях развития и, вместе с тем, говорит о цивилизующей роли католических миссионеров [12, vol. XIII, p. 341–348].
Однако, следует отметить, что в «американских» главах «Всеобщей истории путешествий» Прево полемизирует с распространившимся к середине XVIII в. представлением о религиозном чувстве как имманентном человеческой природе. «Религия занимает мало места в сознании индейцев, они не имеют представления о божественном начале, ничему не поклоняются, и в их языке даже нет слова, которое обозначало бы имя божества. В их легендах нельзя найти ничего, что имело бы малейшее отношение к их происхождению или к сотворению мира» [12, vol. XIII, p. 358]. Вывод Прево рождается на основе критического сравнения наблюдений Ж. Лафито и впечатлений одного из первых европейцев, посетивших Бразилию — Америго Веспуччи, который отмечал в своем отчете «Новый Свет» (Mundus Novus, 1503) те же особенности менталитета индейцев, принадлежащих к племенам тупи и гуарани [11, p. 197–198].
Говоря о туземцах, Прево уделяет много места также поведению испанцев в Америке, вытекающему из особенностей их национального характера. Интерес к Испании и Португалии возник у него еще в 1720-е гг. и широко отразился в романе «Мемуары и приключения знатного человека», однако это — не столько изображение повседневной реальности стран, расположенных на Пиренейском полуострове, сколько «фон», состоящий из общеизвестных сведений и мотивов (любовь испанцев к национальному театру, тесная связь жизни португальцев с мореходством и рыболовством и т. д.). Во «Весобщей истории путешествий» внимание Прево обращено, в первую очередь, на психологические и моральные черты, характеризующие поведение испанца и португальца. При этом он не разделяет популярную в эпоху Просвещения теорию «климатического детерминизма», созданную Монтескье. По мнению Прево, испанцы и португальцы, проживающие в сходных природных условиях, обладают достаточно заметными национально-психологическими различиями. Испанцы предстают во «Всеобщей истории путешествий» гораздо меньшими прагматиками, чем португальцы. Основной причиной, приведшей к упадку испанской колониальной империи, Прево считает стремление к изоляции американских владений [12, vol. XII, p. 582–584]. Одним из лейтмотивов «Всеобщей истории путешествий» является убеждение автора в необходимости широких культурных и экономических контактов между всеми европейскими государствами. В этом проявляется сходство исторических позиций Прево и Вольтера. По мнению К. Н. Державина, французская историческая мысль XVIII в. «не могла не вылиться в форму истории всеобщей. Просветительский разум утверждал себя в мировом, космополитическом масштабе» [3, c. 211].
Значение глав «Всеобщей истории путешествий», посвященных испанским и португальским открытиям и завоеваниям, заключается в том, что Прево изменил сам принцип изображения «экзотических», с точки зрения его современников, стран как в Европе, так и за ее пределами. Они привлекали его внимание не как колоритная основа для изложения собственных философских и эстетических идей, но как одна из сторон жизни человека вообще, как явление закономерное и вместе с тем совершенно необычное. Во многом «Всеобщая история путешествий» предопределила не только географические воззрения энциклопедистов, но и представления их последователя Рейналя [10, p. 153].
Список литературы Португальские и испанские главы «Всеобщей истории путешествий» Антуана Франсуа Прево
- Варьяш О. И., Черных А.П. Португалия: дороги истории. М.: Наука, 1990. 144 с.
- Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». М.: Наука, 1988. 880 с.
- Державин К. Н. Вольтер. М.: Изд-о АН СССР, 1946. 483 с.
- История в «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера. Л.: Наука, 1978. 312 с.
- Монтескье Ш. Персидские письма. М.: Гослитиздат, 1956. 399 с.
- Разумовская М. В. Становление нового романа во Франции и запрет на роман 1730-х годов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1981. 140 с.
- Разумовская М. В. От «Персидских писем» до «Энциклопедии». Роман и наука во Франции в XVIII веке. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994. 192 с.
- Хазанов А. М. Экспансия Португалии в Африке и борьба африканских народов за независимость. М.: Наука, 1976. 320 с.
- Broc N. La géographie des philosophes. Lille: Presses universitaires, 1972. 797 p.
- Duchet M. L’histoire des voyages: originalité et influence // L’abbé Prévost. Actes du colloque. Aix en Provence: Editions Ophrys, 1965. Pр. 147–154.
- História da expansão portuguesa: en 4 vol. Lisboa: Círculo de Leitores, 1998. Vol. 1. 558 p.
- Prévost A. F. Abrégé de l’histoire générale des voyages: en 32 vol. Paris: Panckoucke, 1780–1801.