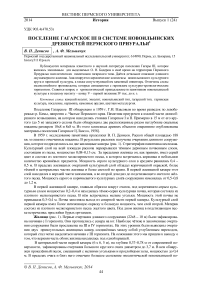Поселение Гагарское III в системе новоильинских древностей Пермского Приуралья
Автор: Денисов В.П., Мельничук А.Ф.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Археология и этнология
Статья в выпуске: 1 (24), 2014 года.
Бесплатный доступ
Публикуются материалы известного в научной литературе поселения Гагары III, которое являлось эпонимным для выделяемых О. Н. Бадером в своё время на территории Пермского Приуралья энеолитических памятников гагарского типа. Даётся детальное описание длинного двухкамерного жилища. Анализируется керамические комплексы новоильинского культурного круга и гаринской культуры, а также сопутствующий им каменный инвентарь. Отмечены следы меднолитейного производства, которые связываются с гаринским культурно-хронологическим горизонтом. Ставится вопрос о хронологической принадлежности памятников новоильинской культуры к позднему неолиту - концу V - первой половине IV тыс. до н. э.
Камский неолит, энеолит, новоильинский тип, гагарский тип, гаринская культура, поселение, керамика, каменные орудия, цветная металлургия
Короткий адрес: https://sciup.org/147203529
IDR: 147203529 | УДК: 903.4(470.53)
Текст научной статьи Поселение Гагарское III в системе новоильинских древностей Пермского Приуралья
Поселение Гагарское III обнаружено в 1959 г . Г . И . Власовым во время разведок по левобе режью р . Камы , напротив с . Частые Пермского края . Памятник приурочен к южной части дюнооб разного возвышения , на котором находились стоянки Гагарское I и II. Примерно в 15 м от его кру того ( до 5 м ) западного склона были обнаружены две расположенные рядом неглубокие овальные впадины размером 10 х 8 и 8 х 8 м . Из этого комплекса древних объектов оперативно опубликованы материалы поселения Гагарское I [ Липсон , 1958].
В 1959 г . исследование памятника продолжил В . П . Денисов . Раскоп общей площадью 188 кв . м охватил отмеченные впадины . В результате раскопок получены очертания длинного сооруже ния , которое подразделялось на две жилищные камеры ( рис . 1). Стратиграфия памятника несложна . Культурный слой на всей площади раскопа перекрывался тёмным дерновым почвенным слоем , состоящим из песка , мощностью 0,08–0,13 см . За пределами жилища он , как правило , имел серый цвет и состоял из плотного мелкозернистого песка , в котором встречались керамика и небольшое количество кремнёвых предметов . Мощность серого культурного слоя в среднем равнялась 0,4 – 0,5 м . В пределах жилищных очертаний культурный слой обладал коричневатой окраской , более тёмной в центральных частях жилища и более светлой по краям . В первой жилищной камере этот слой находился в верхней части заполнения , а во второй доходил до подстилающего светлого жёл того песка . Мощность серого и коричневатого культурных слоёв сооружения изменялась от 0,5–0,8 до 1,2 м .
В первой жилищной камере , главным образом вокруг очагов , под коричневато - серым куль турным слоем мощностью 0,2–0,4 м находилась тёмно - серая культурная почва , которая состояла из плотного мелкозернистого песка . В нём встречались мелкие угольки . Мощность этой почвы не превышала 0,3–0,4 м . Почва заполняла выход из северной части первой камеры . Культурный слой первой камеры имел более интенсивную окраску и большую мощность , чем слой второй . Материк состоял из плотного мелкозернистого песка желтого цвета . Под дном жилищ в подстилающем пес ке встречались прослойки бурых ортзандов .
Жилище ( рис . 1). Первые очертания длинного сооружения (22 х 8 – 10 м ) были зафиксирова ны начиная с I горизонта . Они протянулись с севера на юг . Наиболее чёткие и законченные очерта ния сооружения были прослежены на III и IV горизонтах . На этих уровнях были выявлены очерта ния двух прямоугольных жилищных камер , соединённых между собой углубленным переходом , который стал четко выделяться начиная с III горизонта . На основании этого мы пришли к выводу о том , что верхняя часть обоих жилищ находилась под одной крышей .
В центральной части первой камеры (6 х 6, 5 м ), на глубине 0,37–0,78 м от современной по верхности , зафиксированы очертания большого круглого очага диаметром до 3,7 м . В нем обнару жен прокалённый песок , смешанный с мелкими угольками и прослойками золы , мощностью до 0,4 м . В пределах очага и близ него отмечено большое скопление энеолитической новоильинской по -
суды .
К северу от первого очага , возле выхода из жилища , зафиксированы овальные очертания второго очажного объекта (1,6 х 1,2 м ) мощностью 0, 35 м . Основание его в отличие от первого было углублено в подстилающий песок . По своему составу очаг ничем не отличался от первого , только имел более интенсивную окраску . Между очагами было обнаружено большое скопление кремнё вых предметов ( куски , осколки , отщепы и заготовки кремневых орудий ). Напротив очага были час тично зафиксированы очертания выхода (0,6 х 0,8 м ), углубленного в подстилающий песок , так же , как и сама камера , на 0,5 м .
Во второй камере (8,5 х 6,6 м ) в центре находился небольшой округлый очаг (1, 1 х 0, 8 м ) мощностью до 0, 2 м . В его пределах отмечено значительное скопление новоильинской посуды . Ещё два скопления « флажковой » посуды выявлено у южного и северного краёв камеры . В ней на ходки были распространены довольно неравномерно – сосредоточены главным образом вдоль се верной и южной стенок . Относительно плоское дно камеры было углублено в материковый слой на 0,6–0,7 м . Причем первая камера была углублена в материк более значительно , чем вторая . Она имела и меньшие размеры .
В настоящее время следует признать , что , судя по изучению относительно « чистых » ново - ильинских памятников , жилые сооружения энеолитического населения этого культурного круга представляют собой длинные постройки , расположенные под одной крышей и подразделены на две крупные прямоугольные камеры . Близкое по облику сооружение с новоильинской посудой иссле довано на поселении Усть - Очёр I [ Мельничук , 2011, с .23 – 24, рис . 1). Однако необходимо отметить , что выявленное сооружение использовалось вторично позднегаринским населением .
Коллекция предметов , собранных на поселении Гагары III, включает 1282 отдельных изде лия : каменный инвентарь – 733 экз . (56, 8%), керамика –526 (41, 4%), а также 2 медных предмета , 1 « тигель » с медной каплей на поверхности из мелкозернистого песчаника , 20 кусков обожжённого мелкозернистого песчаника (1, 8 %).
Керамика по технологии изготовления и орнаментации сосудов делится на два культурно хронологических вида : первый – керамика новоильинского типа (23 сосуда – 85,2 %); второй – по суда поздней стадии гаринской культуры (4 сосуда – 14, 8%).
Новоильинская посуда по форме близка к неолитической , и её можно реконструировать как полуяйцевидные чаши со слабозакрытой горловиной и округлым дном ( рис . 2–4). Стенки сосудов желтовато - песочного или красноватого цвета хорошо заглажены , иногда до лощения , как с внеш ней , так и с внутренней стороны . Примесь к глиняному тесту – шамот и песок . Толщина стенок варьируется в пределах 6–12 мм .
Формы венчиков округлые (34,8%), уплощенные (34,8), приострённо - скошенные (30,4). По давляющее большинство сосудов украшено по стенкам только гребенчатыми узорами (78, 3%). В декоре сосудов преобладают среднезубчатые оттиски . Редко в их орнаментации отмечаются от тиски короткого гребенчатого штампа ( так называемые « гусенички »). Иногда фиксировались слабо изогнутые отпечатки гребёнки . Среди гребенчатых композиций узоров преобладает сочетание зигзага с рядами наклонных зубчатых отпечатков (33%). Второй по распространению узор в деко рировании посуды представлен только рядами наклонных гребенчатых оттисков (17 %). Остальные узоры состоят из рядов гребенчатого зигзага , сочетания горизонтальных рядов гребенчатого штам па с наклонными зубчатыми оттисками , совмещения декора из гребенчатого зигзага с « ёлочкой », гребенчатого зигзага с горизонтальными рядами зубчатого штампа . Выделяется сосуд с « флажко вым » узором в верхней части сосуда ( рис . 2,4). Гребенчатые узоры новоильинского керамического комплекса в отличие от неолитической орнаментации занимают более разрежённое пространство на стенках сосудов , не образуя сколько - нибудь сложных орнаментальных композиций ( рис . 2–4 ).
Характерным элементом декора классических новоильинских сосудов являются горизонтальные ряды кружковых узоров, которые, очевидно, выполнялись полой косточкой или рыбьим позвонком (21,7%). Выделяется сосуд, декорированный кружковым орнаментом в сочетании с двойным гладким зигзагом (рис. 2, 3, 3, 4). Интересно, что в керамических материалах поселения Гагарское III полностью отсутствуют ямочные узоры, свойственные другим памятникам Среднего Прикамья [Бадер, 1961, рис. 7 – 8; Мельничук, 2011, с. 24]. Аналогичная новоильинская посуды обнаружена в непосредственной близости от поселения Гагары III, на памятнике Гагары II. С ново-ильинским комплексом связан глиняный уплощённый овальный предмет, напоминающий прясли- це . Близкие по характеру диски выявлены вместе с «керамикой» флажкового комплекса на поселении Ново-Ильинское III [Бадер, 1961а, рис. 10, 8–9].
Помимо новоильинской посуды в пределах сооружения выявлено 4 сосуда гаринской куль туры . Керамика крайне фрагментированна , имеет пористую стуктуру из - за выщелачивания рако винной примеси из глиняного теста . По форме венчиков можно установить , что сосуды обладали как слабооткрытой , так и закрытой горловиной . Для них характерны округлые или слегка упло щённые венчики . Все сосуды орнаментированы гребенчатым штампом в виде разрежённых на клонных или вертикальных оттисков . На стенках одного сосуда орнамент состоял из рядов корот кой гребёнки ( « гусенички »). По своему облику данная посуда поселения Гагарское III близка к позднегаринскому керамическому комплексу поселения Гагары I [ Липсон , 1961, рис . 6].
Каменный инвентарь . Всего в пределах жилища найдено 733 отдельных предмета . Отходы каменного производства составляют 87, 5 % от всего каменного инвентаря . К этой категории следу ет отнести 84 расколотых гальки , 86 кварцитовых сколов , 120 кремневых сколов , 82 отщепа , 260 чешуек , 1 ребристый скол .
Нуклеусов и нуклевидных кусков в сооружении не обнаружено . Выявлен скребок на про дольном сколе с ядрища параллельного принципа скалывания с негативами от узких пластин ( рис . 6, 16 ). Источниками сырья служили галечные русловые отложения р . Камы . Для изготовления из делий использовался преимущественно галечниковый кремень серо - голубоватых и красно бордовых оттенков . Гальки часто имеют уплощённый вид . Реже для создания орудий применялся сероватый плитчатый кремень .
Каменные орудия представлены 92 экз ., включающими как целые орудия , так и их обломки . Большинство изделий изготовлены на отщепах (49%), плитках и гальках (31), реже – на пластинах (13) и сколах (7). Из морфологически определимых орудий наиболее многочисленны скребки – 22 (24 %). Большинство скребков сделано на отщепах , плитках , реже – на пластинах . Среди изделий данного типа преобладают (55%) подпрямоугольные концевые формы ( рис . 6, 14–16 ; 7, 4–5 , 8, 12– 14 ). Привлекает внимание концевой скребок , изготовленный на продольном сколе от конического нуклеуса с негативами от снятия ножевидных пластин на спинке ( рис . 6, 16 ). Один подпрямоуголь ный скребок на отщепе , сделанный на уплощенной гальке из красноватого кремня , характеризует ся подтёской с брюшка , что отвечает технологии изготовления подобных орудий в гаринскую эпо ху . Скребковой ретушью оформлена часть площадки бывшего ядрища . В коллекции имеется не большое число овальных (3 экз .) и подтреугольных (3) скребков ( рис . 7, 3, 7, 9, 15 ). Среди орудий выделяется скребловидное изделие на отщепе из кварцитопесчаника ( рис . 7, 16 ). На пластине из серого полосчатого яшмовидного кремня изготовлен один концевой скребок ( рис . 7, 13 ). Есть ору дие , произведённое на крупной пластине , с приострённо - скошенными рабочими краями . Относи тельно крутой ретушью оформлены боковые края изделия ( рис . 7, 18 ). Подобные орудия обычно определяются как скребки - ножи . Они встречаются не только в новоильинских материалах , но и среди кремнёвых изделий камского неолита и энеолитической борской культуры [ Мельничук , 1990, с . 100, рис . 2, 6, 9, 11, 12, 16 ]. В коллекции имеется также комбинированное орудие : скребок плюс долотовидное изделие ( рис . 7, 17 ).
Следующая категория орудий – ножи ( 5 экз ). Среди них выделяется двусторонне обработан ное подтреугольное режущее изделия ( резак ) с противолежащими короткими лезвиями ( рис . 6, 13 ). Найден однолезвийный нож на пластине . Приостряющей дорсальной ретушью обработан пракси - мальный конец изделия . Ещё два ножа частично покрыты односторонней или двусторонней пло ской ретушью ( рис . 6, 10, 122, 17 ).
В коллекции 5 наконечников стрел , один из которых представлен обломком . Два орудия яв ляются листовидными изделиями с овальным основанием . Один из них оформлен двусторонней отжимной ретушью ( рис . 6, 6 ), второй , из удлиненного скола , частично покрыт ретушью только с дорсальной плоскости ( рис . 6, 9 ). Привлекают внимание два листовидных двусторонне обработан ных одшипных ( или со скошенной базой ) наконечника стрел ( рис . 6, 7–8 ). Аналогичные наконеч ники свойственны охотничьему вооружению как на ранней ( Бор I), так и на поздней ( Выстелишна , Рычино III) стадии гаринской культуры [ Бадер , 1961, рис . 17, 17–18 ; 31, 6 ; 43, 7, 8 ].
Ножевидных пластин в коллекции 4. Две из них покрыты односторонней боковой дорсальной ретушью (рис. 6, 4). На ножевидных пластинах также изготовлены два резцовых изделия: один резчик на обломке узкой пластинки (рис. 6, 3) и угловой резец с двумя рабочими лезвиями. На вен- тральной плоскости двулезвийного резца отмечается приостряющая вентральная ретушь (рис. 6, 4). Эти изделия мы связываем с материалами новоильинской культуры.
Из оригинальных изделий следует отметить кремнёвое фигурное изображение животного ( рис . 6, 11 ), которое мы соотносим с комплексом гаринской культуры . Из других кремнёвых изде лий нужно выделить четыре долотовидных предмета с чешуйчатой подтёской рабочего лезвия .
Обратим внимание на многочисленные заготовки орудий , среди которых отмечаются не формленные полностью метательные орудия (7 экз .) и морфологически неопределимые изделия (32). Большинство заготовок с начальной стадией обработки поверхности ретушью производилось на уплощённых гальках , что свойственно гаринской кремнёвой индустрии .
Орудий из других каменных пород и их обломков в коллекции 12 экз . В ней содержится 4 молота , изготовленных путём приспособления крупных овальных кварцитовых галек . Их особен ностью является наличие по центру заготовки круговых желобков , оформленных в технике пике тажа ( рис . 5, 1 ). Каменные молоты широко распространены на памятниках гаринской культуры , реже – на поселениях борского типа . На памятниках камского неолита с « чистыми » комплексами подобных изделий неизвестно . Шлифованные орудия представлены 4 тёслами ( рис . 5, 2 ). Из дру гих крупных каменных предметов выделяются мотыжка и 4 отбойника .
С металлургическим производством связаны 23 предмета . Медные предметы представлены обломком треугольного в сечении стержня и обвальной плоской бляшкой с отверстием ( рис . 6, 1– 2 ). Особый интерес вызывает фрагмент тарелкообразного предмета с приподнятыми и закруглен ными краями из мелкозернистого песчаника ( рис . 5, 3 ). На его поверхности отмечена медная капля . От этого изделия сохранилось ещё 20 небольших фрагментов , деформированных под воздействием огня [ Бадер , 1961 б , с . 190]. То , что данный предмет связан с металлургическим производством , несомненно . Однако неясно , какую функцию он выполнял . Близкая по облику тарелка с орнамен тированными краями выявлена на южноуральском памятнике Мурат в суртандинском энеолитиче - ском слое . К сожалению , Г . Н . Матюшин не представил атрибуцию данного изделия в своей моно графии [ Матюшин , 1982, с . 52; табл . 37, 5 ; 38, 10, 11 ]. Очень близки по форме тарелкообразные тигли шириной 15 – 20 см с поселения Усть - Лудяна II в бассейне р . Вятки , где они связаны с мате риалами волосовско - гаринского облика [ Наговицын , 1980, с . 109; рис . 12, 5 ].
Таким образом , мы можем считать новоильинский комплекс поселения Гагары III относи тельно « чистым » среди материалов этого культурного круга в Пермском Прикамье , который неда ром в своё время О . Н . Бадер именовал гагарским [ Бадер , 1961, с . 190–191]. Вопроса хронологиче ской атрибуции новоильинских древностей в системе энеолита Пермского Приуралья мы уже каса лись в недавних статьях [ Мельничук , 2011; Денисов , Мельничук , 2012]. Однако новые данные , в ча стности датировки по радиоуглероду , вынуждают поставить вопросы о продолжительности перио да существования новоильинских древностей в шкале времени и об историческом периоде , к како му они относятся : к позднему неолиту либо к раннему энеолиту , так как до сих пор нет убедитель ных данных о том , что медные изделия соотносятся с « флажковым » хронологическим горизонтом .
Как мы отмечали в предыдущих статьях , в настоящее время нижняя дата памятников ново - ильинского круга определяется концом V тыс . до н . э . и делается вывод о том , что с этого времени « по начало IV тыс . до н . э . поздненеолитические памятники и памятники раннего этапа новоильин - ской культуры могли сосуществовать » [ Жукова , Лычагина , 2012, с . 80]. К сожалению , мы не можем на основе современных данных хроностратиграфически установить , с какими комплексами позд него неолита сопрягаются пока чётко не выделенные при изучении « флажковых » древностей ран ние новоильинские материалы . На наш взгляд , нижние калиброванные даты новоильинских ком плексов Пермского Приуралья следует считать только очень условными хронологическими репе рами , фиксирующими начальную стадию формирования этих древностей . Уязвимость нижних да тировок « флажковой » посуды в Среднем Прикамье обнаруживается на основе радиоуглеродных и калиброванных значений новоильинских керамических материалов поселений Гагары II и Гагары III, расположенных на одной дюне , в 200 м друг от друга . Эти материалы совершенно идентичны : Гагары II – радиоуглеродная дата ( индекс Ki 16851) 4460 +_ 80 соответствует калиброванным зна чениям : 1) 3140 – 3020; 2) 3360 – 2910 BC; Гагары III – радиоуглеродная дата ( индекс Ki 16644) 5280 +_ 90 соответствует калиброванным значениям : 1) 4170 – 3980; 2) 4340 – 3940 BC [ Жукова , Лычагина , 2012, табл . 7]. Нам трудно поверить в то , что носители совершенно аналогичных кера мических комплексов , состоящих из трёх десятков сосудов , проживали здесь как минимум 800 лет .
Это просто невероятно . Тогда , какие же датировки верны ?
Проведём краткий историко - географический анализ всех имеющихся на сегодняшний день новоильинских местонахождений на территории Пермского края . Нам известно здесь 20 памятни ков с явными новоильинскими керамическими комплексами .
-
1. Поздеевское озеро II, поселение . Чердынский район , близ границы с Коми республикой . Иссле дование В . П . Денисова , 1974 г . Самое северное местонахождение новоильинской посуды в При камье . Найдено около 5 сосудов . Памятник многослойный , включают комплексы камского не олита и гаринской культуры . Обнаружены медные предметы , относящиеся к поздней бронзе и раннему железному веку .
-
2. Корепино II, поселение . Чердынский район , правый берег р . Колвы . Исследование В . П . Денисо ва , 1967 г . Выявлен представительный комплекс « флажковой посуды », среди которой имеется керамика с кружковым декором . Помимо новоильинского комплекса изучено жилище с поздне - гаринской посудой . Металла не обнаружено [ Денисов , Мельничук , 2012].
-
3. Чашкинское озеро I, стоянка . Пригород г . Березники , левый берег р . Камы . Исследование Е . Л . Лычагиной , 2007 г . Судя по публикации , памятник представляет собой « чистый » новоильинский комплекс . К сожалению , в публикации керамического материала стоянки не содержится даже краткого описания каменного инвентаря . Совершенно не ясны стратиграфические условия зале гания новоильинского материала и не дано описание объектов , в которых он находился . Наличие столь значительного комплекса новоильинской посуды (992 фрагмента ) позволяет предполагать , что он использовался или в жилище , или в пределах какого - либо хозяйственно - бытового объекта . Однако в статье об этом ничего не сообщено . Металла на памятнике не обнаружено [ Жукова , Лычагина , 2008].
-
4. Чаньвенская пещера , жертвенное место . Александровский район , левый берег р . Чаньвы , левого притока р . Яйвы . Исследование Л . А . Балашенко , 1965 г . Было собрано 25 фрагментов керамики новоильинской посуды , украшенной разреженным наклонным зубчатым орнаментом . Металла не обнаружено .
-
5. Базов Бор , поселение . Юсьвенский район Коми - Пермяцкого национального округа , правый берег р . Камы . Исследование О . Н . Бадера , 1952 г . Памятник многослойный . Выявлены комплексы камского позднего неолита , накольчатая керамика , новоильинская посуда . Изучено позднегарин - ское жилище , в котором найдено украшение в виде медной очковидной подвески . Кроме того , обнаружен фрагмент зауральского сосуда аятского типа [ Бадер , 1954].
-
6. Шемети , стоянка . Добрянский район , левый берег р . Камы . Открыта В . П . Денисовым в 1974 г . Разрушена водохранилищем . Найдены фрагменты керамики новольинской посуды и кремнёвые изделия . Металла не обнаружено .
-
7. Бор IV, верхнее поселении . Добрянский район , правый берег р . Чусовой . Исследование О . Н . Ба дера , 1950 г . Выявлен « чистый » керамический комплекс новоильинской посуды . Металла не об наружено [ Бадер , 1961 б , с . 125 – 133].
-
8. Боровое озеро II, поселение . Добрянский район , правый берег р . Чусовой . Исследование О . Н . Бадера . 1950, 1952, 1954 гг . Памятник многослойный , содержит слои новоильинской и гаринской энеолитических культур . Медные изделия связаны с гаринским комплексом [ Бадер , 1961 б , с . 185].
-
9. Боровое озеро III, поселение . Добрянский район , правый берег р . Чусовой . Исследование О . Н . Бадера , 1952–1953 гг . Памятник многослойный , содержал слои камского неолита , новоильинской и гаринской энеолитических культур . Медные изделия связаны с гаринским комплексом . [ Бадер , 1961 б , с . 185].
-
10. Заборье , поселение . Пермский район , левый берег р . Сылвы . Памятник открыт П . Е . Максимо вым в 2010 г . Им собран представительный материал , который включал комплексы камского не олита , накольчатой посуды , новоильинской и гаринской культур . Металла не обнаружено .
-
11. Заюрчим I, поселение . Пермский район , левый берег р . Камы . Исследование В . П . Денисова , 1956 – 1960 гг ., С . Н . Коренюка в 1986–1988, 2009 г . Изучены напластования камского неолита , накольчатой посуды , новоильинской , борской и гаринской культур , эпохи бронзы и раннего ме талла . Исследована часть крупного сооружения (13 х 9 – 12,5 м ), в котором на дне , возле очагов , вместе с каменным инвентарём найдена только новоильинская посуда . Медные предметы на всей площади памятника связаны с комплексами гаринской культуры , эпохи поздней бронзы и ранне -
го железного века [ Коренюк ., Мельничук , 2010].
-
12. Зверево , поселение . Пермский район , левый берег р . Камы . Исследование А . Ф . Мельничука , 1986 г . Обнаружены новоильинские и борские керамические комплексы , близкие к материалам верхней и нижней площадок поселения Бор IV. Свидетельств металлургической деятельности нет [ Мельничук , 1990].
-
13. Новоильинское III, поселение . Нытвенский район , правый берег р . Камы . Исследование О . Н . Бадера , 1960 г . Выявлено одиночное подпрямоугольное жилище , в котором отмечены комплексы новоильинской посуды и позднегаринской керамики . В пределах постройки у очага найдено 14 предметов , связанных с меднолитейным производством , приуроченных , на наш взгляд , к поздне - гаринскому хронологическому горизонту [ Бадер , 1961 а ].
-
14. Усть - Очёр I, поселение . Оханский район , правый берег р . Камы . Исследование А . Ф . Мельничу ка , 1984 г . Изучена часть длинного двухкамерного сооружения (19 х 8,5 – 6 м ), в котором обнару жены комплексы новоильинской и аналогичной ей по декору пористой посуды , которую мы представляем не как позднегаринскую , а как частинскую , по О . Н . Бадеру , которая является в Среднем Прикамье аналогом борской посуды [ Бадер , 1961 в , с . 121, рис . 7–9]. В пределах жилища найдены 3 фрагмента талькированной липчинской посуды и поздний накольчатый сосуд , близкие к тат - азизбейской керамике . Верхнюю часть жилища перекрывал слой раннеананьинской эпохи со шнуровой посудой . В пределах жилища найдены также 2 медные капли и сильно окислившая ся медная овальная бляшка (4- й горизонт ). Однако соотносить комплекс медных изделий с ново - ильинскими материалами крайне сложно , так как в верхних слоях жилища залегала раннеанань - инская посуда вместе с фрагментами ошлакованных тиглей . Об этом можно судить по находке железного шила в горизонтах с новоильинской посудой [ Мельничук , 2011].
-
15. Усть - Паль , поселение . Оханский район , левый берег р . Камы . Исследование В . П . Денисова . Выявлены остатки полуземлянки (11–12 х 5 – 6 м ), в которых содержались слои камского неолита , новоильинской и гаринской культуры . Обнаружено много медных изделий явно гаринского об лика . [ Бадер , 1961 б , с . 190; 1964, рис . 8, 12 ].
-
16. Тюремка I, поселение . Частинский район . Исследования О . Н . Бадера , 1959 – 1960 г . Изучены 4 жилища , которые содержали как новоильинскую посуду , так и гаринскую керамику . Постройки располагались по одной линии вдоль края дюны . Во всех жилищах позднегаринская посуда найдена на дне сооружений , в то время как новоильинская посуда тяготеет к верхним горизонтам . Это свидетельствует о разновременности этих культурных комплексов , в которых « флажковая » посуда явно занимает более нижнее положение в хронологической шкале . С новоильинским ком плексом связан фрагмент поздненакольчатого сосуда тат - азизбейского типа . В третьем жилище найдены медный обломок стержня и медная ошлаковка , которые мы соотносим с позднегарин - ским комплексом [ Бадер , 1961 в , с . 210 – 226].
-
17. Бойцово I, поселение . Частинский район . Исследование О . Н . Бадера , 1959–60 гг . Выявлены керамические комплексы эпохи камского неолита , новоильинского и частинского типов . Кроме того , найден фрагмент накольчатого сосуда тат - азизбейского типа . Следов цветной металлообра ботки не обнаружено [ Бадер , 1961 в , с . 115 – 125].
-
18. Гагары II, поселение . Частинский район . Исследование В . П . Денисова , 1959 г . В разведочном раскопе отмечены комплексы эпохи камского неолита , новоильинской и гаринской культур . Сле дов меднолитейного производства не обнаружено .
-
19. Гагары III, поселение . Подробное описание приведено в настоящей статье .
-
20. Красное плотбище , поселение . Чайковский район . Исследование В . П . Денисова , 1969 – 1975 гг . Новоильинский комплекс выявлен только в пределах первого раскопа ( жилище № 1). Помимо « флажковой » посуды здесь обнаружены слои с гребенчатой керамикой камского неолита , на - кольчатой керамикой волго - камского неолита , гладкостенной неолитической посудой , гарински - ми сосудами . Выявлены также комплексы эпохи бронзы и раннего железного века . Медные изде лия сопрягаются с материалами гаринской культуры .
Относительно « чистых » памятников новоильинского культурного круга , не сопрягающихся с металлосодержащими энеолитическими гаринскими материалами , а также древностями эпохи бронзы и раннего железного века , немного : Чашкинское озеро I, Чаньвенская пещера , Шемети , Бор IV, верхнее поселение , Заюрчим I ( постройка № 12/09), Зверево . Однако ни на одном из них не найдено следов металлургической деятельности .
Таким образом , достоверных данных о том , что новоильинское население занималось при митивной цветной металлургией , в материалах Пермского Прикамья в настоящее время не содер жится . Поэтому не следует исключать того , что памятники новоильинского культурного круга мог ли относиться к финалу эпохи неолита и занимать в хронологии Пермского Приуралья временную нишу с конца V до середины IV тыс . до н . э . [Жукова, Лычагина, 2012, с . 80].
В недавней статье О . В . Жукова и Е . Л . Лычагина попытались дать сравнительную характери стику поздненеолитических и новоильинских керамических комплексов Пермского Приуралья . В итоге они пришли к давно устоявшемуся в научной литературе мнению о том , что « гипотеза о формировании памятников новоильинской культуры на основе камской неолитической культуры пока находит своё подтверждение . Возможно , центром формирования новоильинской культуры были районы Нижней Камы , где в орнаментации широко используется мотив зигзага...» [Жукова, Лычагина, 2012, с . 82; Бадер, 1961 в ., с . 269; Наговицын, 1993, с . 74 - 75].
Относительно данной статьи следует сделать несколько замечаний . На поселении Бор I но - воильинской посуды не обнаружено . О . Н . Бадер нигде не упоминал о наличии такого значитель ного комплекса « флажковой » или гагарской посуды (10 сосудов ) на этом поселении в приустьевой части р . Чусовой [Бадер, 1961 б , с . 185]. Наоборот , здесь выявлен помимо преобладающего гарин - ского комплекс посуды камского неолита , близкой к боровоозёрской . Вместе с ней зафиксированы отдельные сосуды с прочерченным орнаментом типа Евстюниха .
Очень неудачно введён авторами для анализа классической камской неолитической и энео - литической керамики термин « накольчатые элементы орнамента ». Это мешает аналитическому восприятию статьи . На наш взгляд , следует оставить понятие « накольчатый орнамент » именно для обозначения посуды культурного круга Волго - Камья , декорированной в накольчато - отступающей манере . Никакого классического накольчатого орнамента на неолитических сосудах поселения Чернашка , Боровое озеро III и других , а тем более на новоильинской посуде мы не наблюдали . В связи с этим так называемые прямоугольные , овальные , треугольные наколы корректно квалифи цировать в рамках понятия « вдавление », которое успешно применила в своей работе , посвященной анализу керамических традиций неолита Прикамья И . В . Калинина . К сожалению , эту статью авто ры в своём труде не учли , несмотря на то что И . В . Калининой дано детальное описание позднене олитических комплексов Прикамья , включая материалы стоянки Лёвшино [ Калинина , 1979].
Есть вопросы и к частичной характеристике орнаментальных мотивов новоильинской посу ды , предложенной в статье О . В . Жуковой и Е . Л . Лычагиной . Невероятно , но авторы в табл . 5 от метили среди узоров новоильинских сосудов декор в виде « шагающей гребёнки » ( встречаемость мотивов – 0, 6%). Нам хотелось бы увидеть изображение этих новоильинских сосудов с узорами в виде шагающей гребёнки , сопровождающееся указанием их местонахождения . За все годы иссле дований новоильинских древностей мы подобного декора , характерного для камской неолитиче ской культуры , на поверхности « флажковых » сосудов никогда не наблюдали . Именно отсутствие « шагающей гребёнки » в орнаментальной традиции новоильинской посуды является важным при знаком , позволяющим отличить её от классической керамики камского неолита [ Бадер , 1961 а , с . 65; 1961 б , с . 185]. В то же время авторами в сравнительных таблицах не отражён кружковый орнамент , служащий одним из ярких признаков декора новоильинской посуды в Пермском Приуралье .
Совершенно не разделяем мы мнение О . В . Жуковой и Е . Л . Лычагиной о том , что появление в формовочной массе новоильинской посуды органики связано « с влиянием культур пористой кера мики (гаринская) , которые появились в регионе не ранее второй половины IV тыс . до н . э .». Давно О . Н . Бадером убедительно доказано , что раннегаринские памятники явно формировались на базе камского неолита , что подтверждается схожестью их орнаментального декора , типологии и но менклатуры орудий , сырьевой базой для производства каменных изделий ( плитчатый кремень ). Авторам следовало бы подчеркнуть , что пористость в структуре энеолитической керамики Средне го Приуралья образовалась в результате выщелачивания раковинной примеси из глиняного теста в песчаных почвах боровых камских террас , что неоднократно отмечалось в ходе полевых исследо ваний ( Симониха , Красное Плотбище , Заосиново I и др .) [Денисов, Мельничук, 1986]. Нет никаких реальных данных о взаимодействии новоильинского и раннегаринского населения .
Вместе с тем, на наш взгляд, органические примеси в глиняном тесте новоильинской посуды обнаруживаются именно на тех памятниках, в материалах которых более или менее явно фиксируется своеобразный переход от новоильинской посуды к пористой керамике борского типа в чусов- ском Прикамье (Бор IV, Заюрчим I, Зверево) или к посуде частинского облика в осинском Прикамье (Бойцово I, Усть-Очёр I). Именно эти памятники мы относим к поздненовоильинским или к раннеборским (частинским). Учитывая ограниченные рамки статьи, мы не будем останавливаться на проблеме хроностратиграфического соотношения новоильинских комплексов с борскими и частинскими материалами и отошлем читателей к давней статье, где частично отражена эта проблема в энеолите Пермского Приуралья (Мельничук, 1990, с. 101).
Таким образом , в настоящее время в археологии энеолита Среднего Приуралья необходимо поставить следующие вопросы :
-
1. Можно ли считать памятники новоильнского культурного круга из - за отсутствия реальных стра тиграфических данных о связи с ними следов цветного металлургического производства энеолити - ческими или всё же поздненеолитическими ?
-
2. Какова внутренняя хронология типологически далеко не однородных новоильинских комплек сов ?
-
3. Где географически находятся истоки новоильинского культурного явления ?
-
4. В чём проявляются формы взаимосвязи и эволюции памятников новоильинского и борского ( час тинского ) типов ?.
Эти вопросы мы постараемся рассмотреть в обобщающей статье , посвящённой памятникам новоильинского культурного круга в Пермском Прикамье .
Список литературы Поселение Гагарское III в системе новоильинских древностей Пермского Приуралья
- Бадер О. Н. Камская археологическая экспедиция//Краткие сообщения Ин-та истории матер. культуры. М., 1954. Вып. 55.
- Бадер О. Н. Третье Ново-Ильинское поселение//Отчёты Камской (Воткинской) археол. экспедиции. М., 1961а. Вып. 2.
- Бадер О. Н. Поселение турбинского типа в Среднем Прикамье//Матер. и исслед. по археологии СССР. М., 1961б. № 99.
- Бадер О. Н. Поселения у Бойцова и вопросы периодизации среднекамской бронзы//Отчёты Камской (Воткинской) археол. экспедиции. М., 1961 в. Вып. 2.
- Бадер О. Н. Древнейшие металлурги Приуралья. М., 1964.
- Денисов В. П., Мельничук А. Ф. Памятники с накольчато-прочерченной керамикой в неолите Среднего и Верхнего Прикамья и их роль в формировании гаринско-борской культуры//Проблемы эпохи неолита степной и лесостепной зоны Восточной Европы. Оренбург, 1986.
- Денисов В. П., Мельничук А. Ф. Стоянка Корепино I -первый энеолитический памятник на р. Колве в Северном Прикамье//Вестник Пермского университета. Сер. История. 2012. Вып. 1(18).
- Жукова О. В., Лычагина Е. Л. Новоильинский керамический комплекс поселения Чашкинское озеро I//Вестник музея археологии и этнографии Пермского Предуралья. 2008. Вып. 2
- Жукова О. В., Лычагина Е. Л. Сравнительная характеристика поздненеолитических и новоильиинских комплексов керамики Верхнего и Среднего Прикамья//Вестник Пермского университета. Сер. История. 2012. Вып. 1(18).
- Калинина И. В. Гребенчатая и другие группы неолитическое керамики Прикамья//Археол. сб. Гос. Эрмитажа. Л., 1979. Вып. 20.
- Коренюк С. Н., Мельничук А. Ф. Жилищные комплексы эпохи палеометалла поселения Заюрчим I (по материалам раскопок 2009 г.)//Археол. наследие как отражение ист. опыта взаимодействия человека, природы и общества: XIII Бадеровские чтения. Ижевск, 2010.
- Липсон Г. М. Гагарское I поселение близ с. Частые//Отчёты Камской (Воткинской) археол. экспедиции Ин-та археологии АН СССР. М., 1961. Вып. 2.
- Матюшин Г. Н. Энеолит ЮжногоУрала. М., 1982.
- Мельничук А. Ф. О памятниках борского типа в Прикамье//Энеолит лесного Урала и Поволжья. Ижевск, 1990
- Мельничук А. Ф. Поселение Усть-Очер I -энеолитический памятник в Оханском Прикамье и проблемы изучения поселений новоильинского культурного круга//Вестник Пермского университета. Сер. История. 2011. Вып. 1(15).
- Наговицын Л. А. Поселение Усть-Лудяна II//Памятники эпохи энеолита и бронзы в бассейне р. Вятки. Ижевск, 1980.
- Наговицын Л. А. Дискуссионные проблемы в изучении новоильинской культуры//Вопросы археологии Урала. Екатеринбург, 1993.