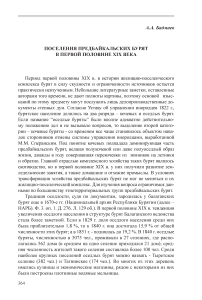Поселения предбайкальских бурят в первой половине XIX века
Автор: Бадмаев А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVI, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521653
IDR: 14521653
Текст статьи Поселения предбайкальских бурят в первой половине XIX века
Период первой половины ХІХ в. в истории жилищно-поселенческ о г о комплекса бурят в силу скудности и ограниченности источников остается практически неизученным. Небольшие литературные заметки, оставленные авторами того времени, не дают полноты картины, поэтому основой изысканий по этому предмету могут послужить лишь делопроизводственные документы степных дум. Согласно Уставу об управлении инородцев 1822 г., бурятское население делилось на два разряда – кочевых и оседлых бурят. Если название “оседлые буряты” было вполне адекватно действительному положению дел и не вызывало вопросов, то выделение второй категории - кочевые буряты - со временем все чаще становилось объектом нападок сторонников отмены системы управления инородцами, выработанной М.М. Сперанским. Под понятие кочевых подпадала доминирующая часть предбайкальских бурят, ведшая полукочевой или даже полуоседлый образ жизни, дважды в году совершавшая перекочевки из зимников на летники и обратно. Главной отраслью комплексного хозяйства таких бурят являлось скотоводство, но в первой половине Х1Х в. у них получили развитие земледельческие занятия, а также домашние и отхожие промыслы. В условиях трансформации хозяйства предбайкальских бурят не мог не меняться и их жилищно-поселенческий комплекс. Для изучения вопроса ограничимся данными по большинству этнотерриториальных групп предбайкальских бурят.
Традиция оседлости, судя по документам, зародилась у балаганских бурят еще в 1670-е гг. (Национальный архив Республики Бурятии (далее – НАРБ). Ф. 3. оп. 1. Д. 276. Л. 129 об.). В первой половине ХІ Х в. тенденция увеличения оседлого населения в структуре бурят Балаганского ведомства стала более заметной. Если в 1829 г. доля оседлого населения среди них была приблизительно 1,8 %, то к 1840 г. она достигала 15,9 % от общей численности этих бурят; а в 1851 г. - поднялась до 19,2 %. В 1840 г. оседлые буряты, численностью в 3075 чел., проживали в 27 селениях, где располагались 562 дома (в среднем на одно селение приходился 21 дом); средняя численность жителей такого селения составляла более 100 чел. Среди наиболее крупных поселений оседлых бурят можно назвать - Тыретское селение (382 чел.) и Тагнинское (174 чел.). Во многих из этих деревень имелись кузницы и экономические магазины, рядом с некоторыми из них были построены плотинные водяные мельницы.
Между тем в Балаганском ведомстве т.н. кочевые буряты имели в 1840 г. 93 зимних поселения – улуса, в которых было 2757 деревянных юрт (НАРБ. Ф. 3. оп. 1. Д. 276. Л. 57 об.). В одном таком улусе в среднем проживало 175 чел. в 30 деревянных юртах, а это значит, что улусы представляли более крупное поселение, чем деревни оседлых бурят.
При рассмотрении бурятских поселений надо учитывать, что в зимних улусах усадьба являлась комплексом жилых и хозяйственных построек, включавшим, помимо деревянной юрты, иногда и курную избу (называемую бурятами “зимовье”), а также амбар и скотный двор, по периметру усадьба обносилась изгородью. Как для оседлых бурят, так и части кочевых, было наличие во дворе овина для сушки снопов. Для примера, в 1829 г. в ведомстве насчитывалось 1019 овинов, а в 1848 г. - 1642.
Кроме зимних поселений были летники, где буряты жили только в бревенчатых юртах. К сожалению, данные 1840 г. не дают цельной картины. По сведениям 1848 г., в Балаганском ведомстве имелось 2850 юрт на летниках и 3020 юрт - на зимниках (НАРБ. Ф. 3. оп. 1. Д. 508. Л. 47). Указанное в документе число изб – 2329 объединяло как число домов кочевых, так и оседлых бурят, но зная средний состав семьи оседлого бурята – 5 чел. и численность оседлых бурят - 4166 чел., мы можем осторожно предположить о примерно 830 домах, принадлежавших этой категории балаганских бурят. Следовательно, почти 1500 изб находилось на зимних улусах кочевых бурят, тогда как примерное соотношение деревянных юрт и изб на них было 2 к 1, т.е. только каждая вторая семья строила избу на зимнике. По данным же на 1829 г., в ведомстве Балаганской степной думы находилось 3853 зимних и летних юрт, 1238 изб. Учитывая минимальную долю оседлого населения в общей структуре балаганских бурят на то время, о чем говорилось выше, и примерно равное число юрт на зимниках и летниках у кочевых бурят, можно утверждать о существовании у них на зимних поселениях следующего соотношения деревянных юрт и курных изб: 1,5 к 1. Иными словами, в рассматриваемое время у этой этнотерриториальной группы бурят прослеживалось явно выраженное предпочтение бревенчатых юрт перед курными избами. Сравнение статистической информации по сезонным поселениям показывает, что на летниках балаганские буряты жили довольно скученно – в среднем до 7 чел. в одной юрте, зато зимний улус давал им больше жилищного простора.
В 1831 г. в ведомстве Кудинской степной думы значилось 153 оседлых бурята, что составляло чуть более 1 % от всего бурятского населения, в 1843 г. их число уменьшилось до 123 чел. (1 % от кудинских бурят). Доля оседлых в составе этой этнотерриториальной группы возрастала и в 1850 г. она включала 252 чел. (2,1 % кудинских бурят). Оседлые буряты населяли две деревни – Усть-ордынское и Курское. Если в 1843 г. на эти деревни приходилось 25 домов и в одной такой деревне в среднем было 60 чел. и 12 домов, то в 1852 г. деревни разрослись - теперь в среднем в них проживало до 100 чел. и имелось не менее 20 домов.
В 1830-е гг. летние поселения кочевых бурят обычно имели 43 бревенчатые юрты, а зимние улусы – 43 юрты и 26 изб, всего же насчитывалось 88 сезонных поселения. В последующее время на землях кудинских бурят возникали новые улусы – в 1843 г. их стало 112, в 1852 г. – уже 130. Материалы по Кудинской степной думе за 1842 г. показывают, что соотношение летних и зимних поселений в родах, как правило, было или паритетным (в 5-ти родах – 1-м Абаганатском, 2-м Харанутском, 1-м Ашибагатском, 2-м Ашибагатском, Курумчинском) или летники превалировали над зимниками (в 7-и родах) (НАРБ, Ф. 1, Д. 409, Л. 5 Об.). Только в двух случаях (в 4-м Харанутском и Шаралдаевском) число летников было меньше, чем зимников.
Возникновение новых поселений привело к уменьшению средней численности проживавшего в них населения – если в начале 1830-х гг. при неизменном количестве поселений средняя статистическая численность жителей в них выросла с 290 до более 300 чел., то в 1840-е гг. увеличение количества поселений вызвало спад средней численности жителей в них (в 1843 г. эта цифра равнялась примерно 225 чел., в 1852 г. – только 195 чел.), что, конечно, объяснялось малонаселенностью вновь образованных улусов. С другой стороны, происходили подвижки в структуре типов жилищ в бурятских поселениях. В 1843 г. на летнике кудинских бурят было в среднем 41 деревянная юрта, на зимнике – 41 юрта и 38 изб, в 1852 г. соответственно на летнике – 47 юрт, на зимнике – 47 юрт и 34 избы. Очевидно, что в изучаемый период доля юрт на зимних улусах постепенно возрастала, и здесь мы видим проявление того же предпочтения традиционного жилища, что и у балаганских бурят.
Как пишется в одном из отчетов Кудинской степной думы, на зимниках буряты обычно возводили: “… юрты, изгородь для зимней теплоты, хорошего строения “зимовья”” (НАРБ, Ф. 1, Д. 387, Л. 3). При зимних поселениях и деревнях строились кузницы, при некоторых из них имелись экономические магазины, в середине 1830-х гг. в ведомстве появилась первая водяная мельница, а к 1850-м гг. их было уже 8 (НАРБ. Ф. 1. оп. 1. Д. 338. Л. 73 об.).
Наиболее ранние документальные свидетельства по Верхоленскому ведомству датируются началом 1820-х гг.; из них следует, что в это время происходил прирост всех видов жилищ у кочевых бурят:
|
годы вид жилища |
1823 г. |
1824 г. |
1826 г. |
|
летние юрты |
1977 |
2031 |
2326 |
|
зимние юрты |
1950 |
2017 |
2569 |
|
избы |
1237 |
1243 |
1262 |
Баланс между деревянными юртами и курными избами в этот период изменился в пользу юрт, иными словами, буряты делали выбор за жизнь в многоугольных юртах: если до середины 1820-х гг. это соотношение составляло 1,6 к 1, то во второй половине 1820-х гг. - 2 к 1. Наглядным примером распространения единого типа сезонных поселений у предбайкаль-ских бурят является выдержка из описи недвижимого имущества шуленги 1 Буровскаго рода Халмактана Балтахунова за 1831 г., в которой перечислены: “юрта с зимовьем деревянные, в них полов не имеется, не новая, стоимостью 15 руб., юрта летняя деревянная, в ней полу не имеется – 6 руб.” (НАРБ. Ф. 4. оп. 1. Д. 87. Л. 144.).
Как выше упоминалось, кочевые буряты имели более комфортные бытовые условия на зимниках, чем на летниках, это было правомерно и в отношении верхоленских бурят. Любопытно, что количество жильцов, проживавших в одном доме, у оседлых бурят было заметно больше, чем у кочевых бурят; в 1823 г. 635 оседлых бурят данного ведомства жили в 68 избах (НАРБ. Ф. 4. оп. 1. Д. 22. Л. 3), т.е. каждый дом населяли примерно 9 жильцов, в то время как на зимниках кочевые буряты проживали в среднем по 5 чел. Такое скученное проживание оседлых бурят свидетельствует об их принадлежности к малоимущему слою общества, вероятно также, что в одном доме обитали представители одной большой семьи, включавшей все три поколения близких родственников.
В 1823 г. оседлые буряты представляли 3,9 % всех бурят Верхоленского ведомства, правда, к 1835 г. их доля уменьшилась в структуре народонаселения до 2,3 % (НАРБ. Ф. 4. оп. 1. Д. 184. Л. 19 об.). По-видимому, они не выделились из основной массы верхоленских бурят и не смогли образовать самостоятельных поселений, поэтому жили вместе с остальными в зимних улусах и, в отличие от соулусников, не совершали перекочевок на летники.
В 1834 г. в ведомстве Верхоленской степной думы было 32 зимних улуса. Эти поселения в среднем имели 110 - 115 жителей и располагались друг от друга на расстоянии порядка 1 - 5 верст (1,066 - 5,3 км), лишь самые отдаленные Шонтойский улус и 3-й Хурайский улус находились в 14 и 40 верстах (15 и 43 км) соответственно от соседних селений. В улусах, где находились родовые управы и степная дума, были построены экономические магазины, пожарные сараи, ледники, в четырех из них были тюремные избы для временного содержания преступников (НАРБ. Ф. 4. оп. 1. Д. 22. Л. 5). С развитием земледелия появились у верхоленских бурят водяные мельницы; в 1823 г. у них работало 6 таких мельниц (3 были возведены на ключе Хромовском, 2 – на речках, и 1 – на р. Лене).
Первые сведения об оседлых бурятах в Ольхонском ведомстве приходятся на 1831 г., называется цифра – 32 чел. В последующем их численность падает, в 1844 г. насчитывалось всего 23 оседлых бурят (0,4 % ольхонских бурят), которые компактно проживали в одном, Кунтинском селении, состоявшем из трех изб и формально входившем в Манзур- скую волость. За последующие десять лет деревня немного разрослась -в 1853 г. в ней было 7 домов. В усадьбе, включавшей, кроме жилого дома, амбар и скотный двор, у оседлых ольхонцев были еще и черные бани, это можно вынести, в частности, из документа за 1831 г., в котором пишется о сгоревшей бане ясачно-крещенного Григория Ощепкова (НАРБ, Ф. 12, Оп. 1, Д.20, Л.8).
Аналогично другим предбайкальским бурятам у ольхонцев сложилась система летних и зимних поселений. Судя по архивным данным, до 1830-х гг. у них домовых строений не было: в отчете Ольхонской думы за 1831 г. упоминаются только бревенчатые юрты. Но в документе за 1835 г. утверждается о том, что у некоторых бурят, наряду с юртами, в усадьбах были построены зимовья (НАРБ, Ф. 12, Оп. 1, Д.28, Л.4). В 1831 г. на о. Ольхон имелось 26 зимних улуса, которые в отличие от иных ведомств предбайкальских бурят, были довольно густонаселенными - в среднем в них проживало более 400 чел. в 49 юртах. Возможно, это вызывалось ограниченными пространствами о. Ольхон, где к тому же ощущалась нехватка строительного материала. Расстояние между улусами колебалось от 2 до 40 верст, но в основном они располагались в 2-5 верстах друг от друга. В ряде улусов были кузницы и мукомольные мельницы, установленные, как правило, на местах выхода ключевой воды (лишь одна из восьми мельниц была возведена на речке). В отличие от выше рассмотренных бурятских ведомств Иркутской губернии в Ольхонской степной думе не было ни одного экономического магазина.
Зимние улусы объединяли усадьбы, в большинстве своем состоявшие из бревенчатой шестиугольной юрты с пристроенными сенями, с рядом находившимся небольшим амбаром и загоном для скота.
Динамика развития жилищно-поселенческого комплекса ольхонских бурят была следующая: в 1831 г. в Ольхонском ведомстве было зафиксировано 1286 бревенчатых юрт в 26 улусах, в 1844 г. – 1350 юрт в 30 улусах, наконец, в 1853 г. впервые приводится цифра срубных домов - 83, и 1659 юрт в 29 улусах.
Подытоживая можно констатировать, что в первой половине ХІХ в . , хотя и неравномерно, но увеличилось число поселений у разных групп предбайкальских бурят. Выявляется повсеместно у всех кочевых пред-байкальских бурят предпочтение многоугольной бревенчатой юрты перед курной избой. Из рассмотренных этнотерриториальных групп имели более комфортабельные жилищные условия балаганские и кудинские буряты, верхоленские и ольхонские буряты жили в более стесненных условиях. Занятие земледелием и расширение потребления зерновых и мучных продуктов в пище бурят повлияло, в частности, на появлении в поселениях экономических магазинов, водяных мельниц и овинов. Селения оседлых и кочевых бурят заметно отличались как по размерам, планировке, так и по типу жилищ и усадеб.