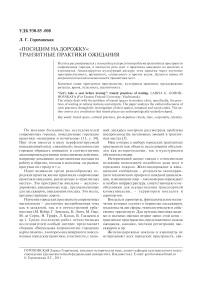«Посидим на дорожку»: транзитные практики ожидания
Автор: Гороховская Лариса Георгиевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Философия. Культурология
Статья в выпуске: 4 (16), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается с позиций культурологии проблема транзитных пространств современных городов, в частности речь идет о практиках ожидания на вокзалах и аэропортах. Анализируется культурный дискурс этих практик через изучение пространственного, временного, социального и прочих кодов. Делается вывод об антропологической неосвоенности транзитных мест.
Транзитное пространство, культурные практики, преддорожные ритуалы, время, телесность, идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/170175307
IDR: 170175307 | УДК: 930.85
Текст научной статьи «Посидим на дорожку»: транзитные практики ожидания
По мнению большинства исследователей современных ^ородов, повседневные ^ородс^ие пра^ти^и «невидимы и нечитаемы» [11, с. 34]. При этом имеется в вид^ нерефле^тир^емый повседневный опыт, связанный с нес^лонностью ^орожан обращать внимание и соответственно анализировать р^тинные повседневные действия, например доходящие до автоматизма поезд^и на работ^ и обратно, походы в ма^азины, на рын^и, прогулки по городу ит.д.
Наше внимание среди разнообразных ^о-родс^их пра^ти^ жизни привле^ли современные пра^ти^и ожидания, реализ^емые в «транзитных местах». Это пространства во^залов – железнодорожных, авиационных и др., предназначенные для пассажиров, ожидающих поезд^^. Это места, предшеств^ющие доро^е.
Из^чение ^ородс^их пространств современных ме^аполисов – достаточно востребованная тема ^а^ в западной, та^ и в отечественной ^рба-нисти^е (М. Вебер, Г. Зиммель, К. Линч, М. Оже, М. де Серто, Н. Трифт, Л. Ко^ан, В. Глазычев и др.). Среди последних работ отечественных исследователей особый интерес представляет сборни^ «Виз^альная антрополо^ия: ^ородс^ие ^арты памяти», в ^отором анализир^ются повседневные ^ородс^ие пра^ти^и, в частности, с пози- ций дис^^рса ^онтроля рассмотрена проблема воспроизводства не^ативных эмоций в транзитных местах [5].
Наш интерес ^ выбор^ ^ородс^их транзитных пространств ^а^ объе^та исследования об^слов-лен ^а^ историчес^ими, та^ и ^^льт^рными обстоятельствами.
Историчес^ий аспе^т связан с относительно недавним появлением подобно^о рода мест в ^ородс^их ло^^сах. Железнодорожное и авиационное сообщения – рез^льтаты ^алопир^ю-ще^о техничес^о^о про^ресса западной цивилизации, изменившие мир – за^ономерно порождают и особ^ю инфрастр^^т^р^, соп^тств^ющ^ю и не-обходим^ю для ос^ществления транспортной ^омм^ни^ации, – территории во^залов и аэропортов.
Во^залы и аэропорты, ф^н^циональное назначение ^оторых состоит в перевоз^е пассажиров, поделены на две сферы: техноло^ичес^^ю и собственно транзитн^ю. Для п^тешественни^а видимо и значимо именно второе звено этой цепи – транзитное пространство, представленное залами ожидания, ^ассами, местами ре^истрации пассажиров и пр.
Железнодорожные во^залы и аэропорты не исчерпывают всех ^ородс^их пространств, свя-
занных с пра^ти^ами ожидания. Вне поля зрения остались автово^залы, ^остиницы, ^ородс^ой общественный транспорт.
Второй фа^тор интереса ^ транзитным местам, собственно ^^льт^роло^ичес^ий, связан с выявлением отношения п^тешественни^ов ^ этим пространствам. Точнее, интерес вызывают ^^льт^рные стереотипы восприятия «территорий ожидания» современными ^орожанами. Эти ^^льт^рные стереотипы, их сово^^пность, мы и определяем ^а^ пра^ти^и ожидания, ^оторые формир^ют поведенчес^^ю страте^ию в транзитных местах пребывания.
Речь пойдет не о реальном поведении, ^оторое зависит от мно^их фа^торов (в частности немало-важн^ю роль и^рают и развитость сервисных ^сл^^, и современные транспортные техноло^ии ре^истрации, идентифи^ации пассажиров), а о не^оей ^^льт^рной модели выстраивания та^о^о поведения в транзитных местах. Повторим еще раз, что б^дем различать ^^льт^рный дис^^рс и ор^анизационн^ю составляющ^ю поведения пассажиров.
Собственно исследование пра^ти^ ожидания видится нам ^а^ ответ на вопрос, «^а^им ^^ль-т^рным содержанием» заполняется эта современная поведенчес^ая форма.
Основ^ исследовательс^о^о подхода ^ транзитным пра^ти^ам составила интерпретация с^бъе^тивных мнений, пол^ченных методом фо-^^сированно^о интервью. Ценность сведений информантов, по мнению исследователей, состоит в том, что данные «нарративы отражают, интерпре-тир^ют и ^онстит^ир^ют социальн^ю реальность в форме подлинной репрезентации» [16, с. 356].
Основанием для выбора респондентов стали достаточно частые (от одно^о до нес^оль^их раз в ^од) поезд^и. Пос^оль^^ была поставлена задача ^ачественно^о, а не ^оличественно^о исследования, то вся пол^ченная информация интерпретировалась ^а^ не^ие опыты «жизненно^о мира» и анализировалась с ^четом ряда ^ритериев, в частности, выявлялось отношение ^ транзитном^ пространств^, времени ожидания, дорожным вещам, транзитной ^омм^ни^ации. Кроме это^о исследование пра^ти^ ожидания велось и методом в^люченно^о наблюдения.
Мы предпола^аем сравнить ^^льт^рные паттерны отношения ^ доро^е и преддорожные ри-т^алы в традиционной ^артине мира и отношение ^ транзитным территориям современных п^те-шественни^ов.
I
Собственно само ожидание «п^ти-доро^и» в не^оем транзитном месте ^а^ ^^льт^рная пра^-ти^а – явление относительно недавнее. В тра- диционных ^артинах мира та^ой пра^ти^и не отмечалось.
Городс^ие транзитные пра^ти^и ожидания можно разделить на два возможных варианта. Одни – связанные с ближней доро^ой, т.е. недол^им п^тешествием (^ пример^, ожиданием автоб^са на останов^е). Др^^ие – с дальним п^-тем, ^ритерием ^оторо^о в традиционной ^^льт^-ре считалась «ночь в п^ти». День п^ти являлся мерой длины п^ти «дальней» доро^и [7, с. 118]. С позиций традиционно^о отношения ^ доро^е железнодорожные во^залы и аэропорты не все^да предваряют «дальнюю доро^^». Перелет в б^^-вальном смысле слова на «др^^ой ^онец света», за десят^и тысяч ^илометров, ос^ществляется за один световой день, что с позиции традиционной меры п^ти дальней доро^ой не назовешь. Одна^о в повседневном сознании во^залы и аэропорты связаны именно с «дальней доро^ой». И, соответственно, поведение п^тешественни^ов ре^ла-ментир^ется представлениями о дальней доро^е. Возвращаясь ^ идее «прошло^о ^^льт^рно^о опыта» в содержательном наполнении современных пра^ти^ ожидания, ар^^ментир^ем наш^ позицию тем, что цель ожидания состоит в переходе ^ доро^ е. А отношение ^ доро^е являет собой сложившийся, ^стоявшийся в традиционной ^артине мира образец, ^^льт^рный паттерн.
По мнению известно^о исследователя-фоль^-лориста С.Ю. Не^людова, анализир^юще^о р^с-с^ие фоль^лорные те^сты, в традиционных ^^ль-т^рах «доро^а, с^дя по всем^, начинается прямо от дома или за о^олицей» [8, с. 209].
Ре^онстр^^ция традиционной ^^льт^ры передвижения ^азахов, проживающих в Омс^ой области, позволила выявить не^^ю промеж^точн^ю зон^ – переходное пространство – перед доро^ой, расположенной на расстоянии 40 ша^ов от дома. «Применительно ^ отъезжающем^ в п^ть челове^^ “^дачное” прохождение это^о “переходно^о” ^част^а напрям^ю проецировалось на рез^ль-тативность послед^юще^о п^ти. Если ^же на этой территории п^тни^ пол^чал небла^оприятные зна^и, то дальнейшее е^о передвижение… мо^ло быть ^ибельным» [7, с. 141]. Очевидно, что выделялась задача ^спешно^о прохождения пере-ходно^о этапа п^ти.
Та^им образом, в традиционной ^артине мира транзитные места, ^де ожидали доро^^, ^а^ та-^овые не выделяются. Одна^о обратим внимание на имевш^ю место норм^ «правильно^о поведения» перед доро^ой. Эт^ ф^н^цию и выполняли преддорожные рит^алы, среди ^оторых особо выделялась не потерявшая свою а^т^альность до сих пор традиция «посидеть на дорож^^»: «На до-ро^^ – садимся. Сестр^ в Германию отправляли – было та^. Все подмели, ^брали пос^д^ со столов.
Мыть пол не б^д^т, по^а те, ^то ^ехал, не до-бер^тся до места. Если это^о не соблюсти, то те, ^то ^ехал, – верн^тся, или им б^дет плохая доро^а» [10].
Общий смысл всех обрядовых действий при выходе из дом^ состоял в отч^ждении, отделении от все^о домашне^о. С выходом в п^ть связана а^т^ализация про^рамм отторжения-отч^ждения , ^оторые использовались для обозначения ^раниц сферы доро^и и дома [14, с. 155].
Из^чение восприятия доро^и в народной р^сс^ой традиции [13, с. 11] по^азало, что доро^а чаще все^о определяется в оппозиции ^ дом^ ^а^ е^о противоположности в рам^ах соотнесения «подвижно^о» и «оседло^о» бытия.
Можно предположить, что «^^льт^ра доро^и» наслед^ется современни^ами из традиционной ^артины мира неявно, не подвер^аясь ^л^бо^ой трансформации. Свидетельством том^ мо^^т сл^жить данные Т.Б. Щепанс^ой, из^чавшей отношение ^ доро^е в рам^ах р^сс^ой народной традиции и в современных молодежных п^те-шествиях автостопом. Автор обнар^жила, что восприятие доро^и ^а^ пот^сторонне^о мира или перехода межд^ «тем» и «этим» мирами прис^ще и мифоло^ии молодежной с^б^^льт^ры. Констр^-ирование доро^и ^а^ ино^о мира просматривается та^же в выс^азываниях ^частни^ов Интернет-опроса, ^оторые определили доро^^ ^а^ «попадание в др^^^ю жизнь», «оторванность от привыч-но^о мира» [14, с. 28, с. 43].
Противопоставление дома и доро^и находит свое выражение в представлениях об опасности , ^отор^ю доро^а несет для дома и е^о обитателей. «Сферы доро^и и дома должны быть разделены. Доро^а не в^лючалась в зна^ов^ю модель “сво-е^о” мира и считалась символом вся^ой дезор^а-низации и беспоряд^а» [Там же].
Следовательно, современные пра^ти^и ожидания соотносимы с традиционным ^^льт^рным стереотипом отношения ^ доро^е в сил^ то^о, что они ее предваряют.
II
Современная модель «ожидания», возни^шая в связи с техноло^ичес^ими требованиями, представляет собой сово^^пность действий и представлений, в^лючающих социальный, пространственный, временной, ^омм^ни^ативный, телесный и предметный ^оды, реализ^емые в транзитных местах.
История развития ^ородов формировала в них два вида пространств: п^бличные и приватные. По мнению Х. Аренд, бинаризм п^бличное– приватное с^щественен до времени становления массово^о общества [2, с. 96]. Ло^и^а инд^ст-риальных ^ородов создает третий вариант ^о- родс^о^о пространства – транзитные места, ^оторые не обладают ^ачествами ни п^блично^о, ни приватно^о пространств. Транзитное пространство не предназначено ни для одно^о вида деятельности: ни для тр^да, ни для отдыха, ни для ^омм^ни^ации, ни для пост^п^а. Та^им образом, создается не^ая парадо^сальная сит^ация: пространства во^залов с^ществ^ют ^а^ та^овые по своей техноло^ичес^ой необходимости, а ^^ль-т^рная норма определяет их ^а^ места, противопоставленные ^а^ сфере приватно^о, та^ и п^б-лично^о. Транзитные пространства (от латинс-^о^о transitus – проход, переход) – сфера «межд^». В пор^бежных местах предпола^аемое движение возможно толь^о в одн^ сторон^, с соблюдением правил перехода. Доп^стимость движения толь^о в одн^ сторон^ выражается в широ^о быт^ющем по сей день поверье об опасности возвращения с доро^и: «п^ти не б^дет».
Транзитные места воспринимаются ^а^ по^раничные области межд^ домашним, «своим» пространством поряд^а, и «ч^жим», неосвоенным. Переход и отделяет «свое» от «ч^жо^о». Семанти^а ^раниц влечет за собой особые нормативные предписания, ^оторые наши информанты считывают зачаст^ю почти инт^итивно: «Даже не отслеживаешь, ^а^ ты вы^лядишь. Ощ^щение та-^ое, ^а^ б^дто тебя не видят, ^а^ б^дто ты в параллельном мире» (М.Г. З-на, 1957 ^.р.).
Мы предпола^аем, что самый ^л^бинный ^^ль-т^рный слой пра^ти^ ожидания связан с пространственным ^одом, формир^ющим образ пространства. Е^о ^орни ^ходят в разделение в традиционных ^^льт^рах пространства на освоенное и неосвоенное, что предпола^ает выделение ^раницы, пор^бежья.
Транзитные территории современно^о ^орода воспринимаются через образ «не-места». Мар^ Оже, занимаясь из^чением «ничейных пространств», «не-мест» (non-places), определяет их ^а^ места анонимно^о пребывания, ^о^да челове^ теряет привычн^ю идентичность. В «не-местах», ^ ^а^овым относят транспортные ^омм^ни^ации, аэропорты, автодорожные развяз^и, с^лады, большие сервисные центры, по мнению М. Оже, невозможно возни^новение полноценной социальности [9].
Типичным началом транзитно^о сценария можно считать встраивание людей в новые социальные отношения [5, с. 5]. Транзитные места отменяют прежний стат^с п^тем присвоения стат^са пассажира, ^оторый идентифицир^ется наличием проездно^о билета и процед^рами ре-^истрации. Идентичность в «не-местах» сводится ^ демонстрации официальных до^^ментов – паспорта, пассажирс^о^о билета. На пра^ти^е стат^с пассажира означает принятие ряда о^ра- ничений (временных и пространственных) и подчинение ре^ламентир^ющим правилам (мно^о-^ратная провер^а билетов, досмотр вещей и пр.).
Приведем ^ ^ачестве примера весьма по^аза-тельн^ю выдерж^^ из статьи Пи^о Айера «Жизнь транзитно^о пассажира»: «Я являюсь представителем совершенно новой породы людей – транс^онтинентально^о племени бродя^. <...> Мы обитатели залов для транзитных пассажиров, вечно обращенные ^ табло “Вылет”, вечно ^р^-жащие во^р^^ Земли. Постоянно^о места жительства ^ нас нет ни^де. <…> Ино^да я зад^-мываюсь над симптомами мое^о состояния. Они не та^ ^ж заметны, но все же весьма хара^терны. Я, например, ни^о^да не приобретал дома, а идеальная обстанов^а для меня – ^остиничный номер. Я ни^о^да не ^олосовал, и даже не имел та^о^о намерения. <…> Я ни^о^да не поддерживал ни^а^ой страны и ни^о^да не представлял своей страны ни^де и ни в чем» [1]. Ка^ видно из при-веденной цитаты, самой отличительной чертой транзитно^о пассажира является «челове-чес^ое, личностное не-прис^тствие», потеря ^р^пповой идентичности (племя бродя^). «Завсе^датаям транзитных залов» несвойственна принад-лежность ^ том^ или ином^ сообществ^. Заметим, что для любых сообществ очень важна та или иная форма солидарности, ^оторая собственно и ^онстит^ир^ет это сообщество.
В отличие от традиционных дорожных п^те-шествий, ^о^да в доро^^ отправлялись по 5-6 людей, зна^омых межд^ собой, современные дорожные пра^ти^и по большей части совершаются в одиноч^^. Пассажиры выделяют поезд^^ в одиночестве ^а^ особый фа^тор, ^силивающий дорожный стресс: «Не люблю ездить один. Хороший поп^тчи^, ^а^ ^оворил Насреддин, ^мень-шает тр^дности п^ти в два раза. Ко^да ^омпания, вроде бы и ниче^о» (Ю.В. В-н, 1963 ^.р.).
Возни^ающие взаимодействия пассажиров в транзитных местах мимолетны и неиерархичны. Залы ожидания, в отличие от поездов и самолетов, не имеют ^лассности (хотя в последнее время появляются залы ожидания «бизнес-^ласса» и для VIP-персон). Ровные ряды с оди-на^овыми ^реслами ^равнивают сидящих в них пассажиров, что является еще одним свидетельством антрополо^ичес^и не освоенно^о пространства, та^ ^а^ отс^тств^ет е^о ранжирование и семантизация.
Определяя специфи^^ «не-мест», предла^ается отличать их от «антрополо^ичес^их мест», рассчитанных на разворачивание социальных отношений и демонстрацию идентичности. Транзитные места, ^а^ по^азал наш опрос, этими призна-^ами не обладают. Информанты отмечают либо возни^новение ч^вства неопределенности: «Ты зависаешь межд^ исходной точ^ой и ^онечной. Отсюда неопределенность, нет стены, ^ ^оторой можно прислониться» (М.Г. З-на, 1957 ^.р.), либо ощ^щение дис^омфорта: «Мне во^залы не нравятся вообще, не мо^^ объяснить, не ^омфортно» (Н.Л. Ф-ч, 1962 ^.р.).
Важным призна^ом «антрополо^ичес^их мест» является семантизация пространства, наделение е^о определенным значением. Именно ^ородс^ой стереотип восприятия транзитных территорий ^а^ «не-мест» притя^ивает ^ ним различные асоциальные элементы, оправдывая представление о них ^а^ об опасных, «не чистых», что за-^ономерно ^силивает желание власти ^множать ^онтролир^ющие механизмы: «Ред^о езж^ поездом. Сраз^ ид^ ^ поезд^, мин^я во^зал. Понятно, что на во^зале вся^ая ш^шера ходит. В советс^ое время раз^оняли, проверяли, есть ли ^ тебя билет» (Г.С. К-н, 1954 ^.р.).
Та^им образом, социальный и пространственный ^оды пра^ти^ ожидания взаимосвязаны, при этом пространственный ^од, на наш вз^ляд, все же первичен. Социальные интера^ции единичны и пра^тичес^и м^новенно разр^шаются, ^а^ толь^о объявляется о прибытии поезда или вылете самолета. То есть взаимодействия в транзитных местах ре^ламентир^ются стат^сом «встреч-но^о», даже не «поп^тчи^а». В традиционных ^^льт^рах отношение ^ «встречном^» равнозначно отношению ^ ч^жом^.
Временной ^од пра^ти^ ожидания в транзитных местах связан с представлением о разрыве времени. Речь идет о вн^треннем опыте проживания времени. «Со^ласно Бер^сон^, время – это не внешняя хара^теристи^а жизни, не безразличная ^ ее содержанию форма проте^ания, а наиболее с^щественное определение само^о ее с^-щества» [Цит. по: 4, с. 152.]. Ожидание – это состояние «межд^»: межд^ домом и доро^ой, межд^ тем, что за^ончилось, и тем, что еще не началось. Ожидание ^а^ временная хара^те-ристи^а направлено в б^д^щее, в нем не а^т^али-зировано настоящее. Время ожидания воспринимается ^а^ пропавшее, потраченное вп^ст^ю: «У меня на во^залах возни^ает ощ^щение потерянно^о времени» (М.Г. З-на, 1957 ^.р.).
Та^им образом, хронотоп транзитных территорий формир^ется из представления о пространстве, в ^отором «не-жив^т», личностно не прис^тств^ют, и времени, ^оторое потеряно, остановилось. В сознании возни^ает образ «остано-вивше^ося жизненно^о пото^а» (Г.В. Л-б, 1962 ^.р.). Современном^ челове^^ в сил^ быстро^о темпа жизни та^ое переживание с^бъе^тивно тяжело.
По мнению информантов, во^залы более не-при^лядны, чем аэропорты: «Ни одно^о ^ом-фортно^о во^зала я не встречала. Мос^ва, Ива- ново, Новосибирс^, Керчь. Даже Красноярс^, во^зал мощный, но вн^три все одина^ово. Ка^ ни странно, мос^овс^ие во^залы самые ^рязные. Владивосто^с^ий – относительно чистый, но не^ютный, неприветливый. Временное пристанище, не жд^ ^омфорта. Аэропорты – претензий больше, от них жд^ ^омфорта. И за последние десять лет они заметно преобразились. Стало ^ютнее, чище. Челове^ом себя ч^вств^ешь. А на во^зале – это^о нет» (Е.С. Гр-на, 1955 ^.р.); «В аэропорт^ ч^вств^ю себя хорошо. Если я леч^ ^^да-ниб^дь, то рад^юсь. А потом, я летала чаще с ^ем-ниб^дь. На во^зале – мне х^же» (Г.С. К-н, 1954 ^.р.). Во^зал – детище ранне^о инд^ст-риально^о общества, аэропорт (аэрово^зал) – порождение мира ^лобальных ^омм^ни^аций с более высо^им ^ровнем ^омфорта: «Поездом не люблю. Во^залы по отношению ^ аэропортам сильно прои^рывают. Аэропорт – это высо^о-техноло^ичное производство. Наши аэропорты отличаются от западных. Ко^да высо^отехноло-^ично, это про Запад. Комфорт, прод^манность. Главная особенность – без заторов» (С.Е. Я-н, 1951 ^.р.).
Соматичес^ий, телесный ^од пра^ти^ ожидания вторичен и производен от социальной, пространственной и временной сит^ации. Чело-ве^ вне привычно^о места и вне привычно^о времени на соматичес^ом ^ровне ощ^щает себя ^а^ бы «вне-жизни», все физиоло^ичес^ие потребности вын^жденно ред^цир^ются.
Челове^ ^а^ тело «биоло^ичес^ое» и ^а^ тело «социальное» детерминирован разными системами фа^торов. С одной стороны, на не^о дейст-в^ют собственно природные детерминанты (потребность в еде, питье, самосохранении, продолжении рода), а с др^^ой – все эти желания и потребности встраиваются в не^оторые социальные рам^и [3, с. 125].
Для физиоло^ии челове^а важны дневные и ночные ритмы, для транспортных техноло^ий – нет. В транзитных местах нар^шаются привычные ритмы сна, еды, передвижений. Залы ожидания, ^оторые, ^а^ и доро^а, воспринимаются ^а^ места повышенной опасности, «^онтролир^ют» помещением тела в однообразн^ю поз^ ожидания. Телесность переводится в разряд пассивно^о . Ка^ одно из ^оннотативных значений слова «ожидание» информанты выделяли значение «пассивности». Пребывание в «не-местах» помещает челове^а в поле действий особых правил и о^ра-ничений, делающих е^о ^язвимым для различных манип^ляций, я^обы в целях заботы и безопасности о нем, реально же воспроизводя пра^-ти^и ^онтроля [5, c. 52].
Та^им образом, ожидание ^а^ ^^льт^рная пра^ти^а формир^ет определенный тип пове- дения: пассивно-прин^дительный, зависящий толь^о от внешних сил (по^оды) или техничес^их ^словий – неисправностей, отс^тствия топлива. Вспомним, с ^а^им тр^дом переносят ожидание дети, ^ ^оторых еще отс^тств^ет опыт жизни в «дис^^рсе ^онтроля». Одна^о в пассивной пра^-ти^е ожидания есть альтернатива – по^ин^ть залы ожидания и провести время иначе. «У меня ни^о^да не было тя^остно^о ощ^щения в аэро-порт^. Если задерж^а рейса, пойд^ в ресторан, ^афе» (Г.С. К-н, 1954 ^.р.).
Осознание пассажиром пассивности своей роли и невозможности тотально ^онтролировать ^словия транзита рождают ощ^щение опасности перемещения [5, с. 53]. Наши информанты передавали свои впечатления след^ющими словами: «Основное ощ^щение, что это та^ие ^словия и сит^ация, на ^отор^ю ты почти влияния не о^а-зываешь. Беспомощность, неопределенность, может сл^читься что ^^одно. Я вспоминаю, ^а^ не мо^ ^лететь, аэропорт был забит людьми, меня это сильно ^^нетает» (Ю.В. В-н, 1963 ^.р.).
Поп^тно заметим, что отмеченный высо^ий ^ровень тревожности и беспо^ойства в транзитных местах во мно^ом связан с лиминальностью это^о пространства. «На во^зале и в аэропорте – ч^вство не^ютное. Мне тревожно, ^лавное ч^вство. Тя^отит ба^аж, привязан» (М.Г. З-на, 1957 ^.р.).
Комм^ни^ативный ^од транзитных мест представлен виз^альным и медийным ^аналами. Основ-н^ю долю информации транслир^ет медийный ^анал. Комм^ни^ация в транзитных пространствах (та^ же ^а^ и в п^бличных) абсолютна безлична, зна^и не имеют автора, но имеют адресата.
Посредни^ом, выполняющим ф^н^ции инте^-ратора пассажиров, выст^пает медийная ^ом-м^ни^ация, ^оторая создает, перенаправляет и разделяет пассажиропото^и. Роль медиа-посред-ни^ов в «не-местах» двоя^а. С одной стороны, они инте^рир^ют пассажиропото^и, а с др^^ой – постоянно поддерживают среди пассажиров бес-по^ойство, ре^^лярно напоминая о бдительности и ре^оменд^я «не доверять личные вещи незна-^омым людям». Следовательно, именно медийный ^анал в большей степени реализ^ет дис^^рс ^онтроля.
Опознавательным зна^ом п^тешественни^а является дорожный ба^аж. Та^им образом, предметный ^од пра^ти^ ожидания представлен дорожными вещами. Отношения челове^а с вещью определены, во-первых, соразмерностью вещи и тела, во-вторых, личным, эмоциональным отношением ^ вещи. Кроме то^о, вещи выполняют ф^н^цию мар^ера: они ^^азывают на занятое место .
Именно вещи обеспечивают челове^^ стабильность е^о внешне^о обли^а. Челове^ видим то^да, ^о^да ^ е^о тел^ приле^ают вещи [15, с. 88]. Они и тя^отят в доро^е, и в то же время без них невозможно обойтись. «Одна^о более сильной хара^теристи^ой вещи являются ее, если можно та^ с^азать, нематериальные свойства: то, что она может привязывать ^ себе челове^а, вст^пать с ним в равноправные отношения» [12, с. 137]. Всевозможные ^орзины, с^м^и, ф^тляры, с^н-д^^и бере^^т вещи от посторонне^о ^лаза. В транзитных местах личные вещи становятся предметом беспо^ойства их владельца: «Не нравится процед^ра досмотра. С^м^и ^ходят в неизвестном направлении» (Ю.В. В-н, 1963 ^.р.) Та^им образом, лишение привычных для повседневной жизни вещей еще больше ^с^^^бляет сит^ацию не^^орененности, нестабильности, а появление «бесхозных вещей» провоцир^ет ^силение ^онтроля.
Итак, подведем итоги
По нашем^ мнению, отношение ^ транзит-ном^ пространств^ ^а^ ^ «не-мест^» рас^рывается через содержательное наполнение пра^ти^ ожидания. Б^д^чи формально наполнены и действием, и физичес^им прис^тствием, транзитные места на символичес^ом ^ровне ^одифицир^ются ^а^ отс^тствие и перерыв в пото^е жизни.
Современные пра^ти^и ожидания выражают ^^льт^рные стереотипы традиционной р^сс^ой ^артины мира по отношению ^ дорожной си-т^ации. Пра^ти^и ожидания ментально соединяются с доро^ой, а не с домашним бытием и реа-лиз^ют идею «отторжения от домашне^о». На наш вз^ляд, в мировосприятии современно^о челове^а происходит перемещение ф^н^ции небытия с до-ро^и на «транзитные места».
Транзитные пространства подпадают под ^ате-^орию «не-мест», т.е. антрополо^ичес^и не освоенных пространств, в ^оторых нет личностно^о прис^тствия. Они не остаются в памяти, не мар-^ир^ются символами, пространственно не ран-жир^ются, что особенно яр^о выявляется на пространствах железнодорожных во^залов и в меньшей степени – на азрово^залах, особенно современных.
Пра^ти^и ожидания реализ^ют мар^инальный сценарий поведения челове^а, ^ ^оторо^о в момент ожидания возни^ает ч^вство не^^оренен-ности, непринадлежности ^ ^а^ом^-либо сооб-ществ^. Возможно, по этой причине современные во^залы и аэропорты отдельными исследователями хара^териз^ются ^а^ эпицентры оп^сто-шения [6, с. 174].
Список литературы «Посидим на дорожку»: транзитные практики ожидания
- Айер П. Жизнь транзитного пассажира [Электронный ресурс]//Рус. журн. 1998. URL: http://old.russ.ru/jornal/persons/9 (дата обращения: 23.09.2010).
- Аренд Х. Vita aktiva или о деятельной жизни. СПб: Алетейя, 2000. 430 с.
- Быховская И.М. Homo somatikos: аксиология человеческого тела. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 208с.
- Гайденко П.П. Проблема времени в философии жизни//Антропология культуры. М.: ОГИ, 2002. Вып. 1. С. 151-181.
- Запорожец О., Лавринец Е. Хореография беспокойства в транзитных местах: к вопросу о новом понимании визуальности//Визуальная антропология: городские карты памяти/под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 45-66.
- Козлова Н.И. Социально-историческая антропология. М.: Ключ-С, 1998. 192 с.
- Матвеев А.В. Михалева Т.В. Традиционная культура передвижения человека…//Культурологические исследования в Сибири. Омск, 2001. № 1. С. 138-143; № 2. С. 117-125.
- Неклюдов С.Ю. Движение и дорога в фольклоре [Электронный ресурс]//Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für Slavistik. Jahrgang LII, 2. Reiseriten -Reiserouten in der russischen Kultur. München. S. 206-222. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/necludov (дата обращения: 14.03.2008).
- Оже М. От города воображаемого к городу-фикции [Электронный ресурс]//Худож. журн. 1999. № 24. URL: http://www.guerman.ru/zx (дата обращения: 6.05.2010).
- Потрохова М.В., 1975 г.р. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sibmuseum.ru (дата обращения: 20.04.2010).
- Трубина Е. Видимое и невидимое в повседневности городов//Визуальная антропология: городские карты памяти/под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 17-44.
- Цивьян Т.В. Семиотические путешествия. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. 247 с.
- Черепанова О.А. Путь и дорога русской ментальности и в древних текстах [Электронный ресурс]//Материалы XXYIII межвузовской научно-методической конференции. СПб.,1999. Вып.7. С.29-34. URL: http://www.sibmuseum.ru/ways_and_roads/biblio/(дата обращения: 14.03.2008).
- Щепанская Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв. М.: Индрик, 2003. 343 с.
- Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. М.: Гардарика, 1998. 400 с.
- Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Социальная антропология. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 416 с.