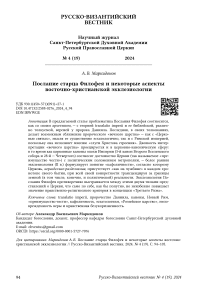Послание старца Филофея и некоторые аспекты восточно-христианской экклезиологии
Автор: Маркидонов А.В.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 4 (19), 2024 года.
Бесплатный доступ
В предлагаемой статье проблематика Послания Филофея соотносится, как со своим архетипом, - с теорией translatio imperii и ее библейской, различно толкуемой, версией у пророка Даниила. Последняя, в своих толкованиях, делает возможным сближение пророческого «вечного царства» - как с «Церковью святых», мысля ее существенно эсхатологично, так и с Римской империей, поскольку она исполняет миссию «слуги Христова строения». Двоякость интерпретации «вечного царства» проецируется и в церковно-каноническую сферу: в то время как церковные каноны эпохи Империи (3-й канон Второго Вселенского собора и 28-й - Четвертого) соотносят достоинство Церкви (так называемое «преимущество чести») с политическим положением метрополии, - более ранняя экклезиология (II в.) формулирует понятие «кафоличности», согласно которому Церковь, нераздельно-разделяемая, присутствует «как на чужбине» в каждом хронотопе своего бытия, при всей своей конкретности трансцендируя за границы земной (в том числе, конечно, и политической) реальности. Экклезиология Послания Филофея противоречиво выстраивается между этими двумя типами представлений о Церкви, что само по себе, как бы попутно, но неизбежно повышает значение нравственно-религиозного критерия в концепции «Третьего Рима».
Translatio imperii, пророчество даниила, каноны, новый рим, «преимущество чести», кафоличность, эсхатологизм, «ромейское царство», неповрежденность веры и нравственная безукоризненность
Короткий адрес: https://sciup.org/140308454
IDR: 140308454 | УДК: 930.1(450+571)(091)+27-1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_4_94
Текст научной статьи Послание старца Филофея и некоторые аспекты восточно-христианской экклезиологии
Нина Васильевна Синицына, автор наиболее обстоятельного исследования концепции «Третьего Рима», полагала, что «задача, которую предстояло решить Филофею Псковскому, находилась в сфере экклезиологии и эсхатологии; политическое содержание в ней также присутствовало, но оно не было определяющим»1.
Подчеркнем, что речь идет, в нашем случае, именно о Послании дьяку Мисюрю Мунехину 1523 — нач. 1524 г., а не о его редакциях и интерпретациях уже XVI, а тем более последующих столетий. Развертывая и конкретизируя наблюдение Н. В. Синицыной, следует отметить, что экклезиологическое, эсхатологическое и политическое измерение (и содержание) концепции старца Филофея находятся в сложном, напряженном и подвижном соотношении друг с другом, порою сближаясь до неразличимости, а порою различаясь до противопоставления.
Начнем с того, что концепция «Третьего Рима» в Послании актуализирует — и на уровне авторского сознания и, за его границами, объективно-исторически — сложный многогранный комплекс своеобразной культурно-исторической проблематики. В первую очередь, речь идет, конечно, об идее и практике translatio imperii, европейский, «римский» извод которой (именно, — не смена, а translatio, перенос, передача того же самого) заявлен и поэтически осуществлен в «Энеиде» Вергилия. Осмыслен и воспет поэтически параллельно с тем, что осуществлен, завершен политически Октавианом Августом.

Бегство Энея из Трои. Худ. Ф. Бароччи, 1598 г.
Сквозной мотив поэмы Вергилия: созидание разрушенной Трои в новом географическом и историческом пространстве и в новом времени. Троя воссоздается в Риме, можно сказать, что Рим — новая, вторая Троя. Эней спасает из разрушительного огня, погубившего Трою, отца, сына и пенатов — богов-хранителей города. По легенде, он построил храм пенатов, вывезенных из Трои, в Элее в южной Италии. В пенатах — сакральная субстанция места, города.

Камень, разрушающий «колосс на глиняных ногах».
Фрагмент фрески «Сон Навуходоносора» монастыря Дечаны, ок. 1350 г.
Достигнув земли латинян, Эней опознает приметы родительского пророчества: «там обретешь пристанище ты, истомленный» и «Тотчас: „Привет тебе, край, что судьбою мне предназначен! — молвит он. — Вам привет, о пенаты верные Трои! Здесь наш дом и родина здесь!..“»2 Посредством сакральной (а в языческом сознании одновременно и непротиворечиво: сакрально-политической) идентичности (пенаты те же), — Рим и Троя — одно. Имея в виду это сакрально-политическое тождество в отношении городов, а потом — империй, — и можно было сказать: «Империя не умирает. Она передается» (Ф. И. Тютчев)3.
Параллельно европейскому изводу темы translation imperii существует ее «восточная» (библейская) версия и парадигма, описанная в книге пророка Даниила (2 гл.), где судьбы Римской империи, согласно христианским толкованиям, вовлечены в ретроспективу истории восточных царств (Вавилонского, Персидского, Греческого) — в порядке их последовательной смены.
Судьбы истории, как в «Энеиде», так и в Библии, раскрываются в форме пророчества — как «божественное откровение». Так, в «Энеиде» Юпитер предвозвещает: «Ромул род свой создаст, и Марсовы прочные стены Он возведет, и своим наречет он именем римлян. Я же могуществу их не кладу ни предела, ни срока, Дам им вечную власть»4.
Здесь однозначно речь идет о Риме, уже во времена Августа (Тибул), если не раньше, осознаваемом как «вечный город».
Не так ясно — с пророчеством Даниила: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно…» (Дан 2:44).
В данном случае истолкование «вечного царства» двояко: или оно мыслится, например, у Ипполита Римского (III в.), как христианское «небесное Царство Святых, которое никогда не будет разрушено»5, а значит, и как «камень» (Дан 2:34), ниспро- вергающий царства этого мира; либо — «вечное царство» сближается с реальностью Римской империи, обретающей в христианской истории миссию «слуги Христова строения» (Козьма Индикоплов) и даже — «удерживающего» мир от наступления господства Антихриста.
Если в первой версии толкования Церковь, олицетворяющая «вечное Царство святых», оказывается в напряженном отношении к империи, тяготеющем к антагонизму или во всяком случае — к экзистенциальной разномерности (Церковь в империи как на чужбине), то вторая версия порождает феномен «христианской имперско-сти» — со всеми его и достижениями, и соблазнами. Тысячелетняя история Византии (а также — опыт «священной Римской империи германской нации») — тому пример.
Важно отметить, что доминирование принципа «христианской имперскости» в византийскую эпоху не исключило присутствие, а значит, и влияние эсхатологического опыта и эсхатологической концепции «вечного царства» — как уже присутствующего в Церкви, но еще не раскрывшегося в зримой полноте, сроки осуществления которой (так сказать, кайрос Царства) совпадают с концом истории. Так, житие святого Кирилла-Константина рассказывает: «„Какое, — обращается Константин Философ к иудеям, — вы думаете, царство разумел Даниил под железным царством?“ Они отвечали: „Римское“. „А камень, отторгнутый от горы не руками, Кто есть?»“ — спросил их Философ. „Помазанный“, — отвечали они (и продолжали): „Если же, как ты говоришь, Он уже пришел, то каким образом Римское царство доселе сохраняет господство?“ Философ отвечал: „Оно уже не сохраняет; ибо прошло, как и прочие. Наше царство не римское, но Христово“»6.
Замечательно, что Мефодие-Кирилловский перевод пророчества Даниила имеет и отличную от вошедшей в церковный обиход версию: «И во дни царей тех, — читаем мы здесь, — воздвигнет Бог небесное царствие , иже во веки не истлеет…»7 Как видим, вместо «Бог небесный» здесь стоит «небесное царствие», что, конечно, определенно эсхатологизирует понятие и природу мессианского царства. Причем, такая эсхатоло-гизация «царства» ничуть не отменяет для Константина Философа (св. Кирилла) политическую конкретность и значимость римского начала. В другом месте житийного рассказа он подчеркивает, что «мы все (по примеру Христа) даем дань римлянам»8. В эсхатологическом измерении присутствия Небесного Царства здешнее, римское, «уже прошло», но в измерении текущем, историческом, оно пребывает9.
Таким образом, можно сказать, возвращаясь к факту двоякого истолкования пророчества Даниила, что Церковь, выходя в своей исторической (историко-канонической) практике к взаимоотношению с империей, принимая в учет реальность политического начала, сохраняла при этом свою глубинную эсхатологическую природу, препятствующую (например, в феномене монашества и юродства) ее (Церкви) непротиворечивому согласованию с этосом и укладом византийской общественной жизни.
Говоря об источниках концепции старца Филофея, исследователи иногда упоминают, но, на наш взгляд, недостаточно сильно акцентируют и не вполне раскрывают значение 3-го канона Второго Вселенского Собора в Константинополе и 28-го канона Халкидонского Собора.
Как известно, вскоре после Никейского Собора, как пишет об этом церковный историк Сократ Схоластик, — «царь (Константин) расширил город (Византий), сравнял его с царственным Римом и, переименовав в Константинополь, предписал законом называть его вторым Римом. Этот закон выбит был на каменном столбе и для всеобщего сведения выставлен на так называемом военном поле близ конной статуи царя»10.
Перед нами — один из примеров translation imperii в духе европейской (условно говоря, «вергилианской») традиции. Происходит это при епископе города Александре (314–337), который с этого времени «именуется епископом Нового Рима»11.
Этот факт и закрепляется, попутно оформляя и регулируя вопрос о «преимуществах» (τα πρεσβεια) известных церквей, в 3-м каноне Второго Вселенского Собора 381 г.: «Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по римском епископе, потому что город этот есть новый Рим»12.
Развернутая мотивация названного «преимущества чести» дается в 28-м правиле Четвертого Вселенского Собора следующим образом: «Ибо престолу ветхого Рима отцы прилично дали преимущества, поскольку то был царствующий город. Следуя тому же побуждению, и 150 боголюбезнейших епископов предоставили равные (των ισων) преимущества святейшему престолу нового Рима, справедливо рассудив, да город, получивший честь быть городом царя и синклита и имеющий равные преимущества с ветхим царственны Римом, и в церковных делах возвеличен будет подобно тому и будет второй после него»13.
Итак, достоинство «царствующего града» — «города царя и синклита» — является причиной усвоения церковному престолу Константинополя «преимущества чести». Таким образом, названные политические основания получают здесь значение эккле-зиологическое — хотя бы и, как кажется, на самой периферии канонической жизни Церкви: как преимущество «чести», но не «власти». Правда, что касается Римской церкви, то она или не хотела видеть, или не понимала значение этого различия (между «честью» и «властью») и воспринимала 28-е правило Халкидонского Собора как покушение на первенствующее положение римской кафедры. В отдаленной исторической перспективе озабоченность Рима окажется не беспочвенной. Сейчас важнее отметить, что Римская церковь, возводящая свое достоинство к апостольскому авторитету и евангельской истории (то есть речениям Самого Спасителя), отказывалась, для определения канонического статуса кафедры, принимать в учет мотивацию политическую (статус города, в данном случае). Для восточных же, как мы уже сказали, выход в область политического пространства, как, в известном смысле, включенного, интегрированного в каноническую жизнь Церкви, представлялся оправданным. Хотя следование логике и истории начала политического (translatio «царствующего града») не проецировалось в церковную область с абсолютной непротиворечивостью. Очевидно, например, что «западных» не могло не насторожить следующее выражение 28-го правила: «И 150 боголюбезнейших епископов предоставили равные (των ισων) преимущества святейшему престолу нового Рима…» В самом деле, идентичность, политическое и юридическое тождество ветхого и нового Рима — поскольку этим именно мотивировано возвышение Константинополя — требует такого же тождества и церковных престолов, — «чтобы город, получивший честь быть городом царя и синклита и имеющий равные преимущества с ветхим царственным Римом, и в церковных делах возвеличен был подобно тому и будет второй после (μετα) него»14. Как видим, однако, «равенство», заявленное как характеристика и для политического, и для церковного положения дел, — в области церковной, в конечном счете, уступает место «подобию».
Впрочем, по версии Аристина (XII в.), следующего старым схолиям на церковные каноны, «предлог „по“ („после“) здесь означает не честь, но время, подобно тому, как если бы кто сказал: по многом времени и епископ Константинопольский получил равную честь с епископом Римским»15.
Кстати сказать, именно такое толкование предлога «μετα» мы находим в Славянской Кормчей: «А еже рече правило, по римском почтен есть, не о том глаголет, якоже римскому честию большу быти, и по нем константиню граду почтену быти, но о сказании времене се речено есть: якоже се рекл бы некто, якоже по многих летех равныя чести римскому епископу, и константиня града епископ сподобися»16.
Вполне вероятно, что в такой редакции и с таким толкованием знал эти правила и старец Филофей. Впрочем, в самой византийской традиции преобладающим становится толкование Зонары и Вальсамона, усвоивающее предлогу «μετα» значение различия в степени самой чести, а не во временной последовательности ее восприятия.
Возвращаясь к самому 28-му правилу и психологически принимая в учет западную к нему недоверчивость, следует отметить в настоящем каноне еще одно противоречие в логике соотношения «политического» и «церковного». В самом деле, если церковное достоинство (пусть в регистре «чести») мотивировано актуальным положением города как «царствующего града», то почему же утрата (скажем осторожнее, постепенная утрата) этого положения ветхим Римом не влечет за собой, в глазах «восточных», обесценивания его «первенствующего» статуса и в «церковных делах»? А о положении, в этом смысле, константинопольского патриарха после оккупации Византии турками нечего уже и говорить.
Очевидно, что политическая мотивация церковного достоинства той или иной кафедры не определяет этого достоинства исчерпывающе, не покрывает целиком перспективы возможностей канонической жизни даже в одной только ее, ограниченной темой «преимуществ», области.
Итак, в названных правилах, транслирующих статус церковного престола вслед и на основании трансляции престола политического, мы видим, конечно, установление связи того (церковного) и другого (политического) начала. Эту связь, в границах определенной канонической темы, можно охарактеризовать как сближение и, наконец, известное взаимосоответствие политического и церковного, и даже: церковного — политическому. Но остается, как мы отчасти указали, и какая-то область неопределенности: концы с концами не сходятся, логика «соответствия» имеет выборочно-фрагментарный характер, толкования правил не во всем согласованы и — благодаря всему этому — церковная сторона дела как бы сохраняет за собой если не свободу, то открытость (или свободу как открытость), в числе прочего, и для нового осмысления, нового порядка отношений с «политическим» началом.
И если иметь в виду только предельные, полярные (хотя реально-исторически все-таки не взаимоисключающие) формы этого «порядка отношений» в восточнохристианской церковной истории, то речь должна идти о двух разных формах церковного сознания, церковного опыта. Одна из этих форм, по сути отправляясь от содержания только что рассмотренных нами канонов, опираясь в них на идею взаимосоответствия «политического» и «церковного», «замораживает» эту идею, блокирует в ней ту подвижность, которая обеспечивается лакунами в ее аргументации, — и постулирует неразрывное единство империи и Церкви. Так, в 1393 г. константинопольский патриарх Антоний пишет великому князю московскому Василию I, который, — говоря «Церковь имеем, а царя не имеем», — отказывался поминать византийского монарха: «Невозможно христианам иметь Церковь, а царя не иметь. Царство и Церковь имеют между собой тесное единение и общение, и невозможно отделять одно от другого»17.
Но есть и другой полюс в восточно-христианском экклезиологическом сознании и опыте, исторически и собственно экклезиологически наиболее изначальный — такой, в котором эсхатологическое измерение Церкви предпослано ее истории и эту историю невидимо, но и непрерывно сопровождает, одновременно, — и придавая ей со-териологический смысл, и нейтрализуя в ней претензии различных форм политической реальности на сколько-нибудь конституирующе значимое положение в Церкви.
В четвертой книге свой Церковной истории Евсевий Кесарийский приводит текст послания Смирнской Церкви другим Поместным Церквам о мученичестве св. Поликарпа († 157). Самое начало послания таково: «Церковь Божия, нашедшая пристанище в Смирне (η παροικουσα Σμυρναν), Церкви Божией в Филомелии и всем во всех местах, где нашла пристанище святая кафолическая Церковь (και πασαις ταις κατά παντα τοπον της αγιας καθολικης Εκκλησιας παροικιαις) — милость, мир и любовь Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа…»18
Слово «παροικουσα», переведенное здесь как «нашедшая пристанище», восходит к глаголу, исходная форма которого — «παροικεω» — на языке Нового Завета означает: «жить чужеземцем в какой-либо стране, быть чужим». Так же и существительное «παροικια» значит — «пребывание или жительство на чужой стороне». Все это о положении Церкви в космосе и истории. Ключевая же характеристика самой Церкви содержится здесь в слове «καθολικης» (кафолическая). В дошедших до нас текстах для определения Церкви это слово используется второй раз. Впервые оно прозвучало, тоже в связи со Смирнской Церковью, в послании Смирнянам сщмч. Игнатия Антиохийского: «Где будет епископ, — пишет он здесь, — там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь»19.
Переводы этого слова (καθολικης) или его истолкование (когда оно употребляется без перевода, как, например, в названии западной церкви) чаще всего неудачны; καθ, ολον указует на такой способ существования Церкви, когда во всем , при всей его конкретности и неисчерпаемом многообразии, сохраняется ее целостность и неделимость, ее тождество себе — как согласие со Христом, как Его в ней действительное присутствие.
Неудачность переводов предопределена их почти неизбежной «частичностью»: «целое» пытаются определить через разные «частичные» формы «универсальности» — пространственные, временные, социально-юридические и т. д. Принимая это во внимание, св. Кирилл Иерусалимский, например, в истолковании «кафоличности» просто перечисляет «основные» формы «универсальности», в этом случае передавая смысл слова «кафоличность» не посредством определения, в строгом смысле, но описательно, — и это весьма осторожный и вместе наглядный способ о ней говорить20.
Чаще, как, например, в переводе «вселенская» (или «повсеместная», как в русском издании свт. Кирилла Иерусалимского), берется одна из характеристик (одно из «частичных» проявлений «универсальности») и по факту делается попытка распространить ее на весь объем содержания слова «кафолическая». Но этот объем по определению (καθ, ολον) неисчерпаем, ибо согласно целому в Церкви именно все , а сама целостность неформализуема — ασχετος — никак и ни в чем: «неудержима», как переводят это слово в творениях Дионисия Ареопагита. Такое положение дел связано с парадоксом Церкви, с ее эсхатологической сущностью — как действительного, конкретного присутствия в мире и в истории того , что «не от мира сего».
Такое видение, такой опыт не оставляет места и возможности для какой бы то ни было конституирующе значимой инкорпорации «космо-политического» сущего во внутреннее бытие Церкви — во всем Церковь остается инаковой всему. Одна и та же Церковь, во всей полноте и самоидентичности, — кафолично «находит себе пристанище», «пребывает как на чужбине» и свидетельствуя о воскресении Христа, «со страхом проводит время странствования» своего (της παροικιας…χρονον — 1 Пет 1:17) — в любом месте и народе ойкумены, с одинаковой безущербностью21.
Представляется, что экклезиология Послания старца Филофея (1524 г.) крайне напряженно и неоднозначно оформляется как бы между двумя полярными возможностями ее построения. В одном случае речь идет о взаимосоответствии (и даже «нераздельном единстве») Церкви и политического локуса ее пребывания; в другом — о всегда и «неудержимо» трансцендирующем за пределы своей земной (и не только пространственной, но и временной социальной) локализации присутствии Церкви в истории, о последовательно эсхатологическом несовпадении ее с формами и интенциями посюсторонней реальности, ее — посреди них — актуальная инаковость .
У Филофея движению экклезиологической мысли между двумя ее, выше обозначенными, пределами сопутствует неравнозначность и трудно уловимая динамика в содержании одного из ключевых понятий Послания — «Ромейское царство». Термин «Ромейское царство», отмечает Н. В. Синицына, «трижды использован в Послании (в разных значениях), и каждый раз в ключевых фрагментах, своего рода опорных точках в развитии авторской мысли…»22
В первом фрагменте термин заявлен от лица «латынян» в следующем контексте: «…Како Гречьское царство разорися и не созиждется, сиа вся случися грех ради наших, понеже они предаша православную греческую веру в латынство. И не дивися, избранниче Божий, яко латыни глаголют: наше царство Ромейское недвижимо пребывает, аще быхом неправо веровали, не бы Господь снабдел нас. Не подобает нам внимати прельстем их, во истину суть еретицы, своею волею отпадше от православ-ныя веры христианьския, паче же опресночнаго ради служениа»23.
Логика высказывания здесь достаточно противоречива: с одной стороны, разорение Греческого царства мотивировано искажением православной греческой веры «ла-тынством»; с другой стороны, когда такую мотивацию применяют «латыни» в свою пользу и от «недвижимости» своего царства заключают к «правоте» веры, — автор
Послания отказывает такому соответствию (материального — духовному, внешнего — внутреннему, политического — вероисповедному) в доказательности, называет это «прелестью», а в следующем фрагменте прямо утверждает факт несоответствия , разлада между политической стабильностью, независимостью и — чистотой веры: «Аще убо великого Рима стены и столпове и трекровныя полаты не пленены, но душа их от диавола пленены быша опреснок ради. Аще убо Агарины внуци Гречьское царство приаша, но веры не повредиша, ниже насильствуют греком от веры отступати»24.
«Ромейское царство», в контексте вышеуказанной проблематики, в первом фрагменте устами «латынян» определено как, прежде всего, реальность политическая, но обеспеченная в своей «недвижимости» правостью вероисповедания, с ним неразрывно связанная и, собственно говоря, его в этой «правости» выявляющая.
Но второй фрагмент, с использованием выражения «Ромейское царство», как было отмечено, демонстрирует решительный разрыв «политического» и «вероисповедного», их возможное историческое несоответствие: так в политически свободном Риме «души от диавола пленены», а греки, напротив, соблюдают «неповрежденность веры» в условиях политической зависимости.
После того как в толковании Филофея связь «политического» с «вероисповедным» утрачивает сколько-нибудь необходимый характер, становится подвижной, необязательной, порой эфемерной и, во всяком случае, свободной, формируемой изнутри самого веросознания, — и понятие «Ромейского царства» высвобождается из области «политического», начинает сопутствовать теме Церкви, ее — в истории — олицетворяя. Именно тогда, когда «вера» и «царство» выведены из состояния необходимого соответствия, имея в виду утверждение о таковом, старец Филофей пишет: « Инако же Ромейское царство неразрушимо, яко Господь в Римскую власть написася»25.
В отличие от имеющегося в русском переводе «однако», мы настаиваем на сохранении «инако» в его соответствии старославянскому «иначе» — «по-другому».
«Ромейское царство», в силу того, что «Господь в Римскую власть написася» перерастает свои этнополитические границы, отрывается от своей узко-исторической почвы, приобретает характер метаисторический или собственно религиозный с его парадоксом — присутствия в истории (как бы по образу Христа) того, что выше истории — «не от мира сего». Этот эсхатологический парадокс христианского опыта и задает определенный смысловой вектор теме «Ромейского царства» как, по сути, теме Церкви в истории, теме ее кафолического присутствия в материи космо-политического сущего.
-
Н. В. Синицына также обращает внимание, что «Ромейское царство» — не государственно-политическое образование, но духовное христианское царство, возникшее в эпоху Воплощения Слова…» (или «нисходящее с небес вечное царство», по словам Г. Подскальского)26.
И вот, когда инаковость «Ромейского царства» — через соотношение с Воплощением Господа, с Его вовлеченностью в историю — внятно заявила о себе в тексте Послания, автор снова, в расширенном контексте, обращается к теме взаимосоответ-ствия «политического» и «экклезиологического». Звучит и развивается византийский мотив царя как блюстителя (не толкователя, но хранителя) веры; византийскому положению монарха как «дефензора и эпистимонарха» Церкви вторит, одновременно перенимая и эсхатологизируя эту миссию, утверждение Послания о наличии «единого христианом царя (как бы по образцу послания патриарха Антония Константинопольского) и броздодрьжателя святых Божиих престол святыя вселенскиа апостоль-скиа Церкве, иже вместо римскои и констянтинопольскои, иже есть в богоспасеном граде Москве святого и славнаго Успения Пречистыя Богородица, иже едина вселен-неи паче солнца светится»27.

Государь Великий Князь Василий Иоаннович (Василий III).
Из альбома «История Государства Российского в изображениях державных его правителей с кратким пояснительным текстом». Худ. В. П. Верещагин, 1896 г.
И как будто речь идет уже не о взаимосоответствии только «политического» и «экклезиологического», царства и Церкви, но — об их совпадении (если «Ромейское царство» олицетворяет Церковь в истории), ибо «вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино царьство нашего государя, по пророческим книгам то есть Ромейское царство. Два убо Рима падоша, а третии стоит, а четвертому не быти. Многажды и апостол Павел поминает Рима в посланиих, в толковании глаголет: Рим весь мир»28. Итак, «царство нашего государя» есть «Ромейское царство». Неслучайно, в поздних редакциях Послания вместо «ромейское» будет стоять «российское».
Но «сопадение» это, после ранее осуществленного прояснения инаковости «Ромейского царства» своим земным воплощениям, должно быть понято не как нераздельное единство «политического» и «экклезиологического», но — кафолически, по подобию раннехристианскому свидетельству о том, что «святая кафолическая Церковь» всецело «пребывает» и «находит пристанище» (παροικουσα) «во всяком месте», где соблюдается чистота веры, ибо «где Христос, там и кафолическая Церковь»29. Потому-то и «Рим — весь мир».
Так что «совпадение» здесь не нивелирует глубокое и никак ни в чем не растворимое различие природы экклезиологического и политического начал; оно опосредует их только нравственно-религиозно. «Совпадение» относится к возможной полноте исторической явленности Церкви «здесь и теперь», то есть все-таки — к мере соответствия обстоятельств истории миссии Церкви, соответствия, актуализируемого нравственно-религиозно, — не механически и не канонически.
Можно сказать, что соответствие политического экклезиологическому сохраняется, но уже не как данность, а «по пророческим книгам»30 — оформляясь в горниле истории, а раньше — в человеческой душе, в ее свободе — свободе соблюдать чистоту веры и нравственную безукоризненность или отступаться от них. А потому, настаивает Послание, — «подобает царствующему держати сие с великым опасением и Богу обращением, не уповати на злато и богатьство изчезновеное, но уповати на все дающего Бога»31.
Современный исследователь так передает развитие мысли Филофея в послании, обращенном к великому князю: «Обстоятельства сложились так, что „все христианские царства слились в одно твое“ — это только данность, это только условие, которое есть. Но будет ли Москва Третьим Римом, окажется ли Москва местом, где Господь устами пророка Давида сможет сказать: „Се покой Мой, в век века, зде вселюся, яко изволил его“? Бытие третьего Рима зависит от того, насколько будет услышан правителем земли Русской — московским князем Василием, призыв следовать и исполнять уставы и законы тех, кто уже на деле, в жизни, эти заветы осуществил, то есть устроил всю жизнь во всем ее многообразии на основах христианской веры»32.
Список литературы Послание старца Филофея и некоторые аспекты восточно-христианской экклезиологии
- Беляев С. А. От митрополита Илариона к старцу Филофею // Римско-константинопольское наследие на Руси: идея власти и политическая практика. М., 1995.
- Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1979.
- Евсевий Памфил. Церковная история. М., 1993.
- Евсеев И. Книга пророка Даниила в древне-славянском переводе. М. 1905.
- Ириней Лионский, св. Творения. М., 1996.
- Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 1991.
- Кормчая (Номоканон). СПб., 1998.
- Красножен М. Толкователи канонического кодекса Восточной Церкви: Аристин, Зонара и Вальсамон. Юрьев, 1911.
- Легеев М., свящ, Макаров Д. И., Василик В., протодиак., Даренский В. Ю., Скотникова Г. В., Сокурова О. Б., Кибальниченко С. А., Стогов Д. И., Павлюченков Н. Н., Ермишина К. Б., Иванов И., свящ, Гаврилов И. Б. «Москва — Третий Рим»: к 500‑летию русской средневековой историософской концепции. Материалы круглого стола научного проекта СПбДА «Византийский кабинет» // Русско-Византийский вестник. 2024. № 4 (19). С. 34–73.
- Петр (Л’Юилье), архиеп. Правила четырех Вселенских Соборов. М. 2005.
- Писания мужей апостольских. М., 2003.
- Послание старца Филофея // Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции. М., 1998. Приложение № 1. С. 339–346.
- Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М., 1998.
- Сократ Схоластик. Церковная история. М., 1996.
- Стремоухов Д. Москва — Третий Рим: источники доктрины // Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. М., 2002.
- Тахиаос А.-Э. Н. Святые братья Кирилл и Мефодий, просветители славян. Сергиев Посад, 2005.
- Швейцер А. Жизнь и мысли. М., 1996.