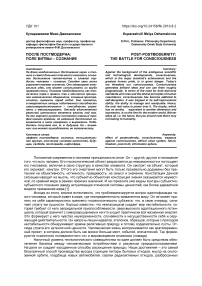После постмодерна: поле битвы - сознание
Автор: Купарашвили Мзия Джемаловна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2019 года.
Бесплатный доступ
На фоне неоднозначных достижений науки и техники в самой большой опасности оказалось основное достижение человечества и главная гордость человека - сознание. Сегодня сама эпоха угрожает нашему сознанию. Оно генерирует гениальные идеи, оно может использовать их грубо прагматически. Понимая необходимость как технических норм и правил, так и этических принципов человеческого общежития, сознание пристрастилось лукавить перед собой. Оно оказалось в невероятных клещах собственной способности самосовершенствования - способности управлять и манипулировать. Отсюда единственной реальной ценностью является власть над ним. На кон мировой рулетки поставлен главный трофей нашего времени, не имеющий достойного эквивалента в ином измерении и выражении. Победитель получает все, т. е. будущее. Но - внимание: оно может принадлежать не человечеству.
Эффект постмодерна, сознание, консциентальное оружие, этическая система ценностей, будущее, свобода, постправда, инфосфера
Короткий адрес: https://sciup.org/149134035
IDR: 149134035 | УДК: 101 | DOI: 10.24158/fik.2019.8.2
Текст научной статьи После постмодерна: поле битвы - сознание
Положение современного человека принципиально иное. Он – другой, другое и понимание того, что есть человек. Его гносеологический объект разрастается до невозможности и поглощает его (человека), включая в свою структуру в качестве элемента. Он смотрит на объект, который его окружает, изнутри. Оттого его очертания могут быть только произвольно додуманы без претензии на объективность, истинность, правдивость, на смысл и значение. Констатация данной ситуации наводит на мысль, что субъектно-объектная конструкция знания оказывается неуместной, по крайней мере в рамках прежних значений. И на горизонте уже видны контуры субъектносубъектного познания (ввиду актуализации этической системы ценностей) как более адекватной модели присвоения мира [1].
Исходя из этого, вполне естественно, что проблематизируется вопрос идентификации такого человека, который живет в мире, где неопределенность имманентна миру. Он не может принять на себя характеристики прежнего гносеологического субъекта, что, в свою очередь, означает утрату им сущности. Хорошо известно, что неклассицизм создает мир нестабильности, которая требует от него запредельной приспособляемости, сверхвысокого адаптационного потенциала, который граничит с саморазрушением и на что уходит практически вся жизненная энергия. Это формирует у него чувство неукорененности, случайности и несущественности себя и окружающей действительности. Он напрочь лишен идеалов, эталонов, образцов, которые с приходом нестабильности обнаруживают крайне релятивную природу и потому содержательно пусты. Отсюда утрата его аутентичной ценности. Человеческая жизнь воспринимается как кратковременный проект, в котором должно быть как можно больше мест, событий, впечатлений. Так формируются психология поливалентного «я» и мировоззрение кочевника (номада).
Наличный уровень технологического совершенства по идее должен быть средством обеспечения баланса между человеческими потребностями и разумным природопользованием. На деле он создает изощренные способы расхищения природы. Наши достижения – это самый безупречный способ производства мусора (горящие гектары бытовых отходов, мусор на околоземной орбите, кладбища новых автомобилей, свалки радиоактивных отходов, разбросанных по всей планете, и т. д.). Признаются, поддерживаются и лоббируются только те научные и технологические разработки, которые связаны с большими доходами (генетика в целом и ГМО-тех-нологии в частности, нефтехимическая промышленность, разработки квазипищевых продуктов). Те открытия, которые связаны с дешевыми природосберегающими технологиями полного цикла, игнорируются, скрываются, часто способом прямого устранения открывателей и адептов, так как транснациональные корпорации не заинтересованы в них.
К концу постмодерна вся эта негоция доходит до предела. Неохотно, но постмодерн почти сошел с лица эпохи, оставив за собой в виде побочного эффекта актуальность введения принципов самосохранения: возвращения нравственных норм в пространство мысли, в сферу действительного, возможного и эффективного; реанимации полноценности субъекта (личности) в изменяющихся условиях; реабилитации автора как творца, созидателя, а не креативщика и инноватора; переоткрытия эстетики с принципами, согласованными с природной, космической и вселенской необходимостью. Что бы ни случилось, позитивное или деконструктивное, это уже не будет постмодерном. И в том и в другом случае эпоха потребует своего имени. Беспощадное и беспристрастное разрушение любых организующих принципов, нарраций и дискурсов принудительно выводит мировоззрение на широкое место обзора, открывая перед человечеством горизонты ожидания и возможные направления. В результате мы получили принципиально иное, интуитивно-положительное пространство мыследеятельности при отсутствии каких-либо внятных методов его организации. Сегодня мы имеем дело с до боли высветленной, осознанной и артикулированной проблемой ценности этической системы. Однако она находится на уровне «нулевой степени ясности» и ее применение в новых условиях - непосильный труд при отсутствии механизмов. Требование переоткрытия генетически необходимых положений этики, эстетики и гносеологии на понятном современнику языке - один из главных вызовов конца постмодернизма. Все это требует целенаправленного и хорошо осознанного действия, непосредственного подключения разумного (осторожного, бережного) планирования будущего.
Послепостмодерновая литература, критика и философия активно артикулируют и обсуждают возможные принципы нового телеономического, т. е. благоразумного видения мира, пытаясь фундировать сугубо разумное отношение к реальности [2]. Так, основной принцип конструирования внешней и внутренней среды человека - это сознательное и разумное управление будущим, так как уже в постмодерне приходит понимание того, что оно (будущее) без него уже не случится. В постмодерне данный принцип входит как целеполагание, а к концу постмодерна он становится основным полем битвы за будущее.
На фоне управляемого и активного разрушения с одной стороны аутентичности человека, а с другой - его социальной сущности развитие положительного эффекта постмодерна оказывается под большим вопросом. Динамика трансформации здесь выглядит следующим образом: если классику (научную, философскую, рациональную) интересовал предмет, который познается ( что познается), для модерна актуально исследование способа его познания ( как он познается), то уже постмодерну не интересно ни то, ни другое, главным стал вербальный, самодовлеющий дубликат среды. Эта тенденция привела к абсолютизации средств выразительности, прежде всего языка. Сам же язык в контексте информационных технологий претерпел мотивационную реконструкцию, суть которой - избавить язык от статуса открывателя истины.
Относительно познавательных конструктов можно утверждать, что субъектно-объектная структура познавательной деятельности классической философии в модерне помещается в культурное или историческое пространство. В постмодерне же субъект познания оказывается внутри познаваемого объекта, а сам объект как структурная единица познания стремится к нулю, исчезает (как минимум в его традиционном смысле), что сигнализирует о необходимости реорганизации и реконструкции принципов объективности. Помимо всего этого, данное обстоятельство предваряет исключительно иное положение и мировоззрения, и познания и ведет к подступам субъектно-субъектной структуры восприятия мироздания.
Постпостмодернистское состояние непосредственно сегодняшнего дня, когда указанные эффекты обозначены, столкнулось с весьма неприятным, сильным и опасным фактом - с осознанной и целенаправленной войной против самой сущности человека, с его идентичностью. Основное поле битвы сегодня не Ирак, Сирия или Ливия, а сознание человека. Существование этого конфликта оставляет все эффекты постмодерна за бортом возможного и действительного, в сфере должного и желаемого. В чем же опасность и высокая вероятность отрицательного исхода?
Так сложилось, что наша цивилизация построена вокруг производства и усовершенствования оружия уничтожения всей живой природы, флоры, фауны и человека. Наличная история -это история войны. Не имея более надежной «ценности», на каждом этапе развития цивилизация внедряет войну во все сферы человеческого существования. Ее называют в честь сильного пола мужской цивилизацией. Так выглядит прогресс, все передовое связано с феноменом войны, усовершенствованием уничтожающей мощности оружия. Всему без исключения, что попадало в орбиту ее заинтересованности, наша цивилизация придавала форму войны, противостояния и дележа. В конце ХХ в. она приходит к своему логическому концу – по-своему совершенному и изощренному в средствах. В наше время демонстрацией этого конца являются конструирование пространства постправды и применение консциентального оружия.
Видный представитель Московского методологического кружка Щедровицкого Юрий Вячеславович Громыко в начале нулевых (2002) читал лекции о консциентальном оружии и консциентальных войнах. Слово «консциентальное» означает войну с сознанием, за сознание и в самом сознании. В конечном итоге консциентальное оружие создается и применяется для разоружения (разрушения) сознания. Основной целью его применения является ломка всех конвенций, ограничений, правил, норм, обеспечивающих сохранение человека и человечности. Технология применения данного вида оружия предполагает осуществление демонстративного, бездонного по жестокости, аморальности и насилию действия на локальной территории. Именно такой тип действия, демонстративный и обсуждаемый, размывает потенциал человечности. После состоявшегося, продемонстрированного и обсуждаемого локального обвала норм усиливается эффект отрицательно дозволенного. Следующий шаг предлагает расширение и углубление вседозволенности.
По мнению Громыко, Война в Персидском заливе (1990–1991) и первая (1994–1996) и вторая (1999–2000) чеченские кампании были особыми войнами, в которых средства массовой информации этих государств выступали против них самих. После этих конфликтов военно-промышленный комплекс существенно дополнился массмедийным комплексом, в рамках которого вопрос отражения войны на экране стал едва ли не главным системным элементом военной операции, а средства массовой информации – демонстрационной площадкой общественной реакции на то, как эти события показываются и вписаны в природу осуществляемых военных действий. Если до этого военная журналистика выступала и рассматривалась как донесение информации до обывателя, где журналист находился в стороне от военных действий, являлся наблюдателем, то начиная с указанных войн средства массовой информации оказываются включены внутрь этих действий [3]. Это означает, что СМИ становятся оружием и работают по соответствующим законам – по военным законам. То, что СМИ обнаружили подобную трансформацию, также можно вписать в эффекты постмодерна.
Так мы оказались в эпохе постправды . Понятие недвусмысленно указывает на ситуацию, когда истина становится не принципиально важной. «В инфосфере, как на реальном поле боя, действует принцип “все для фронта, все для победы”. Неважно, кто, что и насколько правдиво сообщает. Главное, что информация наносит вред врагу и укрепляет собственную идентичность. Любые войны, и информационные – не исключение, предполагают четкое планирование и беспрекословное подчинение. Соответственно, времена постправды – это эпоха тотального управления информационными потоками, программирующими и алгоритмизирующими массовое поведение» [4].
Постправда – вид консциентального оружия. Беда в том, что те (народ), против кого оно направлено, не знают об этом. Ее конечный «противник» также не знает, что он находится в состоянии войны. Этот главный «противник» – сознание. Основной предмет потребления сознания – информация, без нее оно не может функционировать. Инфосфера сегодня отравлена, в нее добавляют яд, и не только в виде постправды. Чтобы выжить, сознание должно обладать определенным орудием обработки такой информации, противоядием.
Консциентальное оружие ведет войну против идентичности человека, с тем, как современный человек себя идентифицирует. Цель консциентальных войн – уничтожение идентификационных оснований, аутентичности, т. е. подлинности. Идентификация включает в себя гендерную определенность, религиозную принадлежность, язык, фундаментальные общечеловеческие и культурно-национальные ценности. Средство доставки оружия до противника, которое принимается на легальной основе, – это экран. Поскольку любая традиция создает специальные защитные механизмы против чисто произвольных форм идентификаций, обозначений и именований себя, именно с аутентичностью ведется глобальная, почти имперсональная война, чаще всего от имени международных организаций. Защитные механизмы культурно-национальной идентичности – основная мишень международных организаций и их законодательных инициатив о сексменьшинствах, толерантности, семье и браке, защите прав детей (ювенальная юстиция), мультикультурности и т. д.
Чтобы человек мог иметь определенное и аргументированное мнение о ситуациях, предметах, событиях, ему необходимо иметь точку опоры: «…в оценке события центральным моментом является точка отсчета. <…> Т. е. один из наиболее важных моментов, с которым мы сталкиваемся при анализе проблемы консциентального оружия и консциентальных войн, заключается в том, что просто наблюдать событие невозможно. Чтобы получить доступ к событию, должна быть задействована специальная огромная информационная машина, потому что то, что наблюдается, оказывается сформировано и сделано» [5].
Основной враг реализации положительных эффектов постмодерна – смертельная война с сознанием. Глобальное подчинение сознания сторонней воле уничтожит все положительные возможности новой эпохи. Вольный, творческий, свободолюбивый феномен сознания оболванивается, подвергается круглосуточной бомбардировке под прикрытием заботы и уважения, расщепляя его монолитность и направляя его не только в порочные русла (легализированную похоть, дозволенные наркотики, воровство, грабеж), но и в русло самоуничтожения. «Свобода – это вседозволенность», – внушают сознанию, что равносильно суицидальности с его же помощью и им же созданными средствами. «Нет незыблемых правил человеческого общежития, делай что пожелаешь», – поощряют сознание, не сообщив о том, что его наплевательское к другим отношение – законная основа плевать на него. «Право выбора – твое исконное», – сообщают сознанию и предлагают заведомо ограниченный список вариантов или почти полный за исключением единственного необходимого варианта.
Оформление консциентального оружия и совершенствование технологий ведения им войны против познающего и понимающего сознания становится угрозой для всех перспективных идей и сводит к нулю эффект постмодерна. Современное состояние цивилизации настоятельно требует осознанного и целенаправленного действия совокупного человечества. Мир человека больше никогда не будет спонтанной данностью его спонтанной деятельности, случайным всплеском исторических событий. Все, что будет с нами, будет результатом ручного (осознанного) управления. Факт наличия консциентального оружия – опасный фактор, так как осознанное, целенаправленное, ручное управление с его применением будет иметь только отрицательный результат. Чудовищное расслоение общества на меньшинство, которое будет претендовать на управление, и большинство, которое будет управляемо, будет означать утрату оснований человечности. Т. е. большинство преднамеренно будет отстранено от способности думать и принимать решения, будет работать и реализовать свои силы, даже не подозревая о таких возможностях. Консциентальное оружие внедряет все это в повседневную жизнь как очевидность и по умолчанию. Вывод здесь только один: у человечества будущего не будет.
Таким образом, сделаем следующие неоднозначные выводы. Окружающий мир в качестве имманентного признака обнаруживает случайность. Однозначно известно, что неоднозначность – признак времени. Определенная неопределенность повсюду и положение нестабильных истин, вещей и ситуаций стабильно. В любом случае человечество стоит на пороге великих изменений и ясно, что может случиться непоправимое, когда о величии этих событий некому будет рассказывать, если степень их «величия» покинет сферу притяжения человечности. Рефлексия происходящего и идейное строительство пространства для существования человека в будущем во многом дело рук философии, прежде всего в качестве мировоззрения. Прямая обязанность философии – распахать целину будущего. Вспоминаются слова Дж. Локка: философия должна видеть в себе «простого рабочего, занятого лишь на расчистке почвы и удалении части мусора, лежащего на пути к знанию» [6, с. 85]. Думаем, что в контексте постпостмодерна ничего не изменилось, слова Локка в силе. Мы вступаем в новый мир, и прерогатива философии – очертить горизонт событий грядущей эпохи.
Ссылки:
-
1. См., например: «Грядущее поколение философов устроит настоящую бурю»: Джесси Принц об эмпирическом повороте в философии [Электронный ресурс] // LiveJournal. 2015. 2 февр. URL: https://m-introduction.livejour-
nal.com/813985.html (дата обращения: 12.08.2019) ; Williamson T. The Philosophy of Philosophy. Malden ; Oxford, UK ; Carlton, 2008. 320 p.
-
2. Childish B., Thomson Ch. Remodernism // Supplanting the Postmodern. An Anthology of Writings on the Arts and Culture of the Early 21st Century / ed. by D. Rudrum, N. Stavris. Ch. 7. N. Y. ; L., 2015. P. 101–110.
-
3. Громыко Ю.В. Консциентальное оружие и консциентальные войны. Лекция [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. 2007. 26 февр. URL: https://gtmarket.ru/library/articles/782 (дата обращения: 12.08.2019).
-
4. Ларина Е., Овчинский В. Парадокс Ферми и угрозы будущего [Электронный ресурс] // Завтра.ru. 2018. 27 авг. URL: http://zavtra.ru/blogs/paradoks_fermi_i_ugrozi_budushego (дата обращения: 12.08.2019).
-
5. Громыко Ю.В. Указ. соч.
-
6. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Сочинения : в 3 т. : пер. с англ. Т. 1. М., 1985. С. 78–582.
Список литературы После постмодерна: поле битвы - сознание
- «Грядущее поколение философов устроит настоящую бурю»: Джесси Принц об эмпирическом повороте в философии [Электронный ресурс] // LiveJournal. 2015. 2 февр. URL: https://m-introduction.livejournal.com/813985.html (дата обращения: 12.08.2019); Williamson T. The Philosophy of Philosophy. Malden; Oxford, UK; Carlton, 2008. 320 p
- Childish B., Thomson Ch. Remodernism // Supplanting the Postmodern. An Anthology of Writings on the Arts and Culture of the Early 21st Century / ed. by D. Rudrum, N. Stavris. Ch. 7. N. Y.; L., 2015. P. 101-110. DOI: 10.5040/9781501306907.ch-007
- Громыко Ю.В. Консциентальное оружие и консциентальные войны. Лекция [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. 2007. 26 февр. URL: https://gtmarket.ru/library/articles/782 (дата обращения: 12.08.2019)
- Ларина Е., Овчинский В. Парадокс Ферми и угрозы будущего [Электронный ресурс] // Завтра.ru. 2018. 27 авг. URL: http://zavtra.ru/blogs/paradoks_fermi_i_ugrozi_budushego (дата обращения: 12.08.2019)
- Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Сочинения: в 3 т.: пер. с англ. Т. 1. М., 1985. С. 78-582