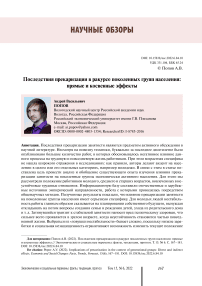Последствия прекаризации в ракурсе поколенных групп населения: прямые и косвенные эффекты
Автор: Попов Андрей Васильевич
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Научные обзоры
Статья в выпуске: 6 т.15, 2022 года.
Бесплатный доступ
Последствия прекаризации занятости являются предметом активного обсуждения в научной литературе. Несмотря на новизну тематики, буквально за последнее десятилетие было опубликовано большое количество работ, в которых обосновывалось негативное влияние данного процесса на трудовую и повседневную жизнь работников. При этом возрастная специфика не нашла широкого отражения в исследованиях: как правило, авторы делают акцент на населении в целом или его отдельных категориях, например молодежи. В связи с этим в статье поставлена цель провести анализ и обобщение существующего опыта изучения влияния прекаризации занятости на поколенные группы экономически активного населения. Для этого мы рассмотрели положение работников молодого, среднего и старших возрастов, вовлеченных в неустойчивые трудовые отношения. Информационную базу составили отечественные и зарубежные источники эмпирической направленности, работа с которыми проводилась посредством общенаучных методов. Полученные результаты показали, что влияние прекаризации занятости на поколенные группы населения имеет серьезную специфику. Для молодых людей нестабильность работы главным образом сказывается на планировании собственного будущего, вынуждая откладывать на потом вопросы создания семьи и рождения детей, ухода из родительского дома и т. д. Затянувшийся транзит к стабильной занятости наносит вред психическому здоровью, что сильнее всего проявляется в зрелом возрасте, когда неустойчивость становится частью повседневной жизни. Выбраться из «ловушки нестабильности» бывает сложно, поскольку низкие заработки и социальная незащищенность ограничивают возможность изменить текущее положение вещей. Последствия прекаризации занятости для пожилых людей носят неоднозначный характер. Однако даже с учетом всех недостатков неустойчивых трудовых отношений наличие хоть какой-нибудь работы зачастую является необходимостью для поддержания привычного образа жизни. Основное ограничение проведенного исследования заключается в обобщении информации, полученной с использованием различных понятийных конструкций и методического инструментария.
Прекаризация, неустойчивая занятость, поколенные группы, рынок труда, нестандартная занятость, уровень жизни, молодежь, среднее поколение, пожилые
Короткий адрес: https://sciup.org/147239213
IDR: 147239213 | УДК: 331.104 | DOI: 10.15838/esc.2022.6.84.10
Текст научной статьи Последствия прекаризации в ракурсе поколенных групп населения: прямые и косвенные эффекты
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-01043 в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова.
Переход человечества к информационному обществу оказывает существенное воздействие на занятость населения. Наиболее заметно это проявляется в индустриально развитых странах, где еще столетие назад были сформированы общие принципы, определяющие характер взаимоотношений между субъектами рынка труда. Речь идет о стандартной модели занятости, под которой понимается «занятость по найму в режиме полного рабочего дня на основе бессрочного трудового договора на предприятии или в организации, под непосредственным руководством работодателя или назначенных им менеджеров» (Гимпельсон, Капелюшников, 2005, с. 3). Такие условия наилучшим образом подходили для массового выпуска продукции и удовлетворения потребностей промышленности в квалифицированных кадрах. При этом наемные работники, объединенные профсоюзным движением, отличались социальной защищенностью и возможностью отстаивать свои трудовые права. Как бы то ни было, дальнейшее развитие технологий и ряд других факторов привели к тому, что на первый план вышел третичный сектор экономики, занятость в котором превысила 70% в странах с высоким уровнем дохода (50% в мире)1. Лейтмотивом современности становится гибкость, которая находит отражение в распространении срочных трудовых договоров и неформальных трудовых отношений, сокращении продолжительности рабочего времени и т. д. В свою очередь нестандартные формы занятости (временная, неполная, удаленная, самозанятость и др.), зачастую используемые работодателями для быстрой адаптации к последствиям финансово-экономических кризисов2, приобретают все большую популярность как перспективный способ организации трудовой жизни, в т. ч. благодаря раскрытию потенциала цифровых платформ. Согласно оценкам, в странах ОЭСР свыше половины рабочих мест, созданных в 1995–2013 гг., были нестандартными. На конец рассматриваемого периода их совокупная доля достигла порядка 33%3. Таким образом, происходит становление новой парадигмы занятости, свойственной очередному этапу общественного развития (Кастельс, 2000, с. 200).
Вместе с тем многообразие практик участия населения в оплачиваемой трудовой деятельности, часть из которых не имеет социальных гарантий или плохо поддается правому регулированию (например, самозанятость), способствует усилению различий в качестве занятости. На фоне флексибилизации рынка труда и глобальной неопределенности качество занятости все чаще зависит от устойчивости положения работника. Подобный дискурс получил развитие в теории прекаризации, акцентирующей внимание на вопросах дестабилизации общества, где ключевая роль отводится эрозии ранее гарантированных условий стандартной занятости4 (Неустойчивая занятость…, 2018, с. 32). Негативные последствия данного процесса многогранны и проявляются как на индивидуальном, так и на организационном (несмотря на возможность извлечения ситуативной выгоды) и общественном уровнях (Попов, Соловьева, 2019). При этом в отчетах Международной организации труда подчеркивается, что признаки прекарности могут наблюдаться и в рамках стандартной модели занятости, в то время как далеко не все гибкие ее формы приводят к социальной уязвимости5. В этом плане устойчивость положения работников обусловливается не только типом контрактных соглашений (по сроку и природе трудовых отношений), но и конкретными условиями труда (размер заработной платы, доступ к механизмам социальной защиты и т. д.)6.
Как показывают исследования, для населения развитых стран нестандартная занятость является весьма распространенным способом выхода на рынок труда (Kapsalis, Tourigny, 2005), а также рассматривается как промежуточный этап на пути к более благоприятным условиям труда (Gash, 2008). Однако осуществить такой переход получается далеко не всегда, в результате чего можно оказаться в «ловушке нестабильности», ограничивающей возможности улучшения позиции на рынке труда и в обществе. Нахождение в такой ситуации по-разному сказывается на работниках в зависимости от продолжительности трудовой карьеры. Для одних это может быть началом профессионального пути, когда основную ценность представляет сам факт начала трудовой деятельности, а для других – удобным случаем, чтобы подзаработать на пенсии. В связи с этим фактор возраста имеет едва ли не важнейшее значение при анализе последствий прекаризации занятости, если оставить за рамками повествования наименее конкурентоспособные группы на рынке труда (женщины с маленькими детьми, люди с ОВЗ, иностранные мигранты и др.). В частности, неустойчивость трудовых отношений может стать серьезным препятствием для молодых людей на пути к взрослой жизни: обретению финансовой независимости, уходу из родительского дома, созданию семьи, рождению детей (Miguel Carmo et al., 2014) и т. д. Даже цифровые платформы, столь популярные среди молодежи, не сильно сглаживают проблему, поскольку значительное число их сотрудников лишены социального обеспечения, а также подвергались или были свидетелями дискриминации или до-могательств7. Опыт России свидетельствует о том, что переход от учебы к стабильной или удовлетворительной занятости может достигать порядка 4 лет в случае, когда это не получилось сделать с первого раза (Российская молодежь…, 2016, с. 63–64).
Цель нашего исследования заключается в анализе и обобщении отечественного и зарубежного опыта изучения влияния прекаризации занятости на поколенные группы экономически активного населения. Для этого мы рассмотрим положение работников молодого, среднего и старшего возрастов, которые имеют неустойчивые трудовые отношения.
Степень проработанности проблемы
Тематика прекаризации занятости стала предметом активного обсуждения в научной литературе с начала 2000-х годов, когда распространение «нестандартных» рабочих мест в индустриально развитых странах привело к обострению вопросов социальной защищенности работников. Этому также способствовали кризисы последующих лет и замедление темпов экономического роста, вынуждающие хозяйствующие субъекты сокращать издержки, в т. ч. на рабочую силу. Несомненный прорыв в исследовании и популяризации феномена пре-каризации связан с именем Г. Стэндинга, опубликовавшего в 2011 году книгу «The Precariat. The New Dangerous Class» (Standing, 2011), в которой ученый изложил свои взгляды на классовую структуру нового общества. Одной из особенностей этого времени является возникновение прекариата – многочисленной социально-экономической группы (затрагивает около четверти взрослого населения), лишенной большинства прав и гарантий. В таких случаях принято говорить об имманентной нестабильности, препятствующей реализации трудовых и жизненных планов. Подобные идеи нашли широкий отклик в отечественной социологии, углубившей представления о теории и методологии изучения прекариата, масштабах и специфике его формирования в России (Голенкова, Голиусова, 2013; Шкаратан и др., 2015; Прека-риат…, 2020). Как правило, в предложенных авторами подходах и оценках наблюдаются существенные различия, что связано с отсутствием четких критериев классообразования.
Наряду с этим для анализа процесса прека-ризации занятости используется категория «неустойчивая занятость»8, прочно вошедшая в научный обиход благодаря работам Дж. Берджесса, Л. Воско, А.Л. Каллеберга, И. Кэмпбелла, Г. Роджерса, Дж. Фадж и др. В отличие от устоявшейся терминологии она характеризует не какие-то конкретные формы трудовых отношений или их сочетание (впрочем, некоторые из них используются при выявлении общих тенденций и закономерностей (Cranford et al., 2003; Kim et al., 2008)), а скорее описывает состояние (Бобков, Черных, 2014, с. 30), при котором работник подвергается уязвимости и социальной незащищенности, связанными с особенностями организации трудового процесса9. Обычно здесь имеются в виду как объективные предпосылки (отсутствие или ограниченность социальных гарантий, низкий уро- вень оплаты труда, неформальность занятости и т. д.), так и субъективные оценки (невозможность отстаивать свои трудовые права, обеспокоенность угрозой потерять работу, неудовлетворенность условиями труда и др.). Кроме того, все большее внимание уделяется фактору вынужденности (Неустойчивая занятость…, 2018, с. 6; Одегов, Бабынина, 2018, с. 393), который позволяет отделить неустойчиво занятых от тех, кто добровольно выбрал такой путь для достижения собственных целей. Хотя на практике провести раздел бывает достаточно сложно.
С определенной долей условности можно сказать, что неустойчивая занятость является основанием отнесения работников к числу пре-кариев, однако такие параллели следует проводить весьма осторожно, поскольку последние могут включать в себя и другие категории населения. Как бы то ни было, каждый из обозначенных концептов является самостоятельным в контексте изучения последствий феномена прекаризации. И если в англоязычной научной литературе чаще упоминается неустойчивая занятость, то в русскоязычной – прекариат10. При этом понятийный аппарат регулярно смешивается, в результате чего имеющиеся различия в исследовательских направлениях становятся не столь заметны с содержательной точки зрения.
В рамках тематики прекаризации особое место занимают работы, посвященные изучению ее эффектов в контексте перспектив занятости населения, обеспечения достойного уровня и качества жизни. В силу ограниченности официальной статистики чаще всего приходится иметь дело с данными, получение которых требует проведения конкретных эмпирических исследований (массовые опросы, углубленные интервью и т. д.), что является весьма трудоемкой задачей. Именно таким образом были выявлены закономерности, касающиеся негативного влияния рассматриваемого процесса на материальное благополучие, состояние здоровья, репродуктивные планы, возможность повышения квалификации, социальную инклюзию11 и т. д.
В этом отношении вопросам здоровья отводится едва ли не приоритетное значение в узкоспециализированных публикациях, где обосновывается взаимосвязь неустойчивости положения работников с усталостью, нарушением сна и диеты, стрессом, мышечной болью (Benavides et al., 2000; Bohle et al., 2004) и другими аспектами. Данные проблемы также находят отражение в разрезе отдельных социально-демографических групп населения, хотя, если они не входят в предметную область исследования, то упоминаются лишь вскользь.
Как было сказано ранее, фактор возраста представляет большой интерес при анализе последствий прекаризации занятости, поскольку позволяет не только выявить особенности положения поколенных групп, но и определить их перспективы как на рынке труда, так и за его пределами. В научной литературе встречаются отдельные исследования, в которых затрагиваются вопросы субъективного благополучия работников различного возраста (Jetha et al., 2020; Кученкова, 2022), однако в основном делается акцент на какой-то одной категории населения. Мы бы хотели проанализировать и обобщить существующий опыт в этой области, что может способствовать лучшему понимаю многогранности последствий прекаризации занятости и возможных направлений по их преодолению.
Материалы и методы
При проведении исследования мы обратились к отечественной и зарубежной научной литературе, посвященной влиянию прекаризации занятости на поколенные группы работников, а именно молодое, среднее и старшее поколение. Такое разделение отражает важнейшие этапы жизненного пути человека, связанные с выходом на рынок труда, профессиональной зрелостью и завершением трудовой карьеры, что в конечном итоге определяет динамику материального благополучия населения (Бобков, Одинцова, 2021, с. 18). Несмотря на гетерогенность информационной базы (в т. ч. по территориальному признаку), мы намеренно говорим о поколенных группах, формирование которых произошло в один хронологический период времени. Предложенный подход идет вразрез с некоторыми положениями теории поколений, однако, по нашему мнению, может быть реализован в рамках настоящего исследования, поскольку сам феномен прекаризации не только является относительно новым для науки и практики, но и присущ, прежде всего, наиболее развитым странам, имеющим много общего в плане обеспечения условий для занятости населения. В свою очередь термин «возрастные группы» употребляется нами в качестве синонима.
Различия в понятийном аппарате и методических подходах (в т. ч. в части обоснования возрастных границ) не учитывались нами в анализе, что может накладывать ограничения на полученные выводы. Так, в одних публикациях выделяют признаки прекарности, характеризующие условия труда с объективной и субъективной точек зрения, а в других – наименее устойчивые формы трудовых отношений (прежде всего временная и неполная занятость). И в том, и в другом случае зачастую используется эталон, представляющий собой некий набор черт, свойственный стандартной модели занятости. Как правило, такое происходит, когда в качестве информационной базы выступают анкетные опросы, данные которых позволяют проводить сравнительный анализ и количественно оценивать параметры выявленных закономерностей. В этом плане качественные методы (в основном фокус-группы и глубинные интервью), также активно применяемые для изучения последствий прекаризации, дают возможность более детально подойти к вопросу раскрытия причинно-следственных связей. Все это накладывает серьезный отпечаток на характер полученных результатов, которые весьма сложно подвести под общий знаменатель. Схожим образом обстоят дела с межстрановыми особенностями, вносящими свои коррективы в понимание всей полноты и глубины возникающих эффектов.
Отбор источников осуществлялся в период с 15 июля по 2 августа 2022 года сплошным методом (в т. ч. без учета отраслевой принадлежности и года публикации работ) при помощи баз данных Google Scholar, Scopus, Web of Science и РИНЦ, а также поисковой системы Google. Поисковые запросы состояли из слов «прекаризация», «неустойчивая занятость» и «прекариат» (на английском языке – «precari-z(s)ation», «precarious work», «precarious employ-ment» и «precariat»). Выборочная совокупность составила 112 работ, большинство из которых было опубликовано в последнее десятилетие ( табл. 1 ).
Таблица 1. Характеристика начальной выборки
|
Молодое поколение |
Среднее поколение |
Старшее поколение |
|
|
Отобрано работ, ед. |
61 |
16 |
35 |
|
Годы публикаций, гг. |
1999–2022 |
2000–2022 |
2005–2022 |
|
Доля работ, опубликованных после 2010 года, % |
94,4 |
76,9 |
93,5 |
|
Доля источников на русском языке, % |
53,7 |
61,5 |
32,3 |
|
Примечание: работы, в которых затрагивалось несколько поколенных групп, учитывались по отдельности (двойной счет). Источник: составлено автором. |
|||
В дальнейшем литература «вручную» просматривалась на предмет наличия информации о последствиях прекаризации занятости для работников различных возрастных групп. При этом основной акцент был сделан на косвенных эффектах , выходящих за рамки сущностных признаков рассматриваемого феномена (низкая зарплата, отсутствие социальных гарантий, призрачные профессиональные перспективы и т. д.), который сам по себе имеет негативную коннотацию12. Для этого мы провели контент-анализ текста работ, в результате чего в итоговую выборку были включены те из них, где выявленные взаимосвязи подтверждены эмпирически . При подготовке текста статьи применялись общенаучные методы исследования.
Результаты исследования
Молодое поколение. В вопросах влияния пре-каризации занятости на положение работников центральное место отводится молодежи. Ее изучению посвящено большое количество научных трудов, в которых заостряется внимание на процессе перехода от учебы к оплачиваемой работе. Данный этап в жизни молодых людей сопряжен со множеством сложностей (недостаток опыта работы и квалификации, высокие материальные притязания и т. д.), препятствующих успешному трудоустройству. Неслучайно уровень молодежной безработицы в разы выше, чем среди взрослого населения13. В результате многие вынуждены соглашаться на неблагоприятные условия труда, лишь бы иметь хоть какую-нибудь работу, что особенно важно в периоды социально-экономической нестабильности. Нестандартные формы занятости, не говоря уже о неформальном секторе (Вольчик, Маслюкова, 2020), приобретают роль «оплота» при выходе на рынок труда (Papadakis et al., 2021). Отсутствие альтернативы приводит к тому, что чувство неопределенности воспринимается молодым поколением как часть взросления, очередная ступень на пути к устойчивому будущему (Burrows, 2013, p. 14; Eckelt, Schmidt, 2014, p. 145–146). Однако далеко не всегда этот транзит бывает легким.
Согласно данным лонгитюдного исследования, проведенного в Германии, лишь около четверти молодых людей осуществляют быстрый переход к постоянной и гарантированной работе, который в среднем составляет один год (Stuth, Jahn, 2020). Все остальные могут быть объединены в 5 кластеров («dropout / прекращение обучения», «express / экспресс», «return / возвращение», «slow transition / медленный переход» и «family / семья»), в зависимости от чего продолжительность неустойчивых трудовых отношений будет меняться. Например, для молодых мужчин, выбравших траекторию ранней занятости, она будет составлять почти 8 лет, а для девушек, которые досрочно прекратили обучение или вернулись к учебе, чтобы повысить квалификацию и избежать таким образом социальной незащищенности, порядка 3 лет.
Как правило, с неустойчивой занятостью молодежь сталкивается еще в студенчестве, совмещая учебу с подработками, которые могут принимать самые разные формы (от случайных заработков до работы неполный день). Такая практика широко распространена во всем мире и позитивно воспринимается молодыми людьми, поскольку позволяет им не только получить необходимый опыт работы, но и приблизиться к обретению финансовой независимости. Обратная сторона ранней занятости заключается в ухудшении академической успеваемости и снижении количества времени, затрачиваемого на учебу, что может подталкивать к попаданию в «ловушку нестабильности» (Srsen, Dizdarevic, 2014, p. 165–166). Впоследствии возможно формирование прекарного габитуса , характеризующего стиль жизни индивида, где неопределенность является ее неотъемлемой частью (Тартаковская, Ваньке, 2019, с. 110–111). Последствия таких преобразований сложно переоценить.
Прекаризация занятости несет в себе множество негативных эффектов, затрагивающих как трудовую, так и повседневную жизнь молодежи. И если в первом случае влияние не столь заметно (Кученкова, 2022, с. 115–116), поскольку первый выход на рынок труда сам по себе имеет множество преимуществ, о которых говорилось выше, то во втором – носит исключительно деструктивный характер. В частности, словенскими учеными установлено, что вовлеченность в неустойчивые трудовые отношения оборачивается для молодого поколения более высокими показателями неудовлетворенности жизнью, частоты симптомов тревоги и депрессии, а также эмоционального истощения, которое в свою очередь приводит к внутреннему выгоранию (Umicevic et al., p. 239). Такие состояния связывают с экстремальными требованиями, предъявляемыми к психическому здоровью молодых работников, что оборачивается избыточными нагрузками и стрессом.
Необходимость постоянно думать о «настоящем» из-за навязчивого чувства незащищенности отрицательно сказывается на способности принимать взрослые решения, планировать собственное будущее и принимать на себя обязательства, в т. ч. в вопросах создания семьи. Подобные заявления были сделаны молоды- ми учеными, занимающими позиции в крупном австралийском университете на условиях временного или срочного контрактов, в ходе углубленных интервью (Bone, 2019). Это позволило авторам исследования заключить, что неустойчивая занятость существенно ограничивает переход к взрослой жизни вне зависимости от образовательных достижений или престижа профессий. Схожие выводы наглядно представлены и в других публикациях (Chan, Tweedie, 2015; Lewchuk, 2017;), где с помощью количественных и качественных методов также было обосновано желание молодежи отложить рождение детей в силу невозможности обеспечения их должным уходом (как в материальном плане, так и в плане доступа к базовым социальным гарантиям, свободного времени и т. д.).
Обозначенные аспекты вызывают наибольший интерес в исследовательской среде, что обусловлено долгосрочным характером последствий прекаризации занятости и сложностью найти стабильную работу для молодых людей. Иные стороны их жизни затрагиваются гораздо реже. В отдельных работах можно увидеть, например, попытки оценить влияние неустойчивой занятости на участие в выборах, однако эмпирические данные свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи (наиболее сильная корреляция наблюдается с показателем автономности работы) (Robert et al., 2017, p. 133).
Среднее поколение. В отличие от молодежи когорте среднего возраста практически не уделяется внимания в научных источниках. Это обусловлено тем, что она считается наименее уязвимой с точки зрения возможностей удовлетворения своих потребностей и необходимости социальной поддержки. Как и в случае с населением в целом, к представителям среднего поколения применим достаточно широкий спектр негативных проявлений прека-ризации занятости, среди которых снижение материальной обеспеченности, социальной защищенности, ухудшение состояния здоровья, рост неопределенности в отношении личност-ных/семейных и профессиональных перспектив (Попов, Соловьева, 2019, с. 185–187).
В немногочисленных исследованиях по данной тематике показано, что зрелые работники характеризуются наиболее стабильной занятостью (Кученкова, 2022, с. 111–113).
Однако именно они испытывают самую сильную неудовлетворенность работой и жизнью, когда трудовые отношения становятся менее устойчивыми, что также приводит к росту обеспокоенности относительно неясности в оплате труда и к жалобам на плохие условия труда. По всей видимости, причины этого кроются в обязательствах (бытовых, семейных, финансовых, имущественных и т. д.), от которых попросту нельзя отказаться. Впрочем, наличие определенного бремени как раз может побуждать к быстрому поиску работы, обеспечивающей необходимый уровень заработка. На практике это может обернуться лишением всех социальных гарантий и полным бесправием работника, вынужденного мириться со сложившейся ситуацией.
Как уже было сказано ранее, прекаризация занятости оказывает серьезное воздействие на процессы перехода к взрослой жизни. Отсутствие социальных гарантий и возможностей для карьерного роста, нестабильность в оплате труда приводят к трудностям в создании семьи (Piotrowski et al., 2015). Исследования показывают, что нестабильность трудовых отношений заметно снижает вероятность реализации репродуктивных намерений, особенно для женщин с высоким уровнем образования (Pailhe, Solaz, 2012). Длительное нахождение в статусе случайно занятых для женщин к 35 годам сокращает шансы на рождение первенца (Steele et al., 2014, p. 158).
Негативное влияние прекаризации занятости проявляется и в снижении здоровья среднего поколения. Данные проспективного когортного исследования Whitehall II, начатого в Лондоне среди офисного персонала в возрасте 35–55 лет в 1985 году, свидетельствуют о том, что работники, длительно находившиеся в состоянии нестабильности, имели самые высокие уровни заболеваемости, в частности сердечно-сосудистыми патологиями (Ferrie et al., 2002, p. 451–452). С другой стороны, даже если в период трудоспособности люди не испытывали видимых проблем, будучи вовлеченными в неустойчивую занятость, то по достижении ими старших возрастов это может сказаться на состоянии здоровья, снижении доступа к медицинской помощи, размере пенсии. Так, длительная неформальность трудовых отно- шений имеет негативные последствия в виде «серых» пенсий, когда страховой стаж и объем официальных отчислений недостаточны для пенсионных накоплений14. Кроме того, в силу отсутствия уверенности в завтрашнем дне может развиться склад ума, препятствующий долгосрочному планированию15 (Vulnerable workers…, 2010, p. 45), что не может не сказаться на материальном и духовном благополучии человека.
Особенно уязвимой является категория предпенсионеров. Для того чтобы сохранить работу и, как минимум, доработать до пенсии, им приходится мириться с переходом на частичную занятость или менее квалифицированную работу, снижением оплаты труда, ограничением служебного продвижения (Черных и др., 2020, с. 1183–1184) и т. д. Работники старше 50 лет в большей степени подвергаются опасности долгосрочной безработицы16. В связи с этим выход на заслуженный отдых может отягощаться целым рядом проблем, вызванных неустойчивостью трудовых отношений.
Старшее поколение . Пожилые люди традиционно относятся к социально уязвимым категориям населения17, что по сравнению с другими возрастными группами проявляется в более низких показателях здоровья, уровня дохода, доступа к получению различных благ и т. д. По причине снижения ресурса здоровья старшее поколение обладает относительно невысокой производительностью и значительными экономическими потребностями (Aisa et al., 2012). Однако на практике это может компенсироваться наличием профессиональных навыков и опыта.
Решение о продолжении трудовой деятельности в пенсионном возрасте принимается под влиянием не только состояния здоровья, но и ряда иных факторов, таких как уровень материального благосостояния, удовлетворенность условиями труда, желание работать дальше и др. Если за рубежом, в частности в Европе, пожилые люди, как правило, не настроены продолжать работать после выхода на пенсию18, то в условиях российской действительности в большинстве своем работа на пенсии носит вынужденный характер. В основном это обусловлено неудовлетворительным пенсионным обеспечением и стремлением сохранить приемлемый уровень жизни19.
С точки зрения уязвимости пожилые люди зачастую сталкиваются с явной и скрытой дискриминацией на рынке труда (Иванова, 2019), характеризующейся ограничениями при приеме на работу, установлении оплаты труда, карьерном росте. Поэтому для того чтобы трудоустроиться или остаться на рабочем месте, им приходится соглашаться на менее привлекательные условия. Все это создает предпосылки для прекаризации занятости пенсионеров. Согласно исследованиям, значительная их часть имеют низкооплачиваемую работу в неформальном секторе, случайную занятость или являются самозанятыми низкой квалификации либо вообще неквалифицированными (Reddy, 2016). При этом выбор той или иной формы работы может быть как добровольным, так и вынужденным. Так, люди старшего поколения по ряду вышеперечисленных причин могут предпочитать гибкие формы работы. Если у человека имеется определенный финансовый резерв, то он с большей вероятностью предпочтет предпринимательство или самозанятость как варианты продолжения трудовой деятельности (Sahoo, Neog, 2015). К примеру, зарубежные исследования показывают, что самозанятость или частичная занятость играют важную роль для населения старше 65 лет (Casey, 2005, p. 625). Однако в первом случае возможностей получить более высокую пенсию при выходе на заслуженный отдых заметно меньше (Wahrendorf et al., 2016, p. 280). Для российских пенсионеров также важна гибкость занятости: при переходе в возрастную категорию 61–67 лет растет значимость фактора удобного графика и снижается роль карьерного продвижения и получения высокого дохода (Кипервар и др., 2022). С другой стороны, причина гибкости занятости может крыться в том, что со временем пожилые сотрудники становятся слишком «дорогими» для компании, и работодатели вынуждены сокращать их рабочие часы20.
В рамках исследования под руководством В.Н. Бобкова было выявлено, что в составе профилей неустойчивости работников старшее поколение преобладает в первой группе, в значительной степени характеризующейся индикаторами стандартной занятости (Бобков и др., 2018, с. 372–374). Однако представительство данной категории достаточно существенно и в других профилях, имеющих признаки неустойчивости. Так, в профиле № 4 с высоким уровнем прекаризации доля пенсионеров и предпенсионеров составляет порядка 23%, а в профиле № 5 (с доходом ниже 2/3 медианного) – 31%.
Исследование на базе РМЭЗ, проведенное в НИУ ВШЭ, показало, что большая часть пенсионеров работает полный рабочий день (Козина, Зангиева, 2018). Однако при условии смены работы по достижении пенсионного возраста в три раза чаще происходит перемещение в группу неформально занятых. Это говорит о возникновении соответствующих рисков прека-ризации при повторном выходе на рынок труда, поскольку чаще всего пожилые люди устраиваются на работу, где условия труда хуже, чем на предыдущем месте. Кроме того, зачастую наблюдается нисходящая профессиональная и карьерная мобильность.
В целом данные Международной организации труда позволяют говорить о том, что порядка 78% работников старше 65 лет вовлечены в неформальную занятость (в большинстве своем это характерно для развивающихся стран)21. Пенсионеры, работающие неофициально, испытывают дефицит средств для удовлетворения своих потребностей, ограничены в доступе к качественным медицинским услугам и проведению досуга, часто подвержены негативным чувствам вплоть до депрессии (Alvarez et al., 2016, p. 421–423; Маковская, 2020, с. 53). Риски оказаться за чертой бедности для старшего поколения выше, чем для других возрастных когорт (Lancker, 2012, p. 95–97). Особенно тяжело в подобной ситуации приходится одиноким пожилым женщинам (Lain et al., 2019).
Как уже было сказано ранее, прекаризация занятости приводит к ухудшению качества трудовой жизни населения (невысокая оплата труда, ограничение прав, меньшая удовлетворенность работой и т. д.), при этом в отношении людей пенсионного возраста практически не было попыток выйти за ее пределы. Ученые подчеркивают, что при оценке всего многообразия последствий необходимо принимать во внимание следующее: работники старшего поколения могут иметь не только заработную плату, но и иные источники дохода (пенсия, социальные пособия, доходы от предпринимательской деятельности и т. д.) (D’Amours, 2009, p. 213). В этом случае может возникать ситуация, когда занятость носит неустойчивый характер, но на общем доходе это не сказывается так явно.
Результаты всероссийского опроса работающего населения показывают, что чаще всего у людей старше 50 лет встречаются следующие признаки прекаризации занятости: отсутствие бессрочного трудового договора (47%), зарплата в конвертах (31%), неоплачиваемые больничный и отпуск (по 26%) (Кученкова, 2022, с. 107). Примечательно, что при увеличении их количества удовлетворенность рабочим местом снижается в меньшей степени, чем в других поколенных группах. В частности, пожилые люди демонстрируют меньшую чувствительность в отношении справедливости оплаты труда. По мнению автора исследования, это обусловлено необходимостью соглашаться на менее комфортные условия труда из-за рисков потери работы. В целом связь между уровнем прекаризации занятости старшего поколения и его субъективными оценками жизни статистически незначима.
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о том, что влияние прекаризации на поколенные группы населения не является одинаковым ( табл. 2 ), впрочем, как и трудовые стратегии людей, вовлеченных в неустойчивые трудовые отношения. Чаще всего в такой ситуации оказывается молодежь, поскольку «нестандартные» рабочие места предоставляют возможность совмещать учебу с работой или попросту выйти на рынок труда после завершения профессионального обучения. Продолжительность транзита к стабильной занятости зависит от многих факторов, при этом большинство молодых людей готовы мириться с текущим положением вещей: потенциальные выгоды в виде опыта работы и финансовой независимости компенсируют недостатки, в то время как единственной альтернативой зачастую выступает только безработица. Вместе с тем эмпирические данные показывают, насколько разрушительными могут быть косвенные эффекты прекаризации занятости. Они не только наносят серьезный вред психическому здоровью молодых работников, но и препятствуют их взрослению и социализации, вынуждая постоянно находиться в «подвешенном» состоянии и думать о насущных проблемах. В конечном итоге неустойчивость может стать стилем жизни, определяющим все дальнейшее поведение вне зависимости от образовательных достижений или престижа профессии.
Средняя поколенная группа лишена внимания академического сообщества. Причины этого могут быть связаны с тем, что в зрелом возрасте неустойчивая занятость наблюдается существенно реже, а ее проявления вызывают негативную реакцию со стороны работников, обремененных бытовыми, семейными, финансовыми и иными обязательствами. Напротив,
Таблица 2. Драйверы и последствия прекаризации занятости в разрезе поколенных групп
|
Молодое поколение |
Среднее поколение |
Старшее поколение |
|
|
Драйверы пре-каризации занятости |
|
|
|
|
Прямые последствия прекари-зации занятости |
Неблагоприятные условия труда, которые выражаются в низком уровне оплаты труда, отсутствии социальных гарантий (оплата больничного листа, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, отчисления в фонды и др.), невозможности отстаивать свои трудовые права, ограничениях карьерного роста, боязни потерять работу и т. д. |
||
|
Косвенные последствия пре-каризации занятости |
|
|
Релевантные сведения почти отсутствуют. Принимая во внимание прямые последствия прекаризации занятости, можно предположить, что их влияние на повседневную жизнь пожилых людей будет не столь значительным по сравнению с теми выгодами (трудовой доход, физическая активность, общение и т. д.), которые старшее поколение может получить, испытывая потребность в оплачиваемой работе на пенсии |
|
Источник: составлено автором. |
|||
в случае неудачного перехода от учебы к постоянной работе вопросы планирования будущего могут уйти далеко на периферию, а повседневные заботы займут центральное место и приобретут статус хронических. И если поначалу эти сложности не столь значимы, то со временем они все сильнее будут сказываться на трудовой и повседневной жизни, создавая угрозы достойной старости. Это касается даже тех моментов, когда уровень заработка соответствует относительно высоким стандартам потребления. Особенно подвержена рискам прекари-зации занятости категория предпенсионеров, которые нередко вынуждены мириться с неблагоприятными условиями труда для сохранения текущего места работы или непосредственно в процессе трудоустройства.
Несмотря на большой опыт работы и профессионализм, старшее поколение не отличается высокой конкурентоспособностью на рынке труда, а решение продолжать трудовую деятельность на пенсии принимается под влиянием внешних обстоятельств и во многом носит вынужденный характер, что создает предпосылки для неустойчивой занятости и нисходящей трудовой мобильности. Среди пожилых людей распространена работа по срочным договорам и в неформальном секторе, а также самозанятость, которые хоть и способствуют поддержанию привычного образа жизни, имеют уже не раз упомянутые в статье негативные стороны. В отобранной нами научной литературе почти нет релевантных сведений, которые бы могли пролить свет на косвенные эффекты пре-каризации занятости для старшего поколения. Может даже сложиться впечатление, что они не сильно заметны. И мы скорее склонны с этим согласиться, пока сам факт занятости в пенсионном возрасте остается необходимостью.
В заключение важно подчеркнуть, что последствия прекаризации занятости носят кумулятивный характер и со временем оказывают все более серьезное влияние на жизнь человека. Неслучайно проблемы перехода молодежи от учебы к стабильной работе оказываются в авангарде и вызывают наибольший интерес, если судить по количеству литературных источников, посвященных этому вопросу. Однако и другие поколенные группы не должны пропадать из фокуса внимания, поскольку сама по себе неустойчивость трудовых отношений порождает новые поведенческие паттерны, которые находят отражение в самых разных областях жизнедеятельности. С учетом понимания всей сложности исследовательского направления применение в равной степени как количественных, так и качественных методов сбора информации позволит выявить существующие закономерности и более детально подойти к вопросу раскрытия причинно-следственных связей. Этому будет также способствовать целостное понимание сущности и способов изучения процесса прекаризации занятости, который в настоящее время раскрывается в категориях «неустойчивая занятость», «прекариат» или попросту в наименее устойчивых формах трудовых отношений. Такое разнообразие точек зрения позитивно сказывается на формировании общего представления о последствиях рассматриваемого феномена, хотя и ограничивает возможности обобщения результатов исследования. В этом плане перспективным является использование программных продуктов для автоматизированного отбора научных источников и анализа их содержательного наполнения (по типу MAXQDA), что позволит снизить трудоемкость формирования информационной базы, а также повысить ее качество и полноту.
Список литературы Последствия прекаризации в ракурсе поколенных групп населения: прямые и косвенные эффекты
- Бобков В.Н., Квачев В.Г., Новикова И.В. (2018). Неустойчивая занятость в регионах Российской Федерации: результаты социологического исследования // Экономика региона. Т. 14. № 2. С. 366—379.
- Бобков В.Н., Одинцова Е.В. (2021). Материальное благосостояние россиян: межпоколенная дифференциация // Мир новой экономики. № 15 (2). С. 16-28. DOI: 10.26794/2220-6469-2021-15-2-16-28
- Бобков В.Н., Черных Е.А. (2014). Влияние неустойчивой занятости на переходы молодежи на рынке труда // Уровень жизни населения регионов России. № 3 (193). С. 23-55.
- Вольчик В.В., Маслюкова Е.В. (2020). Нестабильность занятости и поведенческие предпочтения выпускников университетов // Journal of Institutional Studies. № 12 (4). С. 112-125. DOI: 10.17835/20766297.2020.12.4.112-125
- Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. (2005). Нестандартная занятость и российский рынок труда. М.: ГУ ВШЭ. 36 с.
- Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В. (2013). Новые социальные группы в современных стратификационных системах глобального общества // Социологическая наука и социальная практика. № 3 (3). С. 5-15.
- Иванова М.А. (2019). Спрос на пожилых работников и дискриминация по возрасту. Международный опыт и российские реалии // Вопросы экономики. № 6. С. 99-121. DOI: 10.32609/0042-8736-2019-6-99-121
- Кастельс М. (2000). Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ. 608 с.
- Кипервар Е.А., Побиянская А.В., Дубровин А.М. (2022). Трудовая мобильность лиц старших возрастных групп // Экономика труда. Т. 9. № 1. С. 149-160. DOI: 10.18334/et.9.1.113982
- Козина И.М., Зангиева И.К. (2018). Государственное и рыночное регулирование трудовой активности пенсионеров // Журнал исследований социальной политики. № 16 (1). С. 7-22. DOI: 10.17323/7270634-2018-16-1-7-22
- Кученкова А.В. (2022). Прекаризация занятости и субъективное благополучие работников разных возрастных групп // Социологический журнал. Т. 28. № 1. С. 101-120. DOI: https://doi.org/10.19181/ socjour.2022.28.1.8840
- Маковская Н.В. (2020). Гендерная прекаризация занятости в Беларуси // Социально-трудовые исследования. № 3 (40). С. 44-55. DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-44-55
- Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор сокращения (2018): монография / под ред. В.Н. Бобкова. М.: КНОРУС. 342 с.
- Одегов Ю.Г., Бабынина Л.С. (2018). Неустойчивая занятость как возможный фактор использования трудового потенциала молодежи России // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 4. С. 386-409. DOI: 10.14515/monitoring.2018.4.20
- Попов А.В., Соловьева Т.С. (2019). Анализ и классификация последствий прекаризации занятости: индивидуальный, организационный и общественный уровни // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 12. № 6. С. 182-196. DOI: 10.15838/esc.2019.6.66.10
- Прекариат: становление нового класса (2020) / под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга. 400 с.
- Российская молодежь на рынке труда: экономическая активность и проблемы трудоустройства в мегаполисе (2016) / под науч. ред. В.Н. Бобкова, А.А. Литвинюка. М.: РУСАЙНС. 230 с.
- Тартаковская И.Н., Ваньке А.В. (2019). Трудовые траектории прекарных работников и формирование прекарного габитуса // Социологический журнал. Т. 25. № 2. С. 99-115. DOI: 10.19181/ socjour.2019.25.2.6388
- Черных Н.А., Тарасова А.Н., Сырчин А.Е. (2020). Предпенсионеры на рынке труда Свердловской области: проблемы занятости и меры поддержки // Экономика региона. Т. 16. № 4. С. 1178-1192. DOI:10.17059/ ekon.reg.2020-4-12
- Шкаратан О.И., Карачаровский В.В., Гасюкова Е.Н. (2015). Прекариат: теория и эмпирический анализ (на материалах опросов в России, 1994-2013) // Социологические исследования. № 12 (380). С. 99-110.
- Aisa R., Pueyo F., Sanso M. (2012). Life expectancy and labor supply of the elderly. Journal of Population Economics, 25(2), 545-568.
- Alvarez C.V., Potes M.P.E., Merchan M.E.P. (2016). Quality of life and informal labor among elderly persons in an intermediate Colombian city, 2012-2013. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 19(3), 415-427.
- Benavides F.G., Benach J., Diez-Roux A.V., Roman C. (2000). How do types of employment relate to health indicators? Findings from the Second European Survey on Working Conditions. Journal of Epidemiology & Community Health, 54, 494-501.
- Bohle P., Quinlan M., Kennedy D., Williamson A. (2004). Working hours, work-life conflict and health in precarious and "permanent" employment. Revista de saudepublica, 38, 19-25. Available at: https://doi.org/10.1590/s0034-89102004000700004
- Bone K.D. (2019). 'I don't want to be a vagrant for the rest of my life': Young peoples' experiences of precarious work as a 'continuous present'. Journal of Youth Studies, 22(9), 1218-1237. DOI: 10.1080/13676261.2019.1570097
- Burrows S. (2013). Precarious work, neoliberalism and young people's experiences of employment in the Illawarra region. The Economic and Labour Relations Review, 24(3), 380-396. Available at: https://doi. org/10.1177/1035304613498189
- Casey B. (2005). The employment of older people: Can we learn from Japan? The Geneva Papers on Risk and Insurance — Issues and Practice, 30, 620-637. DOI: 10.1057/palgrave.gpp.2510051
- Chan S., Tweedie D. (2015). Precarious work and reproductive insecurity. Social Alternatives, 34(4), 8-13.
- Cranford C.J., Vosko L.F., Zukewich N. (2003). Precarious employment in the Canadian labour market: A statistical portrait. Just Labour, 3, 6-22. Available at: https://doi.org/10.25071/1705-1436.164
- D'Amours M. (2009). Non-standard employment after age 50: How precarious is it? Relations industrielles, 642, 209-229.
- Eckelt M., Schmidt G. (2014). Learning to be precarious - the transition of young people from school into precarious work in Germany. Journal for Critical Education Policy Studies, 12(3), 130-155.
- Ferrie J.E., Shipley M., Stansfeld S., Marmot M. (2002). Effects of chronic job insecurity and change in job security on self-reported health, minor psychiatric morbidity, physiological measures, and health related behaviours in British civil servants: the Whitehall II study. Journal of Epidemiology and Community Health, 56(6), 450-454. DOI: 10.1136/jech.56.6.450
- Gash V. (2008). Bridge or trap? Temporary Workers' transitions to unemployment and to the standard employment contract. European Sociological Review, 24(5), 651-668. Available at: https://doi.org/10.1093/esr/jcn027
- Hanappi D., Ryser V.-A., Bernardi L., Le Goff J.-M. (2012). Precarious work and the fertility intention-behavior link: An analysis based on the Swiss household panel data. Working paper of LIVES National Center of Competence in Research, 17, 1-27. DOI: 10.12682/lives.2296-1658.2012.17
- Jetha A., Martin Ginis K.A., Ibrahim S., Cignac M.A.M. (2020). The working disadvantaged: The role of age, job tenure and disability in precarious work. BMC Public Health, 20. Available at: https://doi.org/10.1186/s12889-020-09938-1
- Kapsalis C., Tourigny P. (2005). Duration of non-standard employment. Perspectives on Labour and Income, 17(1), 31-39.
- Kim I.-H., Khang Y.-H., Muntaner C., Chun H., Cho S.-I. (2008). Gender, precarious work, and chronic diseases in South Korea. American Journal of Industrial Medicine, 51, 748-757. Available at: https://doi.org/10.1002/ ajim.20626
- Lain D., Airey L., Loretto W., Vickerstaff S. (2019). Understanding older worker precarity: The intersecting domains of jobs, households and the welfare state. Ageing and Society, 39(10), 2219-2241. DOI: 10.1017/ S0144686X18001253
- Lancker W.V. (2012). The European world of temporary employment. European Societies, 14(1), 83-111. DOI: 10.1080/14616696.2011.638082
- Lewchuk W (2017). Precarious jobs: Where are they, and how do they affect well-being? The Economic and Labour Relations Review, 28(3), 402-419. Available at: https://doi.org/10.1177/1035304617722943
- Miguel Carmo R., Cantante F., de Almeida Alves N. (2014). Time projections: Youth and precarious employment. Time & Society, 23(3), 337-357. Available at: https://doi.org/10.1177/0961463X14549505
- Pailhe A., Solaz A. (2012). The influence of employment uncertainty on childbearing in France: A tempo or quantum effect? Demographic Research, 26, 1-40. DOI: 10.4054/DemRes.2012.26.1
- Papadakis N., Drakaki M., Saridaki S., Dafermos V. (2021). Into the vicious cycle of precarity: Labour market, precarious work, social vulnerability and youth: The case of Greece within the EU context. Advances in Social Sciences Research Journal, 7(12), 474-496. Available at: https://doi.org/10.14738/assrj.712.9511
- Piotrowski M., Kalleberg A.L., Rindfuss R.R. (2015). Contingent work rising: Implications for the timing of marriage in Japan. Journal of Marriage and the Family, 77, 1039-1056. DOI:10.1111/jomf.12224
- Reddy A.B. (2016). Labour force participation of elderly in India: Patterns and determinants. International Journal of Social Economics, 43(5), 502-516. DOI: 10.1108/IJSE-11-2014-0221
- Robert P., Oross D., Szabo A. (2017). Youth, precarious employment and political participation in Hungary. Intersections. East European Journal of Society and Politics, 3(1), 120-146. Available at: https://doi.org/10.17356/ ieejsp.v3i1.299
- Sahoo B., Neog B.G. (2015). Heterogeneity and participation in informal employment among non-cultivator workers in India. MPRA Paper, 68136, 1-57.
- Srsen A., Dizdarevic S. (2014). Precariousness among young people and student population in the Czech Republic. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(21), 161-168.
- Standing G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic. Steele E.J., Giles L.C., Davies M.J., Moore V.M. (2014). Is precarious employment associated with women remaining childless until age 35 years? Results from an Australian birth cohort study. Human Reproduction, 29(1), 155-160. DOI: 10.1093/humrep/det407
- Stuth S., Jahn K. (2020) Young, successful, precarious? Precariousness at the entry stage of employment careers in Germany. Journal of Youth Studies, 23(6), 702-725. DOI: 10.1080/13676261.2019.1636945
- Umicevic A., Arzensek A., Franca V. (2021). Precarious work and mental health among young adults: A vicious circle? Managing Global Transitions, 19(3), 227-247. DOI: 10.26493/1854-6935.19.227-247
- Wahrendorf M., Akinwale B., Landy R., Matthews K., Blane D. (2016). Who in Europe works beyond the state pension age and under which conditions? Results from SHARE. Population Aging, 10, 269-285. DOI 10.1007/ s12062-016-9160-4