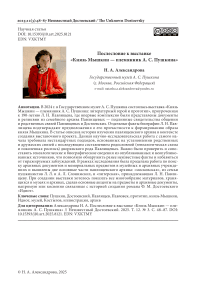Послесловие к выставке «Князь Мышкин — племянник А. С. Пушкина»
Автор: Александрова Н.А.
Журнал: Неизвестный Достоевский @unknown-dostoevsky
Статья в выпуске: 3 т.12, 2025 года.
Бесплатный доступ
В 2024 г. в Государственном музее А. С. Пушкина состоялась выставка «Князь Мышкин — племянник А. С. Пушкина: литературный герой и прототип», приуроченная к 190-летию Л. Н. Павлищева, где впервые комплексно были представлены документы и реликвии из семейного архива Павлищевых — подлинные свидетельства общения и родственных связей Павлищевых и Достоевских. Отдельные факты биографии Л. Н. Павлищева подтверждают предположения о его причастности к формированию образа князя Мышкина. В статье описана история изучения павлищевского архива в контексте создания выставочного проекта. Данная научно-исследовательская работа с самого начала требовала нестандартных подходов, основанных на установлении родственных и дружеских связей с последующим составлением родословной (генеалогическая схема и поколенная роспись) дворянского рода Павлищевых. Важно было проверить и сопоставить генеалогические и биографические сведения из опубликованных и неопубликованных источников, что позволило обнаружить ранее неизвестные факты и избавиться от тиражируемых заблуждений. В рамках исследования была проделана работа по поиску архивных документов и мемориальных предметов в музейных и архивных учреждениях и выявлены две основные части павлищевского архива: «московская», из семьи пушкинистов Л. Л. и А. Л. Слонимских, и «питерская», принадлежавшая Л. Н. Павлищеву. При создании выставки хотелось показать все многообразие материалов, хранящихся в музеях и архивах, сделав основные акценты на предметы и архивные документы, напрямую или косвенно связанные с историей создания романа Ф. М. Достоевского «Идиот».
Пушкин, Достоевский, Павлищев, Павловск, прототип, князь Мышкин, Идиот, музей, Костыгов, иллюстрация, архив
Короткий адрес: https://sciup.org/147252196
IDR: 147252196 | DOI: 10.15393/j10.art.2025.8121
Текст научной статьи Послесловие к выставке «Князь Мышкин — племянник А. С. Пушкина»
В юбилейный пушкинский год в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве состоялась выставка «Князь Мышкин — племянник А. С. Пушкина: литературный герой и прототип»1, приуроченная к 190-летию со дня рождения Льва Николаевича Павлищева. Выставка явилась результатом многолетней научно-исследовательской работы, связанной с изучением семейного архива Павлищевых. Итогом изысканий стало уточнение биографических сведений, восстановление родственных и дружеских связей, обнаружение ранее неизвестных документов. Изначально причастность изучаемых документов к теме жизни и творчества Ф. М. Достоевского отвергалась, но при более глубоком погружении в материал она стала очевидной.
История павлищевского архива
По разным историческим причинам павлищевский архив оказался раз-делен2. Уже на стадии формирования идеи выставки возникло желание показать не только архивные документы и мемориальные предметы из собрания Государственного музея А. С. Пушкина (ГМП), но и взаимосвязанные, хотя и разрозненно хранящиеся части семейного собрания, включив их в выставку и тем самым представив всё имеющееся многообразие материалов. Для участия в выставочном проекте были приглашены: Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (ИРЛИ РАН), Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля (Государственный литературный музей) (ГМИРЛИ им. В. И. Даля), Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), Российская государственная библиотека (РГБ), Всероссийский музей А. С. Пушкина (ВМП). Отдельные слова благодарности выражаем Благотворительному фонду поддержки культуры и искусства «DICTUM FACTUM» и лично Евгению Львовичу Герасимову за возможность экспонировать работы Б. Г. Костыгова, а также научному консультанту — заместителю директора ГМИРЛИ им. В. И. Даля по научной работе и руководителю Музейного центра «Московский дом Достоевского» Павлу Евгеньевичу Фокину за проявленный интерес к выставке и помощь в ее создании.
Павлищевская тема вошла в научно-исследовательскую работу Государственного музея А. С. Пушкина около десяти лет назад, когда возникла необходимость в подробном описании эпистолярного наследия родной сестры поэта Ольги Сергеевны Павлищевой (урожд. Пушкиной) (1797–1868) (см.: [Александрова, 2020e: 267–269; 2020g] и др.), хранящегося в рукописном собрании музея. Переписка состоит из посланий самой Ольги Сергеевны, ее мужа Николая Ивановича Павлищева (1802–1879)3, сына и дочери с приложением ответной корреспонденции, а также близких родственников и знакомых (всего 322 письма)4. Семейная переписка является частью большого историко-документального комплекса, состоящего из архивных документов, книг, фотографий и мемориальных предметов, поступивших в музей в 1964–1965 гг. из семьи пушкинистов А. Л. и Л. Л. Слонимских5. Они были сохранены правнучкой О. С. Павлищевой — литератором и переводчиком Лидией Леонидовной Слонимской (1900–1965)6. Работая в Пушкинском Доме, она тщательно изучила семейный архив и подготовила к печати переписку родителей поэта с дочерью, сделав расшифровку текста, перевод с французского языка, подробный комментарий, создав предисловие. К сожалению, Л. Л. Слонимская не увидела издания писем — результаты ее труда вышли в свет только в 1993 г. в серии «Мир Пушкина». Следом, в этой же серии, была опубликована переписка О. С. Павлищевой с мужем и отцом, с указанием в предисловии принадлежности идеи публикации Л. Л. Слонимской7.
Во время изучения архивных материалов фамилии Павлищевых и Достоевских постоянно упоминались рядом, и если в начале исследования это еще могло показаться случайностью, то в дальнейшем уже перешло в разряд закономерного. В частности, даже в простом перечислении заслуг Л. Л. Слонимской, указанных в заявлении на имя В. Д. Бонч-Бруевича от 24 октября 1946 г., сказано, что она работала
«в Пушкинском Доме при Академии Наук, где приготовила к печати следующие материалы : письма Жуковского к барону Будбергу, письма Л. Н. Толстого к Фету, письма Достоевского к Каткову, дневник А. Г. Достоевской, письма С. М. Салтыковой ( Дельвиг ) к Семеновой, переписку по поводу избрания Горького в Академию в 1902 г., и "Исповедь" Кюхельбекера, писанную в Шлиссербурге».
Сама Л. Л. Слонимаская уточнила:
«…моя деятельность, как переводчицы, началась в 1925 г. Мною переведены романы Райта, Гарнета, Поуиса, Бен-Хэкта, Геслопа, Честертона, Колдуэлла, Дэвиса, рассказы Мопоссана. В 1936–37 гг. я сотрудничала в журнале "Вокруг Света". Последняя моя работа, перевод романа Ж. Занд "Чортово болото", должна появиться в ближайшие месяцы в издании ГИХЛ’а 8 . В настоящее время я подготовляю к печати для "Летописей" Литературного Музея неопубликованные письма (119 шт.) родителей Пушкина к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой за период 1828–1835 гг.» 9 .
К сожалению, причины отсутствия публикации в «Летописях» установить не удалось.
В 1957 г. началось создание московского музея А. С. Пушкина. Комплектование фондов проходило при плодотворном сотрудничестве с Л. Л. Слонимской, благодаря чему ее имя было внесено в список дарителей ( Дары и дарители : 134–137). Важно отметить, что в процессе передачи семейного архива произошла непредвиденная трагедия: сначала неожиданная кончина А. Л. Слонимского10, а затем и самой Лидии Леонидовны. По этой причине часть предметов и документов поступили в музейное хранение не от самих владельцев, а по завещанию, что привело к неразберихе как в описании, так и в разделении семейного архива между Государственным музеем А. С. Пушкина и Российским государственным архивом литературы и искусства, куда поступил личный фонд А. Л. Слонимского11. На начальном этапе это сильно затрудняло работу и поиск нужных сведений, так как зачастую оказывалось, что по непонятным причинам между музеем и архивом было разделено не только семейное собрание, но в отдельных случаях и конкретные документы.
В музей были переданы подлинные документы, книги, фотографии, реликвии О. С. Павлищевой, ее мужа, детей и внуков. Среди предметов был и прижизненный литографированный портрет А. С. Пушкина работы А. С. Безлюдного, выполненный, под смотрением А. Сандомури, с оригинала О. Кипренского и украшающий в настоящий момент экспозицию дома поэта на Арбате12.
Необходимо подчеркнуть, что в начале 1960-х гг. в музее только начинала складываться традиция самостоятельного отдельного хранения коллекций, принадлежавших конкретному лицу. Еще не поступили такие большие собрания, как библиотека И. Н. Розанова (1965), коллекция П. В. Губара (1977), генеалогическая коллекция Ю. Б. Шмарова (1989) и т. д. В то время было принято разделять большие комплексы в разные отделы хранения по типам и видам музейных предметов, что и произошло с павлищевскими материалами: книги оказались в коллекции «Редкая книга»13, архивные документы — в «Рукописном кабинете», фотографии — в «Фототеке», а мемориальные предметы разделены и переданы в несколько коллекций («Декоративно-прикладное искусство», «Эстамп», «Изобразительные фонды», «Мебель» и т. д.).
На первых этапах исследования было необходимо собрать воедино сведения о «даре Слонимских», что оказалось непросто. Основная сложность заключалась в особенностях ведения в то время музейной учетно-храни-тельской документации и неточностях, допущенных в описании предметов. Собственно, на этой стадии и выяснилось, что работа с архивными документами требует предварительной подготовки, а именно — составления генеалогической схемы и поколенной росписи дворянского рода Павлищевых с уточнением биографических сведений по опубликованным и неопу-бликованным14 источникам. На основе собранной и систематизированной генеалогической и биографической информации удалось не только разобрать и каталогизировать эпистолярное наследие Павлищевых, но и собрать воедино сведения о всех музейных предметах и архивных документах, поступивших от Л. Л. и А. Л. Слонимских, восстановить историю разделения конкретных документов между музеем и архивом, а также атрибутировать фотографии (см.: [Александрова, 2015a, 2020a]).
Московская часть павлищевского архива — это документы и предметы, принадлежавшие дочери О. С. Павлищевой — Надежде Николаевне Панэ15 (1837–1909). Самые ранние документы датируются серединой 1840-х гг. [«Храните рукопись…»: 69]. Надежда Павлищева в те годы пыталась получить образование в Варшавском институте благородных девиц, но по состоянию здоровья была вынуждена оставить заведение и продолжила учебу в частном пансионе г. Павловска под Петербургом, где увлеклась живописью и со временем стала художницей-пейзажисткой. Выставлялась она под фамилией Павлищева, и в музее хранится принадлежавшая ей малая серебряная поощрительная медаль от Императорской академии художеств «За успех в рисовании»16.
К сожалению, художественное наследие Н. Н. Панэ (урожд. Павлищевой) практически не сохранилось17, за исключением небольшого количества рисунков18. Интересен факт, косвенно связанный с Ф. М. Достоевским, а вернее с анонимной статьей «Выставка в Академии художеств за 1860–61 год» в журнале «Время», авторство которой многими исследователями приписывается Достоевскому19, где большое внимание уделяется творчеству И. К. Айвазовского. В своем художественном творчестве Н. Н. Павлищева особое внимание уделяла морским пейзажам (маринам), и благодаря этому ей часто приписывали ученичество у Айвазовского, что несправедливо: она была ученицей петербургского преподавателя живописи Павла Кирилловича Иванова. Сохранились свидетельства, что Н. Н. Павлищева принимала участие в выставке Академии художеств осенью 1862 г.20 Было ли это первое представление ее живописных работ публике или она уже участвовала в академических выставках, пока сказать нельзя.
В феврале 1864 г. Н. Н. Павлищева вышла замуж за итальянского певца и композитора Иосифа-Джузеппе (Осипа) Панэ, и сразу же после венчания молодая семья отправилась на родину мужа в Неаполь, а со временем перебралась в Варшаву. В семье Панэ появилось на свет четверо детей: Умберто (Николай), Ольга, Елена, Анна (Нина). К сожалению, из-за дальности расстояния между Неаполем и Санкт-Петербургом О. С. Павлищева так и не увидела своих внуков21, но сохранилась детальная переписка Н. Н. Панэ с матерью, отцом и братом, содержащая не только большое количество подробностей супружеского быта, но и описания деталей итальянской жизни, упоминания о встречах с русскими семьями (а речь идет о таких фамилиях, как Сухтелены, Бакунины, Энгельгардты, Лермонтовы, Горчаковы, Безобразовы, принцы Ольденбургские, князья Оболенские и т. п.). Письма из Италии переносят читателя в город, совсем не похожий на дождливую и хмурую российскую столицу, а постоянные сравнения детализируют эту разницу: широкие проспекты Петербурга и узкие улочки Неаполя, особенности архитектуры и внутреннего обустройства домов с отсутствием отопления и каменными полами, не встречающимися в наших широтах. В своих посланиях Н. Н. Панэ, в особенности после рождения первенца, часто описывает бытовые мелочи, манеры поведения местных жителей, отличительные черты национального костюма, принципы воспитания детей, отмечая различия в характерах русских и итальянцев.
В этих письмах есть один нюанс, наводящий на размышления и косвенное сближение с одной темой в творчестве Ф. М. Достоевского. Исследователи наследия писателя отмечают его интерес к личности Джузеппе Гарибальди — это имя упоминается и в записных книжках на «страницах с подготовительными материалами» к роману «Идиот» (см.: [Шварц]). В неа-польских письмах Н. Н. Панэ имя Дж. Гарибальди встречается регулярно. Взволнованная политическими вопросами, она непрестанно упоминает его, не только описывая детали политической и экономической ситуации, но и давая довольно подробные характеристики личности политического деятеля.
Интересен тот факт, что Н. Н. Панэ писала сначала исключительно по-французски, но со временем О. С. Павлищева стала настаивать, чтобы дети использовали в переписке только русский язык: плохо видящая к концу жизни, она не могла читать послания самостоятельно, а жившая с ней прислуга, зачитывающая письма, иностранными языками не владела.
После отъезда дочери О. С. Павлищева осталась с любимым сыном. Лев Николаевич Павлищев (1834–1915)22 — родной племянник поэта, в классическом пушкиноведении он известен как чиновник, правовед, журналист и автор самых противоречивых воспоминаний о своем знаменитом родственнике [Павлищев]. И если «семейная хроника» в отечественном литературоведении поминается часто, то попытка собрать все прижизненные публикации Л. Н. Павлищева, начиная с первой ученической работы, на выставке была реализована впервые23. Дополнением к этим изданиям стала написанная им собственноручно рукопись — биографический очерк «Ольга Сергеевна Павлищева, рожденная Пушкина» с пометами и уточнениями князя П. А. Вяземского24.
Современники в письмах и дневниках отмечали внешнее фамильное сходство племянника с русским гением (см.: [Рожнова, Рожнов: 216]), что становится очевидным при сравнении фотографических портретов Льва Павлищева25 и сыновей поэта Александра и Григория Пушкиных26. В связи с этим небезынтересно отметить существующее мнение, что Ф. М. Достоевского семья Павлищевых интересовала не только из-за родства с великим поэтом, но и из-за упомянутого внешнего фамильного сходства (см.: [Бо-град, 1995: 317]).
На рубеже XIX–ХХ вв. Л. Н. Павлищев, считая себя хранителем семейного архива и памяти о «великом поэте и дяде», участвовал во многих пушкинских мероприятиях. Часть семейного архива, хранившаяся у него, ныне находится в Санкт-Петербурге. Еще при жизни он начал передавать документы и реликвии в Пушкинский Дом, а затем это дело продолжила его вторая жена27. В наше время данная часть собрания разделена между Пушкинским Домом28 и Всероссийским музеем А. С. Пушкина [Преданья русского семейства…: 84–88].
Из вышесказанного видно, что павлищевский архив разделен между двумя столицами: бывшей столицей Российской империи — Санкт-Петербургом, и нынешней — Москвой. Так, переписка О. С. Павлищевой с мужем и сыном хранится в Санкт-Петербурге, а письма того же периода к дочери и, частично, к сыну, включая ответные, — в Москве. Официальные документы также оказались поделенными между несколькими архивными и музейными учреждениями. Такое положение вещей физически затрудняет работу по целостному изучению архива семьи Павлищевых. В пример можно привести одну из последних публикаций павлищевской «семейной хроники» [Павлищев, 2019] — с детальным научным комментарием, указанием всех неточностей и свободных цитирований в тексте, демонстрирующую огромную научно-исследовательскую работу, проделанную в процессе подготовки издания. Однако то, что в ней использовалась лишь петербургская часть семейного архива Павлищевых, существенно снижает ее достоинства — в комментариях явно не хватает московских материалов для уточнения некоторых дат, событий, фактов.
В процессе работы с павлищевскими материалами на свет появилось несколько исследований (см.: [Александрова, 2015a, 2015b, 2018, 2020a, 2020g]). К сожалению, в некоторые из них проникли неточности. Так, в статье «Лев Николаевич Павлищев и его потомки», опровергавшей устоявшееся среди пушкиноведов мнение об отсутствии у него потомства (см.: [Бессонова, 2003: 189 и 213], [Пушкинский некрополь: 131]), была приведена неверная дата первого венчания [Александрова, 2015b: 149]29, и только последующее изучение архивных материалов позволило определить ее точно как 25 октября (6 ноября) 1864 г. Работа «Лев Николаевич Павлищев…» получила неожиданное продолжение: после выхода ее в свет на почту музея пришло письмо от старшего научного сотрудника Центра исследований Юга Африки, кандидата исторических наук Бориса Моисеевича Горелика, подтвердившего предположение, что балерина и основательница школы русского балета в Йоханнесбурге Нина Рунич (в девич. Павлищева) является внучкой Л. Н. Павлищева, а следовательно, документы и реликвии, связанные с Пушкиными и Павлищевыми, могли затеряться в Африке.
Павлищевы и Достоевский
Научной основой выставки стали исследования Г. Л. Боград (см.: [Боград, 1995, 1996, 2001]), изучавшей историю проживания семейств Павлищевых и Достоевских в Павловске 1860-х гг. и высказавшей мнение, что Л. Н. Павлищев является одним из прототипов князя Мышкина. В своих статьях, ссылаясь на архивные документы, она обратила внимание на то, что в 1865 г.
среди жителей города Павловска в доме Иванова под № 101 на 1-й Матросской улице были прописаны «дворянин Достоевский, то есть писатель30» и «семья действительного статского советника Павлищева, то есть его жена Ольга Сергеевна и сын — чиновник департамента уделов» [Боград, 1995: 316]. На основе этих сведений исследовательница делает предположение, что именно в тот год Ф. М. Достоевский и Л. Н. Павлищев встречались в Павловске. К сожалению, материалы павлищевского архива свидетельствуют, что это маловероятно. После неожиданной женитьбы, о которой речь пойдет ниже, и осложнившихся отношений между его матерью и молодой супругой Л. Н. Павлищев был вынужден просить отца о помощи для перевода в Варшаву, и уже с марта 1865 г. он числился на службе по Военному министерству сверх штата и состоял при наместнике Царства Польского графе Ф. Ф. Берге, а с июля того же года исполнял должность редактора Русского Варшавского дневника (газеты «Варшавский дневник»). Если и бывал Л. Н. Павлищев в то лето в Павловске, то, скорее всего, короткими наездами, и не факт, что эти визиты совпали с присутствием в городе Ф. М. Достоевского. При выдвижении постулата о том, что «документальными доказательствами их [Ф. М. Достоевского и Л. Н. Павлищева] общения мы не располагаем», но «все же доказательства существуют» [Боград, 2001: 156], Г. Л. Боград ссылается на «дневники-хроники» Л. Н. Павлищева. Однако они как раз доказывают обратное. Дело в том, что дневники сохранились не полностью — утрачена часть, относящаяся к жизни в Варшаве. Тетради с записями обрываются 14 февраля 1865 г.31 и возобновляются в октябре 1879 г., когда Л. Н. Павлищев возвращается в Петербург после смерти первой жены. Учитывая ту скрупулезность, с которой Л. Н. Павлищев вел ежедневные записи, вряд ли можно предполагать, что во время пребывания в Варшаве он не вел дневник. А вот причины, по которым эти записи не сохранились, пока установить не удалось, и эти обстоятельства требуют дальнейшего исследования.
Важно отметить, что в письмах О. С. Павлищевой содержатся подробные характеристики Павловска, съемных дач, с указанием их адресов и характерных особенностей. Так, в письме, адресованном дочери и записанном под диктовку Анатолием Львовичем Пушкиным32 в середине мая 1865 г., сохранилось описание уже упоминаемой дачи Иванова, где жили Достоевские и Павлищевы:
«Я забыла также тебѣ написать мой адрессъ въ Павловскѣ: въ 1 й Матроской домъ Иванова, если помнишь, гдѣ жили Тешковскiя, флигель на дворѣ той-же дачи. Наталья Никитишна 33 , очень довольна своимъ выборомъ за 140 руб.: 5 комнатъ, кромѣ передней и галлерея довольно большая подъ навѣсомъ, гдѣ я буду обѣдать и чай пить, которая выходитъ въ садъ; но только чужой, необитаемый и воздухъ прекрасный отъ него. Такъ какъ мои ноги крѣпче про-шлогодняго, то я буду каждый день по прiѣздѣ моемъ ходить въ Паркъ, а про-шлаго года я цѣлый мѣсяцъ не выходила изъ дому. Къ большому удовольствiю Натальи Никитишны, ея плѣмянница 34 наняла дачу на томъ-же дворѣ и переѣз-жаетъ завтра» 35 .
Павловская тема в творчестве Ф. М. Достоевского встречается не только в работах Г. Л. Боград, но и в публикациях других исследователей (см.: [Вы-жевский, 2017, 2021], [Януш]). Все эти работы легли в основу научной концепции выставки и были представлены посетителям.
Юбилейный пушкинский год, совпавший с 190-летием со дня рождения Л. Н. Павлищева, стал прекрасным поводом для реализации выставочного проекта, рассказывающего об истории семьи Павлищевых, судьбе семейного архива, c параллельными отсылками к героям и сюжетным коллизиям романа «Идиот». Доказательство или опровержение того, что Л. Н. Павлищев может быть одним из прототипов главного героя романа, не являлось целью выставки. Посетителям предлагалось самостоятельно сделать вывод (согласившись с предположением автора врéменной экспозиции или опровергнув его), рассматривая музейные предметы и архивные документы, анализируя подлинные факты из жизни и вымышленные — из романа, сопоставляя цитаты из личных бумаг и из литературного произведения.
В процессе подготовки выставки материально-предметный ряд из архивных документов, реликвий и предметов эпохи практически сразу стал складываться в единый комплекс. И стало ясно, что не хватает важного связующего звена как между отдельными предметами, так и между тематическими разделами выставки. На помощь пришли созданные петербургским художником-архитектором Борисом Геннадьевичем Костыговым иллюстрированные комментарии к роману «Идиот». Будучи выпускником архитектурного отделения Ленинградского инженерно-строительного института, он создал немалое количество архитектурных проектов. В то же время Б. Г. Костыгов увлекался литературой и основал самостоятельный жанр иллюстрированного комментария, воссоздающего материальную среду литературного произведения, где изобразительный ряд шел параллельно тексту. В основу своей работы художник положил «не столько иллюстрирование самого романа, сколько собирание огромного количества изобразительных источников, необходимых для понимания мира вещей, идей и событий» (см.: [Костыгов, «От издателя»]). Художник именовал свои работы исключительно как реконструкции материальной среды, создавая их на основе исторических источников, — а это произведения живописи, графики, фотографии, архитектурные проекты, планы и схемы, сотворенные в эпоху, соответствующую времени действия в произведении.
Цикл к роману «Идиот», состоящий из 30 большеформатных листов, был создан в 2004–2007 гг. и хранится в собрании Е. Л. Герасимова. При обсуждении возможности экспонирования иллюстраций на выставке стало понятно, что оригинальные рисунки сложны в показе из-за большого формата и разного размера каждого листа. Да и выставочное пространство было ограничено. Для выставки были предоставлены цифровые копии иллюстраций, воспроизведенные в едином формате. Рисунки Б. Г. Костыгова стали не просто главным связующим звеном тематических разделов, но и основным украшением выставки. Художник в свое время писал об этой работе: «И вот эти 30 листов представляют собой своего рода записную книжку, изрисованную беспорядочной массой изображений», и включают «внезапные находки, выскакивающие, пока время не кончилось. Надо было спешить, а то бы ещё больше листов было. Точные признаки жанра, в котором выполнена эта работа, отсутствуют, но автор десять лет назад смотрел на эту работу как на записную книжку из больших (по архитектурным канонам) выставочных листов, как на эскиз будущей упорядоченной совместной (с кем-нибудь из учёных литературоведов) работы, которой пока не предвидится» (см.: [Костыгов, «Предисловие»]). Благодаря выставке задуманная литературоведческая работа состоялась.
В публикациях, посвященных роману «Идиот», отмечается важный факт: в России существовал только один дворянский род Павлищевых [Александрова, 2020f: 269]. Данное обстоятельство заставляет задуматься о поиске среди его представителей прототипов романа, в особенности если заострить внимание на совпадении имен: Лев Николаевич Павлищев / князь Лев Николаевич Мышкин. Да и имя покровителя князя ( Николай Андреевич Павлищев ) созвучно имени отца Л. Н. Павлищева ( Николай Иванович Павлищев ); тут важно отметить и то, что оба Николая Павлищева проживали за границей и бывали на родине лишь наездами.
Род дворян Павлищевых
Обращаясь к истории дворянского рода Павлищевых, можно обнаружить, что его основоположником является дворянин Орловской(¿) губернии Василий Сидорович Павлищев. О судьбе его сына Филиппа Васильевича Павлищева и его потомства сведений не обнаружено. А первым известным представителем рода является дворянин Екатеринославской губернии, участник Отечественной войны 1812 г. Иван Васильевич Павлищев (1766–1816)
(см.: [Заруба: 359]). Находясь с 16 лет на военной службе, он принимал участие в Русско-турецкой войне, подавлении Польского восстания генерала Костюшко, кампаниях против французов, Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах и отличился в сражениях при Бородине, Тарутине и в Лейпцигской битве. Женат был на Луизе Матвеевне фон Зейдфельд. В семье было шестеро детей, из коих два сына — Николай и Павел36. Живописный портрет И. В. Павлищева, написанный незадолго до его кончины «от ран», занял центральное место в семейной портретной галерее37. Интересен тот факт, что первое упоминание о семье Павлищевых в художественных произведениях можно встретить в записках кавалерист-девицы Надежды Дуровой (см.: Дурова ), служившей в том же Мариупольском гусарском полку, что И. В. Павлищев.
Отдельно необходимо упомянуть о сыновьях И. В. Павлищева. Про Николая Ивановича Павлищева (1802–1879), женатого на сестре поэта, написано большое количество статей и биографических очерков как в научных, так и в справочных изданиях38. Имя же Павла Ивановича Павлищева (1795–1863)39 известно только специалистам по Отечественной войне 1812 г. В своих статьях Г. Л. Боград отмечала, что в романе «Идиот» чиновник Лебедев указывает — Павлищевых было двое двоюродных братьев: «Николай Андреевич, покойник», а «другой доселе в Крыму» [Д30: 8]. Павлищевых действительно было двое, только братья они были не двоюродные, а родные. Покойным к моменту создания романа был дослужившийся до чина генерала участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг., Русско-турецкой войны, подавления польских мятежников и венгерской кампании П. И. Павлищев, скончавшийся, кстати, за границей, в Германии. Случилось это 14 августа 1863 г. на водах в Ахене вследствие изнурительной нервной болезни.
Но, возможно, речь идет и о других братьях Павлищевых. И тут важно обратить внимание на приводимую Г. Л. Боград перекличку между лже-Павлищевым, выведенным в романе, и цитатой из дневника реального Л. Н. Павлищева от 7 ноября 1864 г. Последний, эмоционально комментируя данные из адресной книги Петербурга о живущем на углу Большой Мещанской улицы и Столярного переулка коллежском асессоре Павлищеве, восклицал: «Павлищева кроме меня нет не только в военном ведомстве40, но и во всей России» [Боград, 2001: 156]. Однако это утверждение не соответствовало действительности: у дядюшки мемуариста, Павла Ивановича Павлищева, была большая семья41 — восемь детей, в том числе двое сыновей, Николай и Федор, двоюродные братья Льва Николаевича. Сведений про старшего, Николая Павловича Павлищева (1837 — после 1897), пока не об-наружено42. А вот про Федора Павловича Павлищева (1838–1908) известно, что после окончания Императорского Александровского лицея он был определен на службу в Главное управление Восточной Сибири, где некоторое время служил чиновником особых поручений при генерал-губернаторе и достиг чина действительного статского советника (Александровский лицей: 349). Важно отметить, что потомки П. И. Павлищева как по мужской, так и по женской линиям не только являются хранителями семейного архива, но и публикуют книги по истории своей семьи (см.: [Местергази, 2004, 2011, 2015]). К сожалению, выяснить, чье имя было указано в адресной книге, пока не удалось. Но очевидно, что дневниковые свидетельства Л. Н. Павлищева требуют критического анализа и верификации: ведь он не только знал о существовании кузенов, но и поддерживал с ними связь.
«Три мушкетера»
Неожиданной находкой при работе над проектом выставки стала обнаруженная перекличка: как в «Идиоте» (см. об этом: [Магарил-Ильяева]), так и в павлищевском архиве существуют аллюзии к роману А. Дюма «Три мушкетера» . Генерал Иволгин сравнивает своих друзей молодости с неразлучной троицей мушкетеров (Атос, Портос и Арамис), «так сказать, кавалькадой» [Д30: 92], а Б. Г. Костыгов в пояснительных текстах к своим иллюстрациям замечает: «Иволгин — горячий апологет гусарско-дворянской лихости в духе Дюма-отца, этакий пузатый Д’Артаньян. Достоевскому эта позиция была отнюдь не близка — отсюда эти "святые" образы мушкетеров 1840-го и 1867-го г. как элементы литературной полемики с помещичьим искусством» [Костыгов, «Генерал Иволгин»]. И тут важно отметить, что в письмах и дневниках Л. Н. Павлищева, когда речь заходит о друзьях молодости, тоже постоянно всплывает тема мушкетерского братства. В частности, в одном из писем он пишет:
«Всѣхъ моихъ мушкетеровъ ( по Канцелярiи военной ) видѣлъ тамъ, и былъ поистиннѣ тронутъ когда почувствовалъ что не забыли они своего стараго собутыльника. Тебѣ кланяются: мушкетеръ Соловьевъ и мушкетеръ Бунаковъ, мушкетеръ Александровъ, Ивашовъ, Свиньинъ и прочая братiя…» 43 .
Фраза же «верные друзья — Атос, Портос и Арамис» встречается в личных документах постоянно. Эта находка позволяет по-иному взглянуть не только на творчество Ф. М. Достоевского, но и на влияние романа А. Дюма на русскую культуру.
Павловские реалии
Значимые события как в романе, так и в жизни семей Павлищевых, Пушкиных и Достоевских связаны с Павловском44. Родители поэта поселились в этом городе летом 1835 г., здесь же их навестила О. С. Павлищева с годовалым сыном Львом. После возвращения из Варшавы, с конца 1850-х гг., семья Павлищевых (О. С. Павлищева с детьми) снимала дачу в Павловске каждое лето, а в 1860-е гг. по соседству с семьей М. М. Достоевского, в районе Матросских улиц (см.: [Боград, 1995: 154]).
По вечерам оба семейства посещали музыкальные представления в «Павловском воксале» и слушали оркестр под управлением И. Штрауса. В романе это описывается так:
«На музыку сходиться принято. Оркестр, может быть действительно лучший из наших садовых оркестров, играет вещи новые» [Д30: 286].
В свою очередь О. П. Павлищева, сообщая о дочери, 16 августа 1862 г. писала мужу:
«…занята работой45 всегда до 2-х часов, потом отправляется в парк с своими подругами, и почти каждый день вечером с ними же ездит в Воксал, где дирижирует новый Штраус; но также хорош как и брат его; бывают бенефисы и фейерверки и до шести тысяч народа — завтра бал по 1 ½ рубля — но наша компания балов не жалует — вероятно все соберутся ко мне на чай»46.
В одном из сохранившихся альбомов Надежды Павлищевой есть рисунок, датированный сентябрем 1863 г., под названием «Променад»47. На нем запечатлены три юные барышни, прогуливающиеся по дачному Павловску и, возможно, возвращающиеся после посещения «воксала». Как тут не вспомнить сестер Епанчиных: Александру, Аделаиду и Аглаю!
Музыкальный вокзал был важной частью светской жизни Павловска. Художник Б. Г. Костыгов, комментируя рисунок «Воксал», сообщал, что он
«был спроектирован архитектором А. И. Штакеншнейдером. <…> Когда-то "Воксал", а именно сам стиль Наполеона III <…> считался верхом пошлости. Теперь же этот вокзал, такой же пошлый по архитектуре, как и Мариинский театр, считается верхом элегантности! Но восстановить его не хватает никаких сил. [На рисунке — прим.] Верхний ряд портретов, афиш и рисунок толпы внизу дают понятие о составе публики: от императора и великого князя Михаила с семьями до толп маленьких детей с гувернантками, или боннами, занимавших лучшие места задолго до концерта. На них И. Штраус писал жалобы, что своим рёвом они мешают музыке» [Костыгов, «Воксал»].
В романе же, как мы помним, про посетителей зрелищ сказано:
«В Павловском воксале по будням, как известно и как все по крайней мере утверждают, публика собирается "избраннее", чем по воскресеньям и по праздникам, когда наезжают "всякие люди" из города. Туалеты не праздничные, но изящные. <…> Приличие и чинность чрезвычайные, несмотря на некоторый общий вид семейственности и даже интимности. Знакомые, всё дачники, сходятся оглядывать друг друга. Многие исполняют это с истинным удовольствием и приходят только для этого; но есть и такие, которые ходят для одной музыки. Скандалы необыкновенно редки, хотя, однако же, бывают даже и в будни. Но без этого ведь невозможно» [Д30: 286].
Действительно, как возможна жизнь без скандалов! И один такой, очень шумный, случился летом 1864 г.
Но сначала нужно упомянуть, что в семье Павлищевых мужчины отличались музыкальностью и слыли композиторами-любителями. Правда, отца, Н. И. Павлищева, больше вспоминают как издателя знаменитого «Лирического альбома» М. И. Глинки48. А вот о его сыне Л. Н. Павлищеве известно, что он неплохо пел и исполнял романсы и оперные партии, в том числе и в Павловском вокзале. Известен он и как композитор-любитель, написавший несколько романсов. Один, его собственного сочинения, носит название «В былые дни любил я страстно»49, а другой — на стихи знаменитого дяди А. С. Пушкина «Ужель страдать?»50.
Скандал в «воксале»
Сохранился фотографический портрет Л. Н. Павлищева начала 1860-х гг.51, запечатлевший его накануне судьбоносных павловских событий. Вспомним одну из ключевых сцен романа, сопоставив ее с фактами из биографии Л. Н. Павлищева. Описывая иллюстрацию «Места действия романа в Павловске. План II», Б. Г. Костыгов сообщает:
«Парк тогда был без ограды, поэтому на прогулку по парку можно было выходить сразу с крыльца дачи, тут же стоял "Воксал". О дворце и прудах в романе нет ни единого намёка — они тогда никого не интересовали. Таким образом, это план настоящего Павловска, исправленный в соответствии с описаниями, имеющимися в тексте романа. "Сто" и "триста" шагов от павловского "Воксала" отмерены в масштабе. На листе детально изображен "Воксал". Дачники и дачницы волочат шлейфами по гравию, поднимая пыль, и спешат к "Воксалу" под гудок поезда: сейчас начнётся концерт. Красной стрелкой обозначено место скандала на вокзале во время концерта, зачинщицей которого становится Настасья Филипповна. Здесь также обозначено, где князь с Аглаей шли коротким путём до дома…» [Костыгов, «Места действия романа в Павловске. План II»].
Скандал, случившийся в жизни Л. Н. Павлищева в злополучное лето 1864 г., во многом схож с описанным в романе. Излагая хронологию событий, Г. Л. Боград пишет: «…в Павловске Л. Павлищев встретил подругу детства Анастасию Александровну Полянскую52. Их частые встречи вызвали ревность одной из меломанок, поклонниц Л. Павлищева, незаурядного певца-любителя. В результате скандала в Павловском вокзале Л. Павлищев неожиданно для себя сделал Анастасии Александровне предложение. Родственники оскорбленной поклонницы собирались вызвать Павлищева на дуэль» [Боград, 1995: 319]. Изучение архивных документов позволило узнать, что имя поклонницы-меломанки, тактично не упомянутое исследователями, — Надежда Николаевна Шелашникова († 1877).
Сестры Шелашниковы, а это Надежда, Ольга53 и Наталья54 — дочери к тому времени уже давно покойного генерал-лейтенанта Николая Ивановича Шелашникова (1778–1837) и Марии Федоровны (урожд. Линдфорс) и близкие подруги Надежды Павлищевой. В Павловске они вместе проводили лето, а зимой общались в Петербурге и вели активную переписку, о чем свидетельствуют многочисленные упоминания их имен в документах пав-лищевского архива. В семье Н. И. Шелашникова были еще дети: дочери Анна55, Аделаида56, Людмила57 и сыновья Александр, Павел и Константин58. Упоминая семью Шелашниковых, необходимо сказать, что уже во время написания данной статьи было получено письмо от И. Н. Мохова, сообщавшего некоторые дополнительные подробности, в частности, « что Ф. М. Достоевский, вероятно, был знаком с некоторыми Шелашниковыми. Из воспоминаний Андрея Михайловича Достоевского известно, что небезызвестный Иван Григорьевич Кривопишин "обласкал брата Федора", радушно его принимал и делал значительные услуги. Второй женой Кривопишина с 1838 г. была Анна Николаевна Шелашникова »59, родная сестра зачинщицы павловского скандала. Интересен и тот факт, что в семьях родных братьев Николая и Петра Ивановичей Шелашниковых среди детей были девочки с именем Аделаида60. Аделаида Петровна Шелашникова (1817–1895) вышла замуж за директора архива Министерства иностранных дел, коллекционера и собирателя исторических документов князя Михаила Андреевича Оболенского, а Аделаида Николаевна Шелашникова стала женой генерала Владимира Михайловича Потулова. История возможных взаимоотношений Ф. М. Достоевского и семьи Шелашниковых, по всей видимости, требует дальнейшего более глубокого изучения.
Но вернемся к событиям в Павловске. Реальный, а не романный скандал в «воксале» случился 25 августа 1864 г. Причиной его послужило желание Надежды Николаевны Шелашниковой, много времени проводившей с Л. Н. Павлищевым, выйти за него замуж, невзирая на разницу в возрасте. Уже после случившихся событий, в письме к дочери в декабре того же года,
О. П. Павлищева мимоходом заметила: «… вольно ж было Леле 61 связываться с девчонкой ( 45-ти летней )»62. Правда, скорее всего, она несколько преувеличила возраст Н. Н. Шелашниковой: в 1864 г. ей было около сорока лет63. Скандал случился на публике во время концерта и имел большой резонанс. Надо сказать, что для зачинщицы он имел печальные последствия — она так и не вышла замуж.
Отдельно нужно упомянуть о юной барышне, неожиданно ставшей супругой Л. Н. Павлищева, Анастасии Александровне Полянской (1835–1872). Ее имя созвучно имени главной героини романа, а в письмах и дневнике Л. Н. Павлищева она именуется исключительно Настасьей Александровной. Это была не просто близкая знакомая семьи, а родная племянница лучшей подруги О. С. Павлищевой — Варвары Федоровны Черновой, автора знаменитого акварельного портрета сестры поэта, созданного в 1844 г.64
Варвара Федоровна Чернова происходила из семьи Ширковых. Родным братом ее был варшавский знакомый Павлищевых Валериан Федорович Ширков (1805–1856), а сестрой — Анна Федоровна Полянская, мать первой супруги Л. Н. Павлищева. Приятельские отношения с многочисленным семейством Ширковых обогатили дружеские и родственные связи Павлищевых (см.: [Александрова, 2020g]).
Стоит обратить внимание на важный момент — бабушкой будущей невесты была Анастасия Петровна Ртищева, жена Федора Ивановича Шир-кова65. Благодаря этому семейству Павлищевы породнились с Гротенами, Бартоломеями, Прянишниковыми и Достоевскими. Дмитрий Андреевич Достоевский совершенно справедливо отмечал:
«…Я ведь и родственник Пушкина через Павлищева, по женской линии.
И, возможно, ближе к нему, чем некоторые из нынешних потомков» 66 .
Родство Достоевских с Павлищевыми объясняется следующим образом: после отъезда в Варшаву семейная чета Л. Н. и А. А. Павлищевых решила забрать к себе юную сестру Анастасии — Екатерину. Екатерина Александровна Полянская, приехав к родственникам, познакомилась с будущим генералом Петром Григорьевичем Цугаловским (1835–1900) и вскоре вышла за него замуж. В семье Цугаловских родились две девочки: Анна (1870–1958), ставшая женой Александра Эдуардовича Фальц-Фейна (1864–1919), и Екатерина (1875–1958) — вторая супруга сына писателя Федора Федоровича Достоевского (1871–1922) [Капустина]. Екатерина Петровна Достоевская оказывала всяческую помощь вдове писателя и в сентябре 1904 г. писала:
«Сегодня получены корректуры, кот<орые> почему-то были направлены в Москву, — спешу их отправить: ужасно сожалею, что так и не удалось нам закончить этот том вместе, я Вам так мало помогала, жаль, что не пришлось нам продлить наше лето в Ст<арой> Руссе, мы бы и "Идиота" закончили…» (цит. по: [Хроника: 503]).
Но вернемся к событиям 1864 г. После скандала в «воксале» (25 августа) 13 сентября Анастасия Полянская получила предложение от Л. Н. Павлищева, а 25 октября состоялось венчание. В своем дневнике Л. Н. Павлищев записал, что гости были поражены красотой невесты, « а стоявшiе на паперти пришли въ какое то восторженное созерцанiе »67 (как тут не вспомнить красоту Настасьи Филипповны!). К сожалению, ни одного подлинного изображения А. А. Полянской пока обнаружить не удалось. В комментарии к рисунку «В доме Епанчина» Б. Г. Костыгов пишет:
«Фотография Настасьи Филипповны <…> это уже не дагеротип, а отпечаток на бумаге, с наклейкой на картон и с древо-металлической рамкой. По музейным образцам мы знаем, что самый большой размер подобных изображений середины 1860-х гг. составлял примерно 45×35 см. Крупных планов тогда техника не позволяла, следовательно, изображение самого лица не могло быть больше 1,5 см по высоте. При тогдашней резкости изображения можно было разглядеть лицо как следует и даже влюбиться» [Костыгов, «В доме Епанчина»].
Среди фотографий павлищевского архива сохранился один портрет неизвестной молодой особы. Это раскрашенная фотография, датируемая 1860-ми гг.68 Возможно, именно на этом снимке и изображена первая жена Л. Н. Павлищева — Анастасия Александровна, но пока это только гипотеза, требующая доказательств.
Сохранилась рукопись «Мемории и хроника Льва Павлищева за 30-й год моей жизни. 1864»69, где подробно зафиксированы события, предшествующие скандалу, сцены дебоша и предложения, церемония венчания. Тетрадь с дневниковыми записями, впервые представленная публике на выставке, имеет эпиграф:
« Ахъ! вы думы мои думы
Что мнѣ дѣлать съ вами?
Что стоите на бумагѣ Черными рядами?? »
и начинается словами:
«…и въ этой тетради также какъ и въ № 3 встрѣтятся довольно странныя приключенiя» — с позднейшей припиской:
«Да! да еще какiя!!! 23 февраля 1886. Варшава» 70 .
С 8 октября все того же 1864 г. записи именовались:
«Хроника.
за тридцать первый годъ моей жизни.
Кандидата Императорскаго Спетербургскаго университета юридическаго факультета и разряда Камеральныхъ наукъ, состоящаго по Канцелярiи Во-еннаго Министерства, Помощника Производителя Дѣлъ общаго присутствiя Главнаго Инженернаго Управленiя Коллежскаго Ассессора, Кавалера ордена Святыя Анны третьей степени и Кавалера ордена Святаго Станислава третьей степени Льва Николаевича Павлищева. Собственною рукою написана эта хроника въ наступающiй годъ тридцать первыя жизни его. Начато съ 8 го на 9 е числа Октября 1864 года въ три съ половиной часовъ по полуночи.
С < анктъ > П < етер > бургъ
1864» 71 .
Вновь возвращаясь к злополучному скандалу, можно сказать, что записи в дневнике свидетельствуют: утро того трагического дня ничего плохого не предвещало. Все события случились в «воксале» чуть позже 8 часов при собравшейся публике — « Шелашникова одета была очень пестро, наштукатурена не милосердно », а Л. Н. Павлищев проходил мимо:
«…они 72 меня заметили вероятно. Против оркестра, игравшего в саду, на передней скамейке увидел я компанию Смирницких 73 . Полянская стояла и раскланялась со мной доброй и приветливой улыбкой» 74 .
Главный герой событий подробно описывает происходящее, сравнивая всех участников с персонажами из оперы В. Беллини «Норма», где Л. Н. Павлищев — Поллион, Н. Н. Шелашникова — Норма, а А. А. Полянская — Адальджиза. Столкновение соперниц на страницах дневника выглядит так:
«…между тем Шелашникова бросилась в уборную, чтобы поправить свою… медузину голову<,> и первое лицо<,> на которое она наткнулась<,> была Полянская. Норма и Адальджиза окинули друг друга взглядом. Взгляд Нормы был ужасен, но Адальджиза выдержала его и в свою очередь ответила Норме взглядом, полным чувства собственного достоинства» 75 .
Затем следует подробное описание возвращения домой через парк:
«…дорога была довольно рискованна по причине темной ночи, а часто и по-тому<,> что<,> как я после узнал<,> мужики напали в тот же вечер на какую-то даму и стянули с нее салоп. Поллион и Адальджиза язвительно пошли по направлению к старому шале<,> встретив солдата, у которого Адальджиза хотела просить фонарь. Но солдат сказал, что опасности нет для тех, кто ходит в парке, что подтвердил и Поллион. И так мы пошли <…> Адальджиза вела Поллиона, а не Поллион Адальджизу, так как у него кружилась голова, ноги еле двигались. Дорогою она его спрашивала, что именно Норма ему говорила, когда утащила в аллею, и рассказала, как его посылали искать. Поллион в припадке откровенности взболтнул<,> что она его обвинила в хвастовстве необоснованном<,> и передал<,> что именно говорено было… Адаль-джиза стала журить Поллиона за его бесхарактерность<,> как он позволил старой деве говорить столько дерзостей… Поллион жаловался на головокружение. У Адальджизы<,> как ему показалось при свете фонаря<,> блеснули из глаз слезы. Он был так сконфужен этим скандалом» 76 .
Описывая события вечера, Л. Н. Павлищев указывает, что « громкая эта история разнеслась по всему Павловску »77. Осталось только понять, кто и при каких обстоятельствах мог поведать эту историю Ф. М. Достоевскому (пока это установить не удалось): при сравнении текстов дневника и романа становится очевидно, что писатель знал отдельные подробности тех событий.
Личные переживания Л. Н. Павлищева вылились в литературной форме — в письме к сестре сохранились такие стихи:
«На скандалъ.
Поднялась шутовъ громада Словно съ пьяна: да и рада Съ нами воевать.
( Продолженiе въ другой разъ… ).
Оля вѣдьма не простая
Надька тожъ колдунья злая Строили скандалъ …
И напавши на Левона
Яко Нормы на Польона Намъ давали балъ.
А Левонъ для контръ-форса Ради этого вопроса
Шишъ имъ показалъ
=» 78 .
Венчание Л. Н. Павлищева и А. А. Полянской состоялось в воскресенье 25 октября 1864 г. в Инженерном замке — том самом, где когда-то учился Ф. М. Достоевский. Семейство Павлищевых было обеспокоено тем, что скандал может повториться и на торжестве. Спустя месяц, в ноябре, О. С. Павлищева писала дочери:
«Новостей у насъ кромѣ важнѣйшей свадьбы Левиной нѣтъ. Вѣнчался онъ въ Инженерномъ замкѣ и впускалъ по билетамъ изъ опасенiя новаго скандала отъ превосходнѣйшихъ ( excellentes ) что совѣтывали ему всѣ и особенно братъ жены его 79 ; скандала не было и Шелашниковыхъ. Здоровы вожделеннѣйшимъ образомъ, абонированы въ оперѣ и расфуфыренныя и размалеванныя прогуливаются по Невскому, довольныя и скандаломъ въ Павловскѣ и сценой…» 80 .
Ниже в таблице в сопоставлении даны биографии литературного героя и одного из его прототипов81.
Таблица 1 / Table 1
Лев Николаевич Павлищев
Князь Лев Николаевич Мышкин
Представитель единственного дворянского рода Павлищевых, внесенного в родословные книги Орловской, Екатерино-славской и Варшавской губерний.
Сын Николая Ивановича Павлищева (1802–1879) и Ольги Сергеевны Пушкиной (1797–1868), сестры поэта.
Чиновник, правовед, писатель-мемуарист, журналист, композитор-любитель.
Родился 8 октября 1834 г. в Варшаве. Получив домашнее образование, учился в Варшавской губернской гимназии. Автор «Краткого начертания истории Китайской империи», написанной в годы учебы и посвященной матери.
Дальнейшее образование получил в Императорском училище правоведения и на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета (1849–1856).
Служил поочередно в Департаменте уделов, Министерстве финансов, Департаменте внешней торговли, Канцелярии Военного министерства, Главном инженерном управлении. Смена деятельности связана с патологической честностью и неподкупностью, в течение жизни страдал припадками и нервными ударами.
С 1865 г. состоял при Главнокомандующем войсками Варшавского военного округа графе Ф. Ф. Берге и исправлял должность редактора «Русского Варшавского дневника», чему способствовал его отец. Из-за усиления цензуры исполнял цензорские обязанности до открытия Варшавского Цензурного комитета.
Последний представитель когда-то могущественного, но обедневшего княжеского рода Мышкиных.
Сын князя Николая Львовича Мышкина, подпоручика из юнкеров и однодворца.
Родился в России в 1837 или 1838 г. В младенческом возрасте лишился родителей, поскольку по смерти отца мать «вскорости умерла от горя по своем князе». Наставник и благодетель, друг отца Николай Андреевич Павлищев передал воспитанника на руки дальним родственницам, жившим в провинции. В детские годы его воспитанием сначала занималась гувернантка, а затем гувернер.
По причине слабого здоровья хорошего образования не получил, однако читал и писал по-русски и по-французски свободно. Обладая специфическими сверхспособностями, проявлял интерес к литературе, музыке, каллиграфии.
В 1860 г. хлопотами Н. А. Павлищева был отправлен в Швейцарию в клинику доктора Шнейдера, где лечился от падучей болезни, однако выздоровел не вполне.
В 1862 г., после смерти Н. А. Павлищева, доктор Шнейдер еще год содержал князя в клинике на свои средства, но был вынужден прервать лечение в связи с открывшимися обстоятельствами.
В 1871 г. после преобразования редакции «Варшавских дневников» был определен в Канцелярию Военного министерства.
В 1874 г. переведен из Варшавы в Петербург в Главное интендантское управление с причислением к Министерству внутренних дел.
В 1896 г. вышел в отставку в чине действительного статского советника.
Награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й ст., Св. Анны 2-й и 3-й ст., Св. Владимира 3-й и 4-й ст., серебряной медалью в память в Бозе почившего императора Александра III, а также имел право носить медаль, пожалованную его отцу, тайному советнику Н. И. Павлищеву, за участие в устройстве крестьян в губерниях Царства Польского 19 февраля 1864 г.
После выхода в отставку жил в собственном доме в пригороде Петербурга.
Музыкальная одаренность и творческая наивность позволили стать композитором-любителем, автором романсов, в том числе «Ужель страдать?» на стихи А. С. Пушкина.
Хранитель пушкинских реликвий и семейного архива. Опубликовал с большими искажениями фрагменты семейной переписки в сборнике «Пушкин и его современники», стал автором воспоминаний об А. С. Пушкине, являющихся компиляцией рассказов матери, семейной переписки, печатных источников и собственных рассуждений, вызвавших жесткую критику.
Присутствовал на открытии памятника А. С. Пушкину работы А. М. Опекушина в Москве, на 100-летии А. С. Пушкина в Михайловском, на открытии памятника А. С. Пушкину работы Р. Баха в Лицейском саду Санкт-Петербурга.
В 1864 г. князь Мышкин получил значительное наследство, и ему должно было вернуться в Россию. «В самом конце ноября» того же года он приехал в Петербург для знакомства с семейством Епанчиных, состоявших в родстве с Мышкиными, поскольку генеральша Елизавета Прокофьевна Епанчина «тоже из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде…». В дороге познакомился с купеческим сыном Парфёном Рогожиным, от которого узнал о его влюбленности в Настасью Филипповну Барашкову.
В Петербурге через Епанчиных князь знакомится с семьей генерала Иволгина и Настасьей Филипповной Барашковой, женщиной сложной судьбы, поскольку, потеряв родителей, она оказалась под опекой господина Тоцкого, сделавшего из девушки любовницу и содержанку. Князь Мышкин одновременно влюбляется в Аглаю Епанчину и Настасью Филипповну, став невольным соперником Гаврилы Иволгина и Парфёна Рогожина.
Спустя неделю уезжает в Москву, где в течение полугода занимается наследственными делами. Там же происходят драматические события, связанные с Настасьей Филипповной и Рогожиным.
Весной 1865 г., по возвращении из Москвы, едет на дачу в Павловск, где отдыхают его прежние знакомые, Епанчины и Иволгины. Летом случается скандал в « Павловском воксале », к которому оказывается причастна Настасья Филипповна. Аглая Епанчина хочет объясниться с князем, но он делает предложение Настасье Филипповне, которая сбегает из-под венца вместе с Рогожиным. Этот выбор оказывается роковым: Рогожин убивает Настасью Филипповну и признается в этом князю Мышкину.
В первый раз, неожиданно для всей семьи, женился на Анастасии Александровне Полянской (1835–1872) — племяннице лучшей подруги матери. Венчанию, состоявшемуся 25 октября 1864 г. в Инженерном замке в Петербурге, предшествовал большой скандал в « Павловском воксале » летом того же года. Брак был недолгим, детей не было. Л. Н. Павлищев тяжело страдал от потери жены и пережил сильное нервное истощение.
Во второй раз венчался в 1892 г. с Ольгой Петровной Шулькевич, урожденной Дорониной (1849–1924). Несмотря на долгое знакомство, близкие отношения и рождение незаконного сына Николая, пара продолжительное время не могла оформить отношения официально. После революции и смерти мужа О. П. Павлищева передала в Пушкинский Дом часть семейного архива и Пушкинские мемории.
Скончался 6 июля 1915 г. в Петербурге. Похоронен на Богословском кладбище.
Человек тонкой душевной организации, князь Мышкин переживает трагическую гибель Настасьи Филипповны. События полностью разрушают психику князя и окончательно превращают его в идиота. Несчастный князь отправляется в лечебницу доктора Шнейдера — теперь уже навсегда.
Елизавета Прокофьевна Епанчина посетила князя Мышкина за границей, всплакнув над несчастным идиотом, не узнавшим ее: «…по крайней мере вот здесь, над этим бедным, хоть по-русски поплакала».
Из сказанного выше ясно, что многие детали биографии Л. Н. Павлищева, вероятно, были известны Ф. М. Достоевскому, и они, осознанно или нет, нашли отражение в сценах романа «Идиот». Важно отметить, что павлищевская тема в романе ассоциируется не только с отношениями героев произведения, но и с упомянутыми там предметами. Особого внимания здесь заслуживает книга «Сочинения Пушкина», изданная в 7 томах П. В. Анненковым82. Этой теме посвящена публикация Т. А. Касаткиной [Касаткина], обратившей внимание на многие детали (правда, при столь подробном анализе и упоминании, что Н. И. Павлищев является одним из авторов биографических текстов издания, не указано, что в приложении к первому тому впервые была опубликована составленная им «Родословная А. С. Пушкина», сделавшая его первым историком-генеалогом семейства Пушкиных)83.
Казалось бы, события 1860-х гг. и последующий выход романа «Идиот» должны были стать финалом той злополучной истории, случившейся в Павловске, тем более что документальных доказательств и свидетельств общения Л. Н. Павлищева и Ф. М. Достоевского в описываемое время не обнаружено. Однако личная встреча писателя и предполагаемого прототипа князя Мышкина все-таки состоялась — спустя много лет. Случилось это в конце мая — начале июня 1880 г. в Москве на открытии памятника А. С. Пушкину. Помимо того, что оба присутствовали на торжествах, они и жили в одной московской гостинице под названием «Лоскутная». Письма Ф. М. Достоевского тех дней84 опубликованы [Достоевский, Достоевская: 324–333]. В них писатель упоминает Л. Н. Павлищева, но так, словно прежде они не были знакомы:
«В нашей гостинице, кроме меня стоят от Думы еще трое: два профессора из Казани и из Варшавы и Павлищев, родной племянник Пушкина»; «Вчера утром были Аверкиевы и приходили племянники Пушкина Павлищев и Пушкин познакомиться» [Достоевский, Достоевская: 326, 332].
В последней фразе речь идет о Льве Николаевиче Павлищеве и Анатолии Львовиче Пушкине. Кстати, последний тоже бывал в Павловске в 1860-е гг., о чем свидетельствуют не только упоминания его в документах, но и автографы писем, записанные им под диктовку и от имени О. С. Павлищевой. Сохранился фотографический портрет с дарственной надписью, запечатлевший двоюродных братьев в этот приезд в Москву:
«Воспоминанiе Пушкинскихъ дней въ Iюнѣ 85 1880 года / Милой моей Олѣ 86 . 8 октября 1886. Въ день моего рожденiя / Левъ Александровичъ Пушкинъ 87 . Анатолiй Львовичъ Пушкинъ. Левъ Николаевичъ Павлищевъ» 88 .
Надо сказать, что пушкинские дни Л. Н. Павлищев проводил больше не в торжествах, а в семейных хлопотах. Письма свидетельствуют о том, что его волнует не столько открытие памятника дяде — великому русскому поэту, сколько он занят наследственными делами. 27 мая он пишет сестре:
«Милая Надя! <…> Наслѣдство наше я получилъ. <…> я въ Москвѣ долженъ ожидать открытiя памятника еще цѣлую недѣлю, а можетъ быть и болѣе <…> Относительно твоего желанiя имѣть сувениры отъ покойной тети 89 , Ми-хаилъ Петровичъ проситъ передать тебѣ, что ты немного опоздала изъявить это желанiе, ибо серебро и всѣ вещи Ольги Матвѣевны, согласно завѣщанiю были распроданы душеприказчиками и вырученныя деньги розданы на поминовенiе души ея бѣднымъ. <…> Остановился въ Москвѣ въ Лоскутной гостинницѣ вмѣстѣ съ моимъ многоуважаемымъ и горячо любящимъ меня братомъ Анатолiемъ Пушкинымъ, котораго покойная наша Ольга Сергѣевна 90 крѣпко любила» 91 .
Столовое серебро Сонцовых, принадлежавшее родной тетке А. С. Пушкина и О. С. Павлищевой — Елизавете Львовне Сонцовой (урожд. Пушкиной) — и полученное Н. Н. Панэ по завещанию в 1880 г. от О. М. Сонцовой, сохранилось, несмотря на все последующие жизненные перипетии92. В письмах Л. Н. Павлищева присутствуют и упоминания о пушкинских торжествах:
«… я, подобно всѣмъ прочимъ родственникамъ покойнаго дяди, былъ въ Моск-вѣ на открытiи ему памятника, и на всѣхъ празднествахъ, продолжавшихся болѣе недѣли ».
Есть и подробный рассказ про
«обѣдъ, который давалъ моимъ сослуживцамъ, въ память незабвеннаго дяди. Сочувственно ко мнѣ отнесся кружокъ моихъ добрыхъ товарищей, при чемъ отъ имени всѣхъ 15 человѣкъ, Генералъ Илиничъ, подымая за мое здоровье бокалъ шампанскаго, произнесъ слѣдующее:
" Левъ Николаевичъ, другъ нашъ!
Мы всѣ желаемъ вамъ полнаго счастья;
Что бъ Вашихъ бѣдъ былъ знать шебашъ, И что бъ не знали Вы ненастья!‥ "
Тостъ этотъ былъ принятъ съ задушевнымъ восторгомъ, и отъ души веселилась любящая меня наша военная семья, воспоминая великаго поэта нашего, причемъ племянникъ Дениса Давыдова — Денисъ Львовичъ Давыдовъ и Полковникъ Никитинъ прочитали мастерски сцены изъ "Полтавы" и "Руслана и Людмилы". Разошлись поздно вечеромъ, унося самыя прiятныя впе-чатлѣнiя»93.
К сожалению, других подробностей встречи Ф. М. Достоевского и Л. Н. Павлищева не найдено и упоминания фамилии «Достоевский» в документах павлищевского архива не обнаружено. Исключение составляет только единственная опубликованная дневниковая тетрадь Л. Н. Павлищева [Путевая тетрадь…], где он пишет о чтении произведений писателя — а это «Преступление и Наказание», «Братья Карамазовы», «Записки из Мертвого Дома» (однако роман «Идиот» в этом списке отсутствует). И если говорить о том, что Лев Николаевич Павлищев был одним из прототипов князя Мышкина, то остается открытым вопрос: читал ли он сам роман «Идиот» и узнал ли себя на его страницах?
Заключение
Одной из ключевых работ Б. Г. Костыгова в серии к роману является рисунок «Достоевский в Павловске. План III», который художник сопроводил следующим комментарием:
«На этот лист в виде эскиза перенесён план Павловска со всеми домами и улицами (1860–1870 гг.). Город окружён оранжевой линией — это его граница. <…> Важным событием в истории Павловска является то, что летом 1835 г. родители А. С. Пушкина снимали там дачу за 400 рублей (на улице Марата, д. 17). Туда также приехала сестра А. С. Пушкина — Ольга Павлищева с годовалым сыном, племянником Александра Сергеевича, который в романе Достоевского послужит прообразом князя Мышкина. В этом смысле интересна игра со звуковым соответствием фамилий: Пушкин, Мушкин, Мышкин. <…> На плане также указаны дома, где жила Ольга Павлищева в 1861–1865 гг. и где Достоевский мог её видеть. <…> Не менее важным событием в судьбе Достоевского оказывается смерть брата (1864 г.). На плане показано примерное место дома, где писатель живёт определённое время и ухаживает за семьей брата. <…> В основу этой работы вошли материалы, изданные Б. В. Янушем в книге "Неизвестный Павловск"» [Костыгов, «Достоевский в Павловске. План III»].
Обширные и, к сожалению, маловостребованные до сих пор материалы павлищевского архива в пушкиноведении долгие годы рассматривались исключительно как однообразный бытовой материал, описывающий мелочи повседневной жизни. Однако это не так, что показало локальное исследование на примере открытий, сделанных в процессе подготовки выставки
«Князь Мышкин — племянник А. С. Пушкина: литературный герой и прототип» (автор идеи и куратор Н. А. Александрова). Дальнейшие комплексное изучение и публикация семейного эпистолярного наследия и дневника Л. Н. Павлищева, содержащих многочисленные упоминания родственных связей, описания художественных выставок в России и за рубежом и другие данные (с тщательной расшифровкой текста, переводом с французского языка и обязательным научным комментарием), могут дать бесценные сведения для истории материальной культуры того времени и изучения родословия Пушкиных, будут интересны как пушкинистам, так и исследователям творчества Ф. М. Достоевского.
Список сокращений
Архивные источники :
ВМП — Всероссийский музей А. С. Пушкина (СПб.)
ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва)
ГМИРЛИ им. В. И. Даля — Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля (Государственный литературный музей) (Москва)
ГМП — Государственный музей А. С. Пушкина (Москва)
ГПИБ — Государственная публичная историческая библиотека (Москва) ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (СПб.) РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва) РГБ — Российская государственная библиотека (Москва)
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив (Москва)
Печатные источники :
Адрес-календарь, 1865–1866 — Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц, по всем управлениям в империи и по главным управлениям в Царстве Польском и в Великом княжестве Финляндском, на 1865–1866 г. СПб.: Тип. Императ. Академии наук, 1866. Ч. І: Власти и места Центрального управления и ведомства их. 606 стлб., 96 с.
Айгнер — Айгнер Т. Иоганн Штраус — Ольга Смирнитская. 100 писем о любви. М.: Время, 2005. 233 с. (Сер.: Документальный роман.)
Александровский лицей — Императорский Александровский лицей: воспитанники, педагоги и служащие: биографический словарь / авт.-сост. В. Н. Рыхляков; под ред. Д. П. Шпиленко. М.: Старая Басманная, 2019. 552 с.
Волков — Волков С. В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. М.: Центрполиграф, 2010. Т. 2: Л — Я. 830 с.
Дары и дарители — Дары и дарители: [альбом] / сост. Н. С. Нечаева, Л. А. Карнаухова и др., вступ. ст. Н. С. Нечаевой. М.: Моск. учебники, 2007. 501 с.
Дурова — Дурова Н. А. Записки кавалерист-девицы: первое полн. изд. с илл. С. В. Юх-линой / сост. Ф. Х. Валитова, O. A. Айкашева. Елабуга; Ульяновск: Печатный двор, Елабуж. гос. истор.-архитект. и худож. музей-заповедник, 2021. 483 с.
Минувшее меня объемлет живо — «Минувшее меня объемлет живо…»: [альбом-каталог] / сост. Н. С. Нечаева, Е. В. Павлова. М.: Интербук-Бизнес, 2003. 280 с. (Сер.: Мемориальная Пушкиниана Гос. музея А. С. Пушкина.)
Моя родословная — Моя родословная: предки, семья, потомки А. С. Пушкина: [альбом] / науч. ред. Е. А. Усова, авт.-сост. В. А. Невская, О. В. Рыкова, Е. А. Усова. М.: Гос. музей А. С. Пушкина, 2009. 145 с.
Павлищев, 1902 — Павлищев Л. Павлищев Николай Иванович . Павлищев Павел Иванович // Русский биографический словарь: [в 25 т.] / изд. под наблюд. председателя Императ. рус. истор. о-ва А. А. Половцова. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1902. Т. 13. С. 79–82.