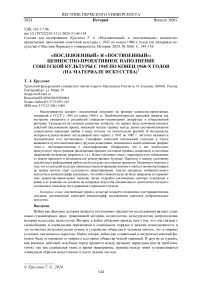«Послевоенный» и «поствоенный»: ценностно-проективное наполнение советской культуры с 1945 по конец 1960-х годов (на материале искусства)
Автор: Круглова Т.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Проектирование человека в постконфликтной культуре второй половины XX века: СССР, ФРГ и ГДР
Статья в выпуске: 3 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается концепт «поствоенная ситуация» на примере ценностно-проективных тенденций в СССР с 1945 по конец 1960-х гг. Проблематизируется трактовка периода как внутренне связанного в российской социально-гуманитарной литературе и общественной риторике. Указывается на сложную семантику концепта: это период после окончания военных действий (послевоенное время), имеющий четкую границу между двумя противоположными социальными порядками (война и мир), поэтому он относительно краткий. В большинстве историко-художественных исследований весь период с 1945 по 1985 г. частотно называется послевоенным или поствоенным. Специфика советской поствоенной ситуации в статье выявляется путем сопоставления с другими концептами, имеющими в своей семантике префикс «пост-»: посттравматическая и постконфликтная. Обнаружено, что в них необходимо присутствует черта, граница, разделяющая прошлое состояние (травмы, конфликта) и состояние завершения (излечения, разрядки и т.д.). Новое состояние «пост» характеризуется избавлением от власти прошлого и возможностью конструировать будущее. Переходу к новому состоянию способствует рефлексивная работа всей культуры над опытом прошлого. Выдвинута гипотеза о том, что в советской культуре произошло пролонгирование военного опыта и военной риторики на уровне многих страт культурного проектирования. Анализ материала изобразительного искусства и кинематографа доказывает, что война символически не была завершена и сохраняет свое ценностно-проективное значение. Более подробно рассмотрены векторы отношения к войне и ее влиянию на человека на материале искусства послевоенного десятилетия (позднего сталинизма), намечены пути сравнения с периодом оттепели.
Поствоенный период, культура позднего сталинизма, посттравматическая ситуация, послевоенный советский кинематограф, послевоенное советское изобразительное искусство
Короткий адрес: https://sciup.org/147246543
IDR: 147246543 | УДК: 316.7:7.06 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-3-144-154
Текст научной статьи «Послевоенный» и «поствоенный»: ценностно-проективное наполнение советской культуры с 1945 по конец 1960-х годов (на материале искусства)
Война как феномен истории является постоянным предметом исследования разных социально-гуманитарных наук: гражданской истории, политологии, культурологии, антропологии, истории искусства, психологии. Интерес к войне объясним прежде всего тем, что она связана с сильнейшими и очевидными переменами в социальном порядке и режиме повседневности, и это позволяет интеллектуалам понять в устройстве общества и человека многое, что в мирных условиях оказывалось скрытым. Иначе говоря, война как социальный и антропологический феномен была отгорожена от мирного состояния общества четкой границей . В других ситуациях, вне военных действий подобные черты провести между разными периодами всегда проблематично, так как социальная ткань и время непрерывны, граница между ними устанавливается очевидным образом искусственно и часто задним числом.
Исследовательское внимание к послевоенным периодам в СССР активизировалось в начале ХХI в. Особенно важно отметить количество публикаций, посвященных первому десятилетию (1945‒1954 гг.) ‒ периоду, чаще всего именуемому поздним сталинизмом [ Добренко , 2020]. Этот термин интересен тем, что сразу задает систему координат анализа, обнаруживая ее в социальнополитическом устройстве и его финальной фазе. Культурная политика и художественная практика первого послевоенного десятилетия концептуально имеют прописку в последней стадии сталинской модернизации. Но все чаще современные исследователи используют не сложившиеся, концептуально нагруженные термины для выделения границ периода, а хронологические, выделяя все более дробные части внутри тех неопределенных временн ы х границ, которые входят в номинацию «послевоенных». Например, авторы сборника «Победители и побежденные. От войны к миру: СССР, Франция, Великобритания, Германия, США (1941‒1950)» подробно рассматривают период короткой оттепели 1945‒1946 гг. Расширилась также сфера изучаемых объектов, документов, событий: много внимания уделяется визуальным источникам (журналы, плакаты, фото и кинохроника, мода и т.п.), «человеческим документам». До недавнего времени ясная и монохромная картина последнего сталинского десятилетия обрела пестроту и внутреннюю противоречивость, неоднородность, сложность. Все это мотивирует поиск новых объяснительных моделей для прояснения процессов, вызванных транзитом от войны к миру.
Назовем еще один мотив исследовательского интереса к концепту «послевоенный». На протяжении нескольких десятилетий внимание к поствоенным ситуациям оказывалось в тени собственно военных событий. Сложилось представление о том, что после прекращения военных действий наступает время (и пространство) мира, внутри которого правила жизни полностью меняются, происходит либо некоторое возвращение к довоенному режиму, либо установление новых порядков. В любом случае методология анализа строится на проведении вышеупомянутой границы между такими состояниями общества, как война и мир, их принципиальном различии. Предполагается, что подобная граница проходит и в общественном сознании, и в частной жизни конкретного человека.
Дискуссионным предметом исследования становится и сам концепт «поствоенного». Приставка «пост-», в отличие от наречия «после» с четким, сугубо темпоральным значением, нагружена амбивалентной семантикой, что хорошо видно и в других концептах с ее участием (постиндустриальное общество, постмодернизм и т.п.). С одной стороны, она означает конец, символическую смерть явления и наступление другого, нового порядка, причем принципиально инакового по отношению к предыдущему. В приставке «пост-» есть четко ощутимый темпоральный момент: она фиксирует черту между прошлым, которое не повторится, и будущим, т.е. ее однозначным аналогом является некое «после». «После» означает также и возможность трактовать наступившее состояние как «вследствие» предыдущего, новое состояние может быть понято как неизбежный результат прошедшего. С другой стороны, в состоянии «пост» указывается на преемственность с прежним состоянием, поскольку существительное остается тем же, нового термина не возникает. Зачем-то самоописание культуры сохраняет в номинации нового периода смысловую связь с предыдущим этапом. Таким образом, проблематизируется степень преодоленности и новизны наступившего «после» состояния. Возникает впечатление, что полного разрыва, перехода границы не происходит.
Зададимся вопросом: проблематичность определения специфики ситуации «пост» относится только к определенному кругу феноменов или это общая семантическая ситуация, неизбежно задающая оптику, в которой фиксируется не столько граница, сколько переходная полоса, возможно, растянутая в неопределенность времени? Есть ли феноменологическое сходство и теоретически аналогичные инструменты для анализа постконфликтных и поствоенных ситуаций? Является ли поствоенная ситуация видом постконфликтных ситуаций? На первый взгляд, да, является, ведь война – это конфликт, перешедший в самую радикальную, агрессивную стадию. Подтверждение этому мы находим в теории и практике целого комплекса институтов США, изучающих практики излечения, адаптации, социализации, инклюзии людей, прошедших через тяжелые конфликтные ситуации различной природы: локальные войны, волны миграции и беженства, этнические и религиозные конфликты и т.д. Все эти исследования объединены кон- цептом «постконфликтное» и разработкой общих для всех случаев способов преодоления травм и возвращения пострадавших в нормальное русло продуктивной социальной жизни.
Обратимся к трактовке концепта «постконфликтное» в конфликтологии. В этой науке устоялось представление о том, что вся целесообразная работа с конфликтующими сторонами будет продуктивна только после завершения конфликта. Для начала и успешного завершения работы, целью которой считается предотвращение будущих конфликтов по данному вопросу, необходимо быть уверенными в финальной точке конфликта, какой бы она ни была. Всякий конфликт имеет стадии своего развития, точки накала и неизбежного спада.
Однако, на наш взгляд, мы не можем полностью воспользоваться конфликтологической схемой применительно к поствоенной ситуации. Внимательный взгляд на мирную жизнь, наступившую после прекращения военных действий, не проходящий мимо подробностей, психологических состояний, привычек и культурных практик, – антропологический взгляд – отмечает размытость границы и ее проблематичность. Опыт, полученный на фронте и в тылу, не отсекается за ненадобностью, а начинает жить новой жизнью, втягиваясь в послевоенное переустройство, становясь ресурсом в решении житейских задач. Очевидно, он трансформируется, и эти изменения продиктованы отношением к прошедшему, которое должно быть осмыслено и встроено в будущее. В этом плане война задает некоторые ориентиры на будущее ‒ послевоенное время.
Еще один аргумент в пользу сомнения в корректности отождествления поствоенной и постконфликтной ситуаций. Г. Зиммель обращает внимание на то, как в результате внутренних и внешних конфликтов изменяются отношения в сообществах: «Любое взаимодействие в группе бывает особенно успешным, если появляется внешний враг. Тогда успешнее достигается единство общественного сознания» [ Черепанова , 2016, с. 66]. Г. Зиммель уточняет: после объявления войны. Но после окончания Второй мировой войны сразу начинается холодная война, а внутри СССР сразу поднимается очередная волна конфликтов и поисков новых врагов. Как пишет Зиммель, общество «заботится о враге, чтобы сохранить единство элементов, чтобы их витальный интерес был осознанным и сохранялся таковым» [Там же]. Таким образом, представляется сомнительным квалифицировать поствоенный советский период как полностью завершивший предыдущий конфликт, т.е. как постконфликтный.
Теории травмы, которым в последние десятилетия уделено много внимания, доказывают, что боль утраты, страх не могут перестать существовать сразу после исчезновения источников страданий, т.е. войны. Травма – это то, что продолжает жить и определять поведение человека, стратегии его действий, будущее. Поствоенную ситуацию можно трактовать и как продолжительное время действия травмы, т.е. посттравматическую, и это не зависит полностью от итога войны для стран: травмы есть и у победителей, и у побежденных. Изнутри теорий травмы вполне логично утверждать, что необходимо длительное время для преодоления травмы, и не всегда это происходит в ситуации «после», вариантов может быть множество. Травма может и не пройти, а определять долгую жизнь в мирное время. Таким образом, провести границу между актуальным состоянием травмы и ее латентным существованием часто не представляется возможным. Можно только воспользоваться метафорическим языком: если травма живет, значит, «война» продолжается.
Еще один параметр поствоенной ситуации заставляет нас фиксироваться на ее особенности среди разных постконфликтных состояний общества и людей. В дебатах о том, как быть с преступным или травматическим прошлым, активизированных после Второй мировой войны, «одной из важнейших категорий оказывается категория подведения черты. Под прошлым подводится черта, чтобы отделить его от того, что будет дальше, обозначить границу между старым и новым. Самым известным образом подведения черты в послевоенной европейской истории стал образ «нулевого часа» (24/0 часов 8/9 мая 1945 г.) или «нулевого года» (1945) в Германии» [Эппле, 2020, с. 351]. Н. Эппле так комментирует дебаты на эту тему: «Категория черты, точки, нуля, санитарного рва, переворачивания страницы – это способ набросить на непрерывное течение времени разметку, позволяющую обозначить прошлое, с которым не хочется иметь дело, как закончившееся, а себя отнести к начинающемуся с нуля и свободному от наследия прошлого настоящему. «Завершить» прошлое оказывается необходимо прежде всего потому, что его деструктивное воздействие не настоящее слишком болезненно и губительно» [Там же]. Рассуждения о «нулевом» состоянии, санитарном кордоне, выстроенном, чтобы болезнь не вернулась, а излечение было полным, также имеют истоком теории травмы.
Однако проблема заключается в том, что в случае с советской ситуацией найти симптомы или следы травмы очень сложно. Чтобы вести исследование послевоенного периода в дискурсе посттравматического синдрома и работы культуры с ним, придется доказать наличие травмы, ее культурно-антропологические симптомы и художественные репрезентации. А это в советском случае трудно вследствие устройства исторического материала, как идеологически-проективного, так и антропологического, оцениваемого по наиболее чувствительным к нему художественным источникам. Мы предполагаем, что и культурная политика, и искусство уклонялись от признания посттравматического синдрома внутри советского мира.
Наша исследовательская гипотеза состоит в том, что послевоенное проектирование человека в СССР специфическим образом выстраивало границу между войной и миром, производя противоположные культурно-антропологические импульсы. Один импульс заключался в позиционировании мира, исключавшего опыт войны из своего обихода и запрещавшего рефлексию над ним, что можно трактовать как отрицание травмы или настойчивое забывание ее. Это установление идиллической картины мира, которое выражено в массовидном потоке художественной продукции (театр, кинематограф, изобразительное искусство). Мы обозначили этот поток как версию «советского бидермайера» [ Круглова , 2023]. Другой импульс заключался в пролонгировании военного дискурса и размывании границы между войной и миром. Задачей исследования будет выявление различных векторов культурной политики и искусства внутри общего процесса, именуемого нами как пролонгация поствоенной ситуации примерно до начала 1970-х гг. Только на излете оттепели можно фиксировать возникновение черты, аналогичной той, которая была проведена в других европейских странах, прежде всего в ФРГ, хотя, разумеется, со своими специфически советскими признаками.
Таким образом, мы выделяем внутри поствоенной ситуации два периода (поздний сталинизм 1945‒1955 гг. и оттепель 1956‒1968 гг.), отличающиеся качественно друг от друга, но имеющие сходство в отношении к прошлому, а именно прошедшей войне: завершить прошлое не получается в силу разных причин - как идеолого-проективного, так и художественного происхождения.
В рамках данной статьи подробно будет рассмотрен только период позднего сталинизма. Анализ осуществлен на материале изобразительного искусства и кинематографа как наиболее влиятельного и массового вида искусства. Кинематограф, в отличие от изобразительных искусств и литературы, напрямую регулируется идеологией, любая субъективная трактовка подвергается тщательной корректировке, и это позволяет вычленить в нем признаки государственного проектирования наиболее чистым образом.
Советское искусство послевоенного десятилетия (1945‒1955 гг.): антропологический пейзаж после битвы
Во многих фундаментальных историях советского искусства (и культуры в целом) период послевоенного десятилетия пропускается, особенно это касается анализа человеческих ресурсов (опыта, привычек, ценностных установок, репертуара чувств и т.п.). Послевоенное десятилетие является неким белым пятном в истории советского искусства. В этом плане ситуация, которая сложилась в СССР в послевоенное десятилетие, интересна для проведения подобного анализа в силу ряда обстоятельств, которые необходимо учесть. Прежде всего обозначим методологическую рамку, изнутри которой будем анализировать кинематограф этого периода.
Во-первых, это исход военного конфликта для СССР - победа. Это чрезвычайно важное обстоятельство, так как в странах, испытавших поражение во Второй мировой войне, происходило осмысление причин проигрыша. Там шла целенаправленная работа всех акторов над преодолением травмы поражения, усиленная деятельность власти и интеллектуалов по проектированию человека, способного не только адаптироваться к условиям послевоенного порядка, часто устанавливаемого внешними субъектами, но и наделенного навыками формирования такого будущего, которое не допустит повторения прежних ошибок и травм. В СССР, выскажем пред- положение, в результате победы осмысление опыта, с которым советский человек вошел в послевоенный мир, было неактуальным и не становилось в центр повестки культурной политики. Тем не менее строительство поствоенного мира требовало от власти выработки ценностных ориентиров на настоящее и будущее страны с учетом новых реалий (назовем только некоторые из них: холодная война, истощение материальных и человеческих ресурсов, трудности перевода экономики и социальных институтов с военных на мирные рельсы и т.д.). Можно утверждать, что проектирование советской поствоенной культуры осуществлялось планомерно, но было наполнено иначе, чем в проигравших странах.
Во-вторых, в условиях позднего сталинизма накопились внутренние противоречия советского проекта, чреватые серьезным системным кризисом . Война в этом плане выполнила амбивалентную функцию: она задержала кризис и в то же время усугубила его. Рефлексия противоречий и проблем была блокирована, что выражалось в стратегии и тактике принятия решений, которые можно интерпретировать как истерические, непоследовательные, неадекватные объективным потребностям людей и неэффективные. В частности, это выразилось в активном внедрении двух совершенно противоположных ориентиров. С одной стороны, теория «бесконфликтности» – установка на то, что все основные конфликты внутри общности «советский народ» остались позади, народ продемонстрировал свое единство, сплоченность вокруг партии и правительства, и доказательством этого стала победа в Великой Отечественной войне. С другой стороны, были сформулированы новые конфликты: между «патриотизмом» и «низкопоклонством перед Западом» и множество других, вытекающих из этого противостояния. Соответственно, были заданы контуры новых врагов ‒ внешних (Запад) и внутренних, что придавало части культуры послевоенного мира явно выраженный милитаристский вид. Война убедила основную советскую массу в том, что террор и другие бедствия вполне логичное явление, объясняющее и необходимость войны, и неизбежность победы в ней, и репрессии/насилие/военные действия как самый эффективный способ борьбы с врагами. В конечном итоге внутренний и внешний враг слились в один, хотя и разноликий, образ.
В-третьих, не отказываясь от проекта строительства коммунистического будущего, фактически культура развернулась к прошлому и настоящему. По сравнению с мощной установкой на темпоральный прорыв («Время, вперед!»), постоянное подпитывание проективных усилий, позднесталинская культура сосредоточилась, с одной стороны, на трансляции достигнутого триумфа, а с другой стороны – на нормализации повседневности. Об этом пишет Г. А. Янковская: «Футуристическая энергия выдохлась, порыв к единой цели уступил место простым радостям повседневной жизни. Эталонные образцы нормального, традиционного гендерного порядка в иллюстрированных журналах указывают не только на “оппортунистические” ценности общества, революционная молодость которого осталась в довоенном прошлом. Они свидетельствуют, что трагический опыт войны напомнил советскому человеку: надо радоваться малому, жить здесь и сейчас, ценить то, что есть» [ Янковская , 2010, c. 293].
Конфигурация этих ориентиров создавала напряжение в поле послевоенной культуры, генезис которого оставался закрытым для рефлексии. Художественная культура была дезориентирована, металась между полюсами идиллии, «мирного неба» и «маленьких радостей простого человека, заслужившего покой», с одной стороны, и новой волной социальной мобилизации – с другой.
Главная проблема, пока не нашедшая концептуального осмысления: связаны ли победа в войне как значимый антропологический фон и посттравматический дискурс? Здесь может возникнуть ложный ответ: победа подтвердила необходимость и смысл жертв, списала все конфликты и «темные» моменты ведения войны, жизни в тылу и оккупации, а значит, отменила необходимость рефлексии и возврата к этим тяжелым воспоминаниям. Война – это прошлое, не нуждающееся ни в меморизации, ни в анализе, даже художественном. Да и само понятие «травма» связывалось только с поражением, унижением и утратой: величия, доминирования, гордости. То, что травмы могут быть порождением войны как таковой, не разбирающей победителей и побежденных, не могло актуализироваться изнутри официальной советской парадигмы.
Впервые установки проекта поствоенного существования были сформулированы через 9 месяцев после Победы в речи Сталина. Эта речь была не о возвращении к мирной жизни. «Его занимал другой вопрос: как нужно понимать итоги войны, а точнее – каковы были ее положительные итоги? ˂…˃ Война была проверкой, и Советский Союз эту проверку прошел. Это победа советского строя, который продемонстрировал свое превосходство» [Шишкова, 2023, с. 7‒8]. Очевидное игнорирование темы травмы прослеживается в том, что власть взяла курс на тенденцию к смещению темы войны из центра на периферию. Е. Добренко, исследуя послевоенную культурную политику, анализирует серию постановлений ЦК ВКП(б) 1946 г., регулирующих все виды искусства. Это выразилось в новой установке: «Современность интересовала Сталина не меньше, а даже больше, чем история. Особенно после войны, когда страна вступила в эпоху новой нормальности и когда режим абсолютной власти Сталина обрёл наконец окончательную, признанную всем миром легитимность» [Добренко, 2020, c. 320]. Далее Добренко отмечает, что «Постановление 1946 года окончательно отодвинуло в сторону тему войны, лишив ее статуса “современных тем”, поставив на место современности наступившее “коммунистическое завтра”» [Там же, c. 321]. Вместе с уходом темы войны закрываются возможности для художественной проработки последствий конфликтных ситуаций на фронте и в тылу, психологической помощи травмированных и страдающих, не поддерживается персональная и коллективная память о жизни в оккупации, трудностях эвакуации, голоде и сверхнапряженном труде на заводах и в поле.
Отношение к посттравматическому дискурсу в СССР можно описать через сравнение с другими постконфликтными и посттравматическими ситуациями в истории ХХ в. Исследовательский интерес к посттравматическим феноменам неслучайно возник после Первой мировой войны, а после Второй мировой войны он оформился в весьма представительное научное направление и институализировался. Не вдаваясь в подробности теоретико-методологических новаций, обратим внимание на то, что все исследователи сходятся в одном: трактовке опыта войны как травматического и катастрофического. Таким образом, большинство ученых озабочено выявлением особенностей посттравматического дискурса, говоря проще, того языка, на котором можно выразить этот опыт. И люди, пишущие дневники и мемуары, и художники встают перед очень сложной проблемой: рассказать о запредельном, трансгрессивном, немыслимом, выразить это таким образом, чтобы не внести в мирную жизнь энергию боли и страданий.
Посттравматические ситуации везде имеют и сходные, и различные признаки. Но дело в том, что и катастрофический, и посттравматический дискурсы в отношении советского опыта не обнаруживаются в послевоенный период, мы практически не знаем о таких произведениях искусства. Известно, что, например, Ольга Берггольц организовала Музей ленинградской блокады сразу после войны, и ее инициатива получила массовую поддержку снизу, люди несли свидетельства, возникал архив дневников и других личных документов и артефактов. Но начинание было официально прекращено, и далее вся институционализация памяти о войне попала под полный контроль сверху. Вспоминать можно было только определенным образом: преодоление трудностей, героизм. Травма не только не была осмыслена, но и потеряла право на существование. Исследователь массива эго-документов (дневники, записки, мемуары), ставших доступными на рубеже 1980–1990-х гг., замечает: «Можно говорить об общей тенденции: опубликованные в конце советской эпохи, совпавшей с концом ХХ в., такие мемуарноавтобиографические издания стремятся сделать индивидуальную жизнь частью истории (даже недавнее прошлое, вчерашний день историзируются). Большинство (даже лояльные советские граждане) пишут о катастрофическом опыте – о революции, сталинском терроре, войне, причем те, кто не заметил террора (а есть и такие), помещают катастрофу в контекст Великой Отечественной войны. Главное, что объединяет эти тексты, – это стремление сделать описания частной и, более того, интимной жизни публичными как исторические свидетельства катастрофического советского опыта» [ Паперно , 2021, c. 11]. Таким образом, катастрофический дискурс возникает довольно поздно, в период застоя (1970–1980-е гг.) и фиксируется задним числом.
На наш взгляд, в этой ситуации было недостаточно энергии для возникновения глубокой травмы и квалификации военного периода советской жизни как катастрофы на уровне обычного человека не только сразу после окончания военных действий, но и спустя 20 лет. Культурноантропологическая специфика советского человека на войне блокировала возникновение травмы как таковой. Современные теории травмы обращают внимание на то, что не всякое страда- ние, горе и утрату можно трактовать как травму [Травма:пункты, 2009]. Редакторы-составители сборника С. Ушакин и Е. Трубина считают, что «травма не только единовременное событие, резко изменившее жизнь человека, но и процесс, который продолжает влиять на отношение людей к их прошлому, настоящему и будущему. Травму невозможно свести только к акту нарушения - или даже полного разрушения - привычного образа жизни и сложившихся моделей самовосприятия. Травмирующей оказывается тщетность попыток сформулировать приемлемые причины этого неожиданного разрыва ткани социальной жизни» [Там же, с. 4]. Тем интереснее понять то, что случилось после войны, в какой экзистенциальной ситуации оказался советский человек-победитель, можем ли мы обнаружить в искусстве следы «тщетности попыток» говорить о разрушениях, а не о победах.
Так называемый «большой стиль» проектировал человека как персону без груза посттравматического опыта, адаптированную к жизни в постутопической реальности с полностью преодоленными конфликтами. Мобилизационный дискурс и тесно связанный с ним образ врага довольно подробно рассмотрены в научной литературе о холодной войне, поэтому мы сосредоточим внимание на противоположном векторе, названным нами «идиллическим», по аналогии с другим поствоенным периодом (1840-е гг., Германия, Австрия) - советским бидермайером [ Круглова, 2023]. Искусство европейского бидермайера усиливало чувство безопасности и уюта, разворачиваясь к простоте, избегало политических и социальных комментариев, фокусируясь на повседневности и частной жизни, демонстрируя полное отсутствие мобилизационного эффекта. Простота и естественность противопоставлялись пышности и репрезентативности. Изображения больше не носили символического характера, а были связаны с реальными людьми, вещами и событиями. Тщательно выписывались подробности и детали интерьера, бытовых вещей, одежды и природы. Идеалистичность соседствовала с «задушевной» интонацией, атмосферой тишины и покоя. Эстетическими средствами утверждалась гармония, убедительная и правдоподобная, не достижимая в других областях жизни.
Анализ советского визуального материала в самые первые годы после окончания войны, проведенный Г. А. Янковской, подтверждает стихийную установку на избегание тяжелых эмоциональных репрезентаций: «В первые послевоенные годы складываются каноны допустимого к публикации изображения войны. В социально-историческом измерении интересна не столько иконография, сколько репертуар визуальных впечатлений, доступных обычному советскому человеку. Как и в других воюющих странах, в СССР подвергались цензуре многие темы и сюжеты. Почти не встречались шокирующие изображения инвалидов и тяжких увечий, картин повседневной жизни на оккупированных территориях, социальных и межнациональных конфликтов. Практически исчезают фронтовые образы женщин-воинов. В отличие от финальной стадии Первой мировой войны, трагические события 1941–1945 гг. не сделали актуальной экспрессионистскую эстетику. Напротив, в 1945–1946 гг. использовались классицистские элементы эстетики праздников и побед: милитаристская символика Российской империи, изображения знамен, салютов, иллюминаций, пиротехнических спецэффектов, парадов. Другими визуальными компонентами образа закончившейся войны стали фотомонтажные снимки эшелонов победителей, праздничной Москвы. Социально-психологические настроения футуристического оптимизма, характерные для «весны победы» во всех европейских странах — победительницах, стали причиной изображения окончания войны в первые послевоенные годы именно как «триумфа» [ Янковская , 2007, с. 179-180].
Советский кинематограф 1945-1955-х гг.: варианты стратегий поствоенного проектирования
Период послевоенного десятилетия известен в истории советского кинематографа как «малокартинье». Снято и выпущено в прокат было всего 240 игровых кинофильмов [Кино, 1986]. Тем более важно проанализировать, каков был тематический, идейный и жанровый состав вида искусства, которое наиболее прямым способом транслировало государственный проект поствоенного мира. Нами был проведен количественный анализ контента, в результате чего были выявлены семь групп отечественных кинопроизведений. На первый взгляд, возникает эк- лектичная картина, состоящая как будто из мало связанных между собой фрагментов. Кроме того, сильно сбивает фокус анализа государственного заказа наличие в прокате огромного количества так называемых трофейных фильмов (появившихся в фондах с 1939 г., пополнившегося после 1945 г.), не только превышающих в десятки раз фильмы советского производства (8813 единиц хранения в фонде из 28 стран) [Лахузен, 2016, с. 184‒185], но и дающих статистику посещений, также указывающих на успехи в конкуренции с отечественной продукцией. Иностранная продукция была коммерчески выгодна, в то время как советские фильмы часто проваливались в прокате. Мы видим усилия власти создать конкурентоспособное зрительское кино с сильным акцентом на пропаганде. И это периодически удается, есть лидеры проката ‒ «Смелые люди», «Застава в горах», «Подвиг разведчика».
Семь выделенных нами блоков кинематографа послевоенного десятилетия представлены по убыванию количества:
-
1. Экранизация русской и зарубежной классики (Л. Толстой, Н. Гоголь, А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Островский, А. Куприн, А. Чехов, из советской классики – только М. Горький; зарубежная классика представлена Ж. Верном, У. Шекспиром, Л. де Вегой, Д. Дефо, Р. Шериданом) также выполняет важную функцию проекта поствоенного мира. Помимо уже упомянутого культурного величия и самобытности прошлого России, видна установка на доминирующее место внутри мировой культуры, образ которой также укоренен в прошлом. Настойчивый упор именно на классике выдает ретроспективный вектор проекта. Будущее как доминирующий в довоенной культуре тренд становится чем-то уходящим на задний план.
-
2. Музыкальные кинофильмы, оперы, оперетты, киноконцерты – создают атмосферу вечного праздника, веселья, заслуженного после труда отдыха. Сюжеты выбираются с хорошим концом, легкого, развлекательного характера, демократического звучания. В этом сегменте тоже доминируют сюжеты из прошлого («Майская ночь»), сказки («Черевички», «Каменный цветок», «Садко»), национально-фольклорные мотивы («Армянский киноконцерт», «Молдавские напевы»). Классическое искусство переплетается с самодеятельностью («Народные таланты»).
-
3. О русских культурных и военных героях: национально-консервативное измерение величия русского народа («Адмирал Нахимов», «Адмирал Ушаков», «Академик Иван Павлов», «Александр Попов», «Белинский», «Жуковский», «Иван Никулин», «Композитор Глинка», «Миклухо-Маклай», «Мичурин», «Пирогов», «Пржевальский», «Мусоргский», «Римский-Корсаков», «Колыбель поэта» и т.п.).
-
4. Многонациональная жизнь и культура народов СССР – представляет собой конгломерат эпосов, легенд, исторических событий всех республик («Тахар и Зухра», Алишер Навои», «Огни Баку», «Райнис», «Похождения Насреддина» и т.д.). Здесь тоже фиксируется ретроповорот к национальной классике и фольклору.
-
5. Экранизации советских писателей и сюжетов из современности («Далеко от Москвы», «Аттестат зрелости», «Алеша Птицын вырабатывает характер», «Большая семья», «Счастливый рейс», «Сказание о земле Сибирской»).
-
6. Жанровые картины – политические и шпионские детективы с приключенческим уклоном, в центре которых ярко выраженный образ врага («Заговор обреченных», «Застава в горах», «Дым в лесу»).
-
7. О войне («Молодая гвардия», «Подвиг разведчика», «Падение Берлина», «Во имя жизни», «Смелые люди»). Можно определенно утверждать, что фильмы о войне составляли самую малую долю от всего состава кинопродукции этого периода.
При всей кажущейся пестроте можно увидеть общие черты с теми векторами культурной политики и спроса потребителей, которые исследователи выявили на материале других видов искусства. Во-первых, это переосмысление классической советской темпоральности, нацеленности проекта на будущее. Проектам послевоенной эпохи присуща темпоральная и ценностная амбивалентность: победа открывает новую эпоху мирового триумфа социализма и одновременно закрывает ее, репрезентируя финал, итог социалистического строительства и удостоверение его успешности. Стивен Коткин считает, что «революционная миссия Советского Союза была переопределена: со строительства социализма акцент сместился на его защиту… Новый человек считался уже появившимся, перековка закончилась, антропологический проект реализован и прошёл испытание» [Прохоров, 2007, с. 14]. А после войны задачи строительства социализма и его защиты перестали быть актуальными, и уже не связанными с образом будущего: «Раньше соцреалистический метод работал с будущим, разглядывая его приметы в окружающей действительности и наполняя ее новыми образами, теперь задача менялась: чтобы предъявить миру величие СССР, в окружающей действительности необходимо было разглядеть не будущее, а некое альтернативное настоящее» [Там же, c. 16‒17]. Если в пореволюционное время можно было соблазнять мир проектом будущего, точнее, инновационностью проекта, прогнозом, мечтой, обещанием, то после Второй мировой войны нужно было предъявлять реальность социализма, но это было невозможно с точки зрения документальности и историчности. Поэтому востребованы совсем другие жанры: сказка, идиллия, легенда и т.п.
Общий консервативный тренд от будущего к прошлому связан с тем, что после войны происходило «смещение акцента с того, что предстоит сделать, на то, что удалось достигнуть» [Там же, c. 371]. А главное, предметом художественной репрезентации и антропологической ценности стало, вместо проклинаемого в довоенный период дореволюционного прошлого, собственное советское прошлое, без укоренения в котором победа не была бы возможна. Поэтому с таким прошлым необходимо было устанавливать только одну связь – преемственность периодов движения к социализму, единство истории, начинающееся еще в глубокой древности через борьбу угнетенных классов, мечту о справедливости и т.п. Постоянное присутствие врага (сначала в лице российского самодержавия и капиталистов, затем – враждебного окружения и внутреннего врага (народа), после войны – Запада (холодная война)) поддерживало эту связь.
Во-вторых, именно в эти годы в ряде кинолент формируется определенная мифологическая схема Великой Отечественной, из которой вытесняются наиболее травматические эпизоды и элементы, противоречащие советской идеологической модели. «К такой схеме можно отнести следующие постулаты: 1) внезапность нападения; 2) победа достигнута огромными усилиями всего советского народа, в том числе всех народов СССР; 3) гипертрофированная жертвенность во имя Родины; 4) победа достигнута под чутким руководством Партии и Вождя; 5) военный опыт – источник ценностей, проверяющих человека и объединяющих общество» [ Лям-зин , 2019]. Симптомом инверсии травматического опыта является количественное доминирование в общем потоке художественной продукции развлекательных жанров, комедий, приключений, сюжетов, связанных с ценностями малой семьи, детства, уютного космоса. Война видится местом разрыва с мирной довоенной жизнью, образ которой также конструируется как счастливый и бесконфликтный. Две эти точки насильственно соединяются практически без швов, довоенное и послевоенное бытие окрашено в мирные тона, и поэтому война оказывается как бы выдавленной из этой мирной картины.
Не вдаваясь в подробный анализ кинематографа оттепели, обратим внимание на сходство установки на преемственность движения к социализму. Различия между кинематографом позднего сталинизма и оттепели долгое время виделись очевидными и не требующими доказательств, но на временной дистанции можно зафиксировать общие места. Кинематограф оттепели, осторожно вынося в центр повествования многочисленные травмы войны, безусловно, спорит с предыдущим «идиллическим» модусом. Но при этом сама война как веха в пути становления советского человека обретает даже более глубокое значение. Событие войны становится в кино 1960-х гг. экзистенциальной границей, поворотом, который невозможно забыть или вытеснить. Военное и послевоенное поколения оказываются повязанными обязательствами памяти. Война даже хронологически оказывается в центре исторической советской темпоральности: время разделяется на период формирования советского человека как готового стать жертвой, героем и победителем, саму войну, которая логически заканчивается победой как аргументом в верности избранного антропологического проекта, и послевоенной ситуацией, которая уже запрограммирована на развитие, укрепление и сохранение того человеческого типа, который был рожден предыдущим.
Таким образом, можно утверждать, что после окончания войны и до конца 1960-х гг., учитывая некоторые внутренние различия между позднесталинским и оттепельным периодами, существовал поствоенный проект. Этому проекту были присущи амбивалентность точек конца и начала, размытость границы между состояниями мира и войны, инверсия травматических, конфликтных и других тяжелых аспектов опыта, снятие синдрома потерь и утрат выстраиванием искусства «заградительного» назначения. Война как событие была трактована одновременно в двух ценностных противоположных модусах: как то, что хочется забыть в силу невозможности выговорить страшный опыт, и неспособности жить с ним продуктивно. И в двух противоположных темпоральных модусах: война относится к прошлому, которое оправдывает тяжесть настоящего, и в то же время война постоянна как самый эффективный способ конструирования жизни. Все эти моменты объясняют пролонгацию войны во времени и удлинение послевоенного периода, невозможность окончательного завершения прошлого.
Список литературы «Послевоенный» и «поствоенный»: ценностно-проективное наполнение советской культуры с 1945 по конец 1960-х годов (на материале искусства)
- Добренко Е. Поздний сталинизм: эстетика политики. М.: НЛО, 2020. Т. 1. 720 с.
- Кино: энциклоп. словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1986. 640 с.
- Круглова Т.А. Советское искусство 1945-1955 гг. о «мире после войны»: культурная политика и антропологические реакции // Ярослав. пед. вестник. 2023. № 5 (134). С. 237-244.
- Лахузен Т. Переход количества в качество и наоборот, или диалектика киновосприятия в эпоху позднего сталинизма // От авангарда до соц-арта. Культура советского времени: сб. ст. в честь 75-летия профессор Х. Гюнтера. Белград, 2016. С. 181-189.
- Лямзин А.В. Базовые образы Великой Отечественной войны в советском и постсоветском кинематографе как элементы национальной российской идентичности // История и современное мировоззрение. 2019. № 1. С. 73-80.
- Паперно И. Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения. М.: НЛО, 2021. 320 с.
- Прохоров А. Унаследованный дискурс: парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе «оттепели». СПб.: Академический проект: ДНК, 2007. 344 с. Травма: пункты. М.: НЛО, 2009. 936 с.
- Черепанова Е.С. Философия конфликта: учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. 195 с.
- Шишкова Т. Внеждановщина. Советская послевоенная политика в области культуры как диалог с воображаемым Западом. М.: НЛО, 2023. 384 с.
- Эппле Н. Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах. М.: НЛО, 2020. 576 с.
- Янковская Г.А. Мемориальные образы войны и мира в советском изобразительном искусстве 1945-1946 гг. // Диалог со временем. 2007. Вып. 20. С. 170-179.
- Янковская Г.А. «Шел солдат с фронта». Послевоенные реалии и гендерные образы советских иллюстрированных журналов // Победители и побежденные. От войны к миру: СССР, Франция, Великобритания, Германия, США (1941-1950). М.: РОССПЭН, 2010. C. 284-296.