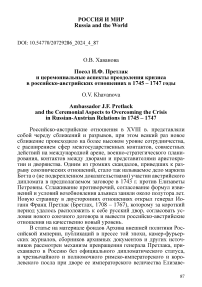Посол И.Ф. Претлак и церемониальные аспекты преодоления кризиса в российско-австрийских отношениях в 1745 - 1747 годы
Автор: Хаванова О.В.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Россия и мир
Статья в выпуске: 4 (82), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена периоду восстановления и упрочения российско-австрийских отношений в период преодоления последствий так называемого дела маркиза Ботта (1743 г.), когда из-за не подкрепленных доказательствами обвинений в поддержке предполагаемого заговора ряда аристократов против Елизаветы Петровны были демонстративно разорваны отношения с союзной Австрией. После согласования порядка принесения официальных извинений в Россию в декабре 1745 г. был направлен генерал барон Иоганн Франц Претлак с извещением об избрании Франца Лотарингского императором Священной Римской империи. За полгода пребывания при Санкт-Петербургском дворе он был официально аккредитован в статусе посла, став первым дипломатическим представителем первого класса в истории взаимоотношений двух держав. В статье рассматриваются церемониальные аспекты, отражавшие постепенное потепление в двусторонних отношениях, увенчавшееся возобновлением союзного договора летом 1746 г. и приглашением российской императрицы в восприемники новорожденного сына Марии Терезии и Франца I в 1747 г. Автором сделан вывод, что всякий раз после охлаждений и разрывов Санкт-Петербург и Вена восстанавливали сотрудничество на более высоком уровне, расширяли сферы взаимодействия и формы контактов. Преемники Претлака на этом посту продолжали аккредитоваться в ранге послов вплоть до досроч ного выхода России из Семилетней войны, одновременно представлять как Священную Римскую империю, так и Австрийский дом до кончины Марии Терезии в 1780 г., способствовать расширению связей между двумя дворами и аристократическими дворянскими сообществами двух держав.
Российская империя xviii в, габсбургская монархия, международные отношения, дипломатия, посол, императорский двор, церемониал, символическая коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/149146731
IDR: 149146731 | DOI: 10.54770/20729286_2024_4_87
Текст научной статьи Посол И.Ф. Претлак и церемониальные аспекты преодоления кризиса в российско-австрийских отношениях в 1745 - 1747 годы
Российско-австрийские отношения в XVIII в. представляли собой череду сближений и разрывов, при этом всякий раз новое сближение происходило на более высоком уровне сотрудничества, с расширением сфер межгосударственных контактов, совместных действий на международной арене, военно-стратегического планирования, контактов между дворами и представителями аристократии и дворянства. Одним из громких скандалов, приведших к разрыву союзнических отношений, стало так называемое дело маркиза Ботта о (не подкрепленном доказательствами) участии австрийского дипломата в предполагаемом заговоре в 1743 г. против Елизаветы Петровны. Сглаживание противоречий, согласование формул извинений и условий возобновления альянса заняли около полутора лет. Новую страницу в двусторонних отношениях открыл генерал Иоганн Франц Претлак (Бретлах, 1708 – 1767), которому за короткий период удалось расположить к себе русский двор, согласовать условия нового союзного договора и вывести российско-австрийские отношения на качественно новый уровень.
В статье на материале фондов Архива внешней политики Российской империи, публикаций в прессе той эпохи, камер-фурьер-ских журналов, сборников архивных документов и других источников рассмотрен механизм превращения генерала Претлака, приехавшего в Россию без официального дипломатического статуса, в чрезвычайного и полномочного римско-императорского и королевского посла при дворе ее императорского величества Елизаве- ты Петровны, рассмотрены инструменты и приемы символической придворно-дипломатической коммуникации, отражавшие прогресс в восстановлении двусторонних отношений, отмечено, какие из достижений Претлака в рассматриваемый период сохранились при его преемниках в XVIII в.
* * *
История союзных отношений Санкт-Петербурга и Вены отсчитывается от 1726 г., когда переговоры, начатые Петром I, завершились в царствование его супруги Екатерины I1. В 1696 г. в Москве действовал австрийский агент Отто Антон фон Плейер2, который в 1710 г. был официально назначен резидентом, а в 1718 г. – выслан из России в связи с подозрениями в подстрекательстве царевича Алексея к бегству. В 1701 г. в Вену отправился первый российский посол Петр Алексеевич Голицын (1660 – 1722). После его отбытия на родину в 1706 г. интересы России при венском дворе представляли выдвиженцы из ближнего круга царя и иностранцы на русской службе. В 1720 г. на эту должность был назначен польский шляхтич Людовик (Людвик) Ланчинский (1680 – 1752), тридцать лет исполнявший обязанности посланника и затем посла3.
Обе державы были объективно заинтересованы в установлении союзнических отношений, однако сначала дело царевича Алексея (1718 г.)4, затем принятие российским самодержцем императорского титула (1721 г.) 5 тормозили и отбрасывали назад и без того непростой переговорный процесс6. На фоне частой сменяемости австрийских министров в Санкт-Петербурге или их отсутствия представительство Священной Римской империи и Австрийского дома при дворе, ведение переговоров с российскими вельможами, поддержание преемственности во взаимоотношениях легли на плечи сначала секретаря миссии, затем – резидента Себастьяна Гохгольцера (Го-генгольца). Он прибыл в Россию в начале XVIII в. и был отозван на родину только осенью 1747 г.
После охлаждения и фактического разрыва российско-австрийских отношений, вслед за принятием Петром I императорского титула, шаг к новому сближению сделала австрийская сторона. Россия – на фоне подписания Венского союза 1725 г. и формирования Ганноверского союза в лице Англии, Франции и Пруссии – становилась не только важным политическим партнером для обоих блоков, но и обретала право на дружбу всех европейских держав7. В ходе переговоров удалось обойти щекотливый вопрос об императорском титуле российских государей, и 6 августа (26 июля) 1726 г. в Вене был подписан союзный договор, 24 августа (4 сентября) того же года рати- фицированный в Санкт-Петербурге Екатериной I8.
К. Штеппан неоднократно обращал внимание исследователей на то обстоятельство, что женитьба царевича Алексея на браун-швейг-вольфенбюттельской принцессе Шарлотте Кристине (1694 – 1715), доводившейся сестрой супруге императора Карла VI, следует рассматривать как важный фактор внешней политики двух держав и их правящих домов, оказавшихся в кровнородственных отношениях9. Не будет преувеличением сказать, что после смерти Петра II, доводившегося племянником Карлу VI, десять лет правления бездетной Анны Иоанновны прошли под знаком демонстративной (хотя и не лишенной противоречий) российско-австрийской дружбы. Австрийские посланники в Санкт-Петербурге пышно праздновали дни тезоименитств германского императора и его супруги, украшая резиденцию богатой иллюминацией10. Получив 13 (24) марта 1736 г. известие о свадьбе старшей дочери императора Марии Терезии с герцогом Францем Лотарингским, два дня спустя на пышном банкете в Зимнем дворце Анна Иоанновна поднимала тост за здоровье новобрачных и за «постоянную и вечную дружбу или армонию»11. Когда самодержица приблизила к себе племянницу Анну (1718 – 1746), которую для более прочной связи с союзным венским двором женила на принце Антоне Ульрихе (1714 – 1776), в Вене уже строили планы, как на российском престоле воссядет русский царь с кровью брауншвейг-вольфенбюттельских герцогов в жилах. В знак должного внимания к символической стороне готовившегося в Санкт-Петербурге летом 1739 г. бракосочетания, посланник при русском дворе маркиз Ботта д’Адорно (1688 – 1774) на дни торжеств был повышен до ранга полномочного посла12.
В июле 1740 г. маркиз получил отпускную аудиенцию и с почетом отбыл в Вену, чтобы осенью того же года получить предписание вернуться в Санкт-Петербург, куда и прибыл в январе 1741 г. В российской столице он пережил декабрьский дворцовый переворот, свержение внучатого племянника покойного германского императора младенца Иоанна VI и восшествие на трон дочери Петра Великого. Тем временем во владениях Австрийского дома произошли важные перемены: 20 сентября 1740 г. на Государственном собрании Венгерского королевства Мария Терезия была избрана королем, а летом следующего года торжественно короновалась в Пресбурге (современная Братислава). Это, кстати, стало ее первым и самым высоким титулом. В январе 1742 г. она аккредитовала Ботта в качестве своего посланника в Санкт-Петербурге. Движимая необходимостью заручиться поддержкой России в войне за Австрийское наследство, она признала императорский титул Елизаветы Петровны13.
Ботта пробыл в России еще год. Несомненно, он общался с оп- позиционно настроенными к новой государыне представителями придворных партий, возможно, искал пути спасения или облегчения участи разлученного с родителями принца. Французский историк Ф.-Д. Лиштенан со ссылками на письма и сочинения Фридриха II писала, что Ботта сблизился с группой «бояр», намеревавшихся возвратить малолетнему Ивану престол, а себе – древние права. «Заговорщики регулярно собирались и обсуждали, какие меры предпринять; ходили даже слухи, что они подкупили лакея императрицы и с его помощью намеревались ее отравить»14.
В октябре 1742 г. Мария Терезия подписала своему послу отзывную грамоту, и летом 1743 г. тот отбыл к новому месту службы в Берлин. В любом случае у новой российской власти маркиз Ботта ассоциировался со свергнутой династией, а доносы клеветников разжигали подозрения. Вскоре в России разгорелся скандал, получивший впоследствии имя дипломата Ботты, представители древнейших знатных родов, заподозренные в государственной измене, подверглись публичным наказаниям или были приговорены к ссылке.
Дипломатические отношения с венским двором были разорваны, год 1744-й ушел на то, чтобы усилиями нового чрезвычайного посланника графа Филиппа Розенберга-Орсини (1691 – 1765) выработать текст официального извинения15, после которого Елизавета Петровна, потребовавшая у своей «приятельницы и сестры» подвергнуть злодея тюремному заключению, сочла бы инцидент исчерпанным. Мария Терезия, так и не получив доказательств виновности своего дипломата, показательно заточила Ботту на непродолжительное время в тюрьму в Граце и собственной рукой написала Елизавете Петровне письмо: «И яко тесное и щастливое между обоими дворами согласие, начало свое при славном государствовании блаженной государыни Вашей матери Императрицы Екатерины получило, тако я не сумневаюсь, чтоб оное между нами двумя вяще и вяще укреплено не было»16.
* * *
Новую страницу во взаимоотношениях двух держав, двух династий и дворов открыл офицер гвардейского драгунского полка, генерал австрийской службы, римско-императорский камергер, барон Иоганн Франц фон Претлак, неожиданно прибывший к российскому двору в декабре 1745 г. Канцлер А.П. Бестужев-Рюмин (1693 – 1766), не подозревавший о том, какую роль предстояло сыграть новому австрийскому эмиссару, после первой с ним встречи писал: «Он <…> по-видимому, учтивый и неглупый человек; долго ли он здесь пробудет и примет ли на себя какой министерский характер, о том он еще нималейше не отзывается»17.
Впоследствии, не питавшие к Претлаку симпатий прусские посланники А. фон Мардефельд (1691/1692 – 1748) и К. В. Финк фон Финкенштейн (1714 – 1800) оставили о нем нелестные характеристики. Первый писал о склонности генерала к хвастовству («выпив же вина, хвастлив становится, как настоящий австриец») и неуместной браваде. Второй отмечал отсутствие навыков ведения переговоров, посредственный ум, поверхностное знание дел, но в то же время признавал: «Расположение к интриге, внешность коя императрице пришлась по нраву, советы первого министра и обстоятельства благоприятные столь удачно ему талант заменили, что нашел он способ исполнить и даже превзойти все желания своего двора»18.
Претлак в самом деле прибыл в Россию в качестве «нарочной персоны». Так в российской дипломатической практике, за неимением лучшего определения, называли эмиссаров иностранных дворов, выполнявших конкретное (ad hoc) поручение. С собой он привез из-вестительную грамоту Франца Лотарингского о том, что 4 октября 1745 г. (новый стиль) он был коронован во Франкфурте императором Священной Римской империи. Это первая грамота в истории взаимоотношений двух империй, где российская государыня титулована «Пресветлейшая и державнейшая императрица»19. Согласно камер-фурьерскому журналу, 17 декабря «пополуночи в 12-м часу при дворе Ея Императорского Величества имелась приватная партикулярная аудиенция прибывшему из Цесарии венгерскому генералу Бретлаху»20. В отсутствие дипломатического статуса он выступал в качестве римско-императорского камергера.
Несмотря на поздний час, стороны обменялись короткими речами (комплиментами), что указывало на серьезную подготовительную работу по переводу заранее направленных в Коллегию иностранных дел текстов Претлака и сочинению на них ответов от имени императрицы и великокняжеской четы. Через неделю тексты речей в переводе на русский язык были опубликованы в «Санктпе-тербургских ведомостях»21. На самом деле, по заведенному к тому времени порядку, Претлак обращался к императрице по-немецки, к великокняжеской чете – по-французски, ответы же на его комплименты были даны великим канцлером от имени императрицы, как того требовал церемониал, на русском (текст перевода на немецкий язык был передан Претлаку), от имени великого князя и княгини их камергером князем Александром Михайловичем Голицыным (1718 – 1783) на французском языке22. Так была подтверждена и зафиксирована практика официальных аудиенций при императорском и великокняжеском дворах, которой в дальнейшем следовали другие послы.
Новый год, 1746-й, он встретил как частное лицо. Посольские верительные грамоты ему были подписаны в Вене только в конце февраля по новому стилю, причем в разные дни: 24-го – королевой венгеро-богемской Марией Терезией, 25-го – римско-германским императором Францем I. На следующий день Мария Терезия разрешилась от бремени девочкой, будущей пармской герцогиней Марией Амалией (1746 – 1804), и 27 февраля была оформлена еще одна, известительная, грамота императора Франца о прибавлении в Габсбургско-Лотарингском доме23. Скорее всего, все три грамоты были отправлены в Санкт-Петербург с одним курьером, но вручение их прошло по отдельности.
О том, что после разрыва и охлаждения, последовавших за скандалом вокруг дела Ботта, грядет потепление и новый расцвет, свидетельствуют обстоятельства вручения известительной грамоты о рождении маленькой архидукессы. Сам порядок вручения говорил о том, что русский двор по-прежнему имел дело не с аккредитованным дипломатом, а с персоной, нарочно посланной к санкт-петербургскому двору. Запись в камер-фурьерском журнале за 13 апреля гласит: «Того ж дня цесарскому посланнику была аудиенция у Ея Императорского Величества, объявлял, что цесарева Римская родила дочь, следующим порядком: в 12 часов поутру пришел в галерею никем не встречен и дожидался в галерее, а как отпели обедню, то Ея Императорское Величество изволила выйти в парадную янтарную камеру, куда помянутый посланник обер-церемониймейстером отведен, и отправлялась приватная аудиенция. По окончании аудиенции оный же посланник препровожден обер же церемониймейстером к Их Императорским Высочествам для аудиенции»24. На этот раз тексты речей были опубликованы не только в «Санктпетербург-ских ведомостях» по-русски25, но и в “Wienerisches Diarium” («Венский дневник») по-немецки26.
Не прошло и месяца, как барон Претлак 8 мая 1746 г. (старый стиль) был допущен до первой официальной аудиенции, где наконец вручил верительные грамоты и тем самым стал первым в истории двух держав постоянным дипломатическим представителем в ранге посла27. Речи, произнесенные по этому поводу, 13 мая перепечатали на русском языке «Санктпетербургские ведомости» и на немецком (для великокняжеской четы также параллельно на французском) ее немецкий аналог газета “St. Petersburgische Zeitung”28. Месяц спустя новость дошла до Вены, и “Wienerisches Diarium” перепечатала тексты речей на немецком в приложении к номеру от 25 июня 1746 г.29
В отличие от предшественников, Претлак представлял в России двух суверенных монархов – императора Священной Римской империи и королеву Венгрии и Богемии. Логика требовала проведения двух аудиенций и поочередного вручения верительных грамот, но здравый смысл подсказывал более простое и прагматическое решение. А.П. Бестужев поэтому писал вице-канцлеру М.И. Воронцову (1714 – 1767): «Хотя он для подания обоих своих кредитов две аудиенции требовать мог бы, то однако ж он, не хотя ее императорское величество утруждать, оные в одно время поднесет. Сия со стороны римско-императорского двора нашей всемилостивейшей Государыне оказуемая атенция толь наипаче существительна есть, яко едва ли такие примеры имеются, чтобы одна персона двух коронованных глав в посольском порядке представляла»30. Так оформилась еще одна норма церемониально-дипломатического этикета, которая действовала вплоть до кончины Марии Терезии в 1780 г.
Когда в 1741 г. по случаю рождения эрцгерцога Иосифа в Россию был отправлен граф Вильчек, его приняли при дворе правительницы Анны Леопольдовны, но ответной миссии в Вену не отправили. Принцип взаимности установился в правление Елизаветы Петровны, когда с поздравлением императору Францу в Вену в мае 1746 г. отправился камергер Николай Наумович Чоглоков (1718 – 1754). Предположительно выбор пал на него в силу родства с императрицей через ее двоюродную сестру Марию Семеновну Гендрикову (1723 – 1756) и свободного владения немецким языком благодаря матери-немке. Во время пребывания в австрийской столице он получил аудиенции у римско-императорской четы, эрцгерцогов и эрцгерцогинь, присутствовал на куртагах, передал комплимент вдовствующей императрице Елизавете Кристине (1691 – 1750). В церемониальном протоколе венского двора отмечалось, что в знак особого отличия прием «господину боярину фон Чоглокову» был дан не в Хофбурге, а в только что отстроенном Шёнбрунне31.
Следующим успехом Претлака стало подписание 22 мая (2 июня) 1746 г. «Трактата окончательного союза». Переговоры и согласования заняли год. О готовности обсуждать условия нового документа российская сторона объявила 30 мая 1745 г. по старому стилю, когда граф Розенберг уже покинул Санкт-Петербург. Трактат основывался, с необходимыми изменениями, на положениях договора 1726 г. В первом секретнейшем артикуле стороны в случае нападения на одну из них Османской империи обязывались объявить войну Стамбулу. Четвертый и пятый секретные сепаратные артикулы определяли порядок действий в случае войны с Пруссией32. М.Ю. Анисимов справедливо отметил, что трактат возвращал внешнюю политику Елизаветы Петровны в русло ее предшественников и закреплял политический выбор русского двора в системе международных отношений33.
Претлак пришелся в России ко двору в прямом и переносном смысле. Е.Н. Щепкин (1860 – 1920) писал: «Два или три раза в неделю австрийский посол проводил у канцлера вечера один на один часа по четыре, по пяти и тотчас же узнавал все новости»34. В мае 1747 г. ему удало сь сблизить два правящих дома еще теснее – символически породнить их через институт восприемни-чества. Австрийский историк А. Штокелле полагала, что идея пригласить православную российскую самодержицу в восприемницы будущего ребенка Марии Терезии и Франца I принадлежала именно Претлаку. В ноябре 1746 г. в донесении государственному канцлеру графу Антону Корфицу Ульфельду (1699 – 1770) посол, еще не зная пола младенца, предложил назвать новорожденного мальчика Петром, а девочку Елизаветой. На тот момент, кстати, Елизавета Петровна уже была восприемницей племянника Фридриха II, сына его младшего брата Августа-Вильгельма (1722 – 1758) – будущего короля Фридриха Вильгельма II (1744 – 1797)35. Принимая новое приглашение, она становилась восприемницей принцев двух воющих за «Австрийское наследство» европейских держав.
Хотя Римско-католическая церковь строго требовала, чтобы восприемники не принадлежали к «иноверцам или еретикам», вопрос о вероисповедании крестной матери был обойден молча-нием36. В декабре 1746 г. (нового стиля) император Франц писал в Санкт-Петербург «многолюбезнейшей приятельнице и сестре»: «Яко время приближается, в которое мы уповаем, что ее величество, наша любезнейшая супруга от бремени щастливо разрешится, <…> к совершенному доказательству нашей весма преданнейшей благонамеренности, через сие просить воcхотели, что ожидаемого от Бога родящегося младенца от святого крещения восприять»37. В январе 1747 г. о своем желании духовно-символически породниться с российской императрицей написала и Мария Терезия: «Мое желание единственно токмо к тому простирается, дабы имеющейся с Вашим императорским величеством узел дружбы изо дня в день теснее укрепить»38. В день появления на свет младенца место восприемницы у купели занял дядя новорожденного – принц Карл Лотарингский (1712 – 1780), что так и осталось единственным случаем в истории Австрийского дома, когда крестную мать замещал мужчина. Церемония прошла в недавно отстроенной летней резиденции Шёнбрунн со всем возможным великолепием, чтобы не зародить у российской стороны подозрений в малой значимости торжественного акта39.
Известительные грамоты о рождении Петра Леопольда с приглашением в восприемницы привез в Санкт-Петербург барон Фридрих Вильгельм Кетт(е)лер (иначе: Кетлер, 1718 – 1783)40. С ответ- ной миссией в Вену был вскоре отправлен сын великого канцлера граф Андрей Алексеевич Бестужев-Рюмин (1726 – 1768), и этот обмен нарочными персонами стал новой практикой во взаимоотношениях двух дворов, не отмененной даже после того, как они на исходе Семилетней войны перестали быть союзниками. Ответным жестом российского двора стали приглашение Франца I и Марии Терезии в восприемники внучатого племянника Елизаветы Петровны, цесаревича Павла Петровича в 1754 г.41, делегирование в Вену барона Карла Ефимовича Сиверса (1710 – 1775) и приезд в Санкт-Петербург графа Людвига Цинцендорфа (1721 – 1780).
Сорокалетний генерал Претлак, подобно другим европейским дипломатам, с трудом переносил суровый российский климат и в 1748 г. запросил рекредитив. На смену ему из Берлина приехал другой дипломат в чине генерала – граф Йозеф Карл Антон Бернес (1690 – 1751). Однако новый посол был глубоко нездоров: его отзыв и замена на полюбившегося русскому двору Претлака состоялись в октябре 1750 г. Покинув Россию весной 1751 г., Бернес в том же году скончался.
Во второй приезд в Россию Претлак готовился жить на широкую ногу и заранее отправил следовавший впереди него багаж с сырами, окороками, вяленой рыбой, винами, сухофруктами, кофе, табаком и прочим. Еще до приезда он написал великому канцлеру, «прося ему у ее императорского величества исходатайствовать, чтоб первый его антре от пошлин освобожден был»42. Расчет на триумфальное возращение в Россию не оправдался. Весной 1753 г. Фридрих II, прекрасно информированный о событиях и настроениях в Санкт-Петербурге, писал посланнику в Стокгольме Якобу Фридриху Роду (1703 – 1784): «Как мне известно, генерал Претлак настоятельно просил отозвать его, убедившись, что его кредит при русском дворе значительно упал в сравнении с тем, каким он был во время его первой миссии»43.
* * *
Итак, в первое посольство И.Ф. Претлака оформились коммуникативные практики между Веной и Санкт-Петербургом, соблюдавшиеся с необходимыми изменениями на протяжении второй половины XVIII в. Вплоть до выхода России в 1761 г. из Семилетней войны (1756 – 1763 гг.) дипломатические представители двух держав принадлежали к первому рангу, и возвращение к этой практике было связано с возобновлением российско-австрийского альянса в 1781 г. Вплоть до 1757 г. австрийские эмиссары были единственными дипломатами в посольском характере в российской столице, что давало церемониальные преимущества перед другими иностранными министрами.
Начиная с Претлака все австрийские дипломаты до 1780 г. представляли в России двух монархов и одновременно ведали сношениями России со Священной Римской империей и владениями Австрийского дома и подчинялись на родине имперскому вице-канцлеру и надворному государственному канцлеру.
Общительный, амбициозный и ловкий Претлак легко вписался в жадный до увеселений двор российской императрицы. В дни пребывания Чоглокова в Вене Мария Терезия кокетливо заявляла: «Вам де кажется здесь весма скушно, что никаких таких веселостей нет, какие при дворе Ея Величества Государыни Императрицы Всероссийской часто бывают, и о которых нам генерал Бретлах пишет»44.
Посол обзавелся полезными связями при российском дворе и широкой сетью информаторов в столичной дипломатической среде. Уже после окончательного отъезда из России в 1754 г. он продолжал состоять в переписке с саксонским посланником Иоганном Фердинандом Августом Функом – соглядатаем и информатором канцлера А.П. Бестужева, чем вызывал немалое раздражение преемника, посла графа Николауса Эстерхази45.
Наконец, при И.Ф. Претлаке обмен нарочными миссиями по церемониальным поводам, таким как поздравления с новорожденными или заключением браков в правящем доме, стал регулярным. Придворные круги Вены и Санкт-Петербурга во время таких визитов знакомились обычаями принимающего двора, учились преодолевать или обходить культурные различия. Все это закладывало фундамент и создавало предпосылки для их не лишенного противоречий, но взаимовыгодного сотрудничества.
Список литературы Посол И.Ф. Претлак и церемониальные аспекты преодоления кризиса в российско-австрийских отношениях в 1745 - 1747 годы
- Steppan Ch. Akteure am fremden Hof: Politische Kommunikation und Repräsentation kaiserlicher Gesandter im Jahrzehnt. des Wandels am russischen Hof (1720 – 1730). Göttingen, 2016.
- Schedewie F. The Tsar’s Capital without the Tsar: According to Reports from St Petersburg to the Imperial Court of Vienna, 1716 – 1717 // Quaestio Rossica. 2018. Vol. 6. No. 3. Р. 696–710.
- Костяшов Ю.В. Российский посланник в Вене Людвик Ланчинский (1721 – 1751 гг.) // Проблемы истории международных отношений в новое время. Смоленск, 2002. С. 150–158.
- Die Flucht des Thronfolgers Aleksej: Krise in der “Balance of Power” und den österreichisch-russischen Beziehungen am Anfang des 18. Jahrhunderts. Münster, 2019.
- Гребикова А. Стефан Вильгельм Кинский – дипломат Священной Римской империи в России в 1721 – 1722 гг. // Взгляд чужеземца: дипломаты, публицисты, ученые-путешественники между Востоком и Западом в XVIII – XXI вв. Москва; Санкт-Петербург, 2020. С. 71–77.
- Петрова, М.А., Хаванова, О.В., Шварц, И., Штеппан, К. От первых контактов к союзническим отношениям // Россия – Австрия: вехи совместной истории. 2-е изд. Москва, 2019. С. 13–16.
- Штеппан К. Австро-русский альянс 1726 г.: долгий процесс при общих политических интересах сторон // Славянский мир в третьем тысячелетии: Соглашение (согласие), договор, компромисс в истории, языках и культуре славянских народов. М., 2016. Т. 11. С. 88.
- Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. В 15 т. Т. 1: Трактаты с Австрией 1648 – 1762 г. Санкт-Петербург, 1874. С. 34–44.
- Лиштенан Ф.-Д. Россия входит в Европу: Императрица Елизавета Петровна и Война за австрийское наследство, 1740 – 1750. Москва, 2000. С. 115.
- St. Petersburgische Zeitung. 1735. 27 X. № 86. S. 348; 1739. 13 XI. № 91. S. 364.
- Журнал придворной конторы, на знатные при дворе Ея Императорского Величества оказии, 1736 года. Б.м., б. г. С. 13, 14.
- Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 32. Сношения России с Австрией. Оп. 2. Д. 104. Л. 6–7. Карл VI – Анне Иоанновне, Вена, 12 (1) апреля 1739 г. (перевод).
- АВПРИ. Ф. 32. Оп. 2. Д. 123. Мария Терезия – Елизавете Петровне, Вена, 30 января 1742 г. (нов. ст.).
- Лиштенан Ф.-Д. Россия входит в Европу: Императрица Елизавета Петровна и Война за австрийское наследство, 1740 – 1750. Москва, 2000. С. 115.
- Санктпетербургские ведомости. 1744. 22 нояб.; St. Petersburgische Zeitung. 1744. XI. 22. S. 2–4.
- АВП РИ. Ф 32. Оп. 2. 1745. Д. 132. Л. 5. Мария Терезия – Елизавете Петровне, б.м., б.д. (перевод): Распечатана и прочитана императрицей 16 марта 1745 г. (ст. ст.).
- А. П. Бестужев-Рюмин – М.Л. Воронцову, Санкт-Петербург, 21 декабря 1745 г. // Архив князя Воронцова. Кн. 2. Москва, 1871. С. 139.
- Лиштенан Ф.-Д. Россия входит в Европу: Императрица Елизавета Петровна и Война за австрийское наследство, 1740 – 1750. Москва, 2000. С. 283, 305.
- АВПРИ. Ф. 32. Оп. 2. 1745. Д. 134. Л. 2. Франц I – Елизавете Петровне, Вена, 10 октября 1745 г. (нов. ст.).
- Церемониальные, банкетные и походные журналы 1745 г. Б.м., б.д. С. 142.
- Санктпетербургские ведомости. 1745. 24 дек.
- АВПРИ. Ф 32. Оп. 1. 1745. Д. 8.
- АВПРИ. Ф. 32. Оп. 2. 1746. Д. 138. Мария Терезия – Елизавете Петровне, Вена, 24 февраля 1746 г. (нов. ст.); АВПРИ. Ф. 32. Оп. 2. 1746. Д. 140. Франц I – Елизавете Петровне, Вена, 25 февраля 1746 г. (нов. ст.); АВПРИ. Ф. 32. Оп. 2. 1745. Д. 141. Франц I – Елизавете Петровне, Вена, 27 февраля 1746 г. (нов. ст.) (Все три письма – на латинском языке).
- Журналы церемониальный-банкетный, камер-фурьерские и путевые, 1746 года. Б. м., б. д. 1746. С. 50, 51
- Санктпетербургские ведомости. 1746. 18 апр.
- Wienerisches Diarium. 1746. 4 VI. № 46. Anhang.
- Журналы церемониальный-банкетный, камер-фурьерские и путевые, 1746 года. Б. м., б. д. С. 59–61.
- Санктпетербургские ведомости. 1746. 13 мая; St. Petersburgische Zeitung. 1746. V 13. Anhang.
- Wienerisches Diarium. 1746. 25 VI. № 51. Anhang
- А.П. Бестужев-Рюмин – М.Л. Воронцову, Санкт-Петербург, 6 мая 1746 г. // Архив князя Воронцова. Кн. 2. Москва, 1871. С. 151.
- Österreichisches Staatsarchiv, Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Obersthofmeisteramt. Zeremonialakten Protokolle. Bd. 20, fol. 469r–v.
- Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. В 15 т. Т. 1: Трактаты с Австрией 1648 – 1762 г. Санкт-Петербург, 1874. С. 147–176.
- Анисимов М.Ю. Россия в системе великих держав в царствование Елизаветы Петровны (1741 – 1761 гг.). Москва, 2020. С. 256.
- Щепкин Е.Н. Русско-австрийский союз во время Семилетней войны: 1746 – 1758 гг.: Исследование по данным Венского и Копенгагенского архивов. Санкт-Петербург, 1902. С. 53.
- АВПРИ. Ф 74. Сношения России с Пруссией. Оп 1. 1744. Д. 4. Елизавета Петровна – [Августу] Вильгельму, Москва, 14 декабря 1744 г. (ст. ст.), отпуск грамоты.
- Stöckelle A. Taufzeremoniell und politische Patenschaften am Kaiserhof // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 1982. Bd. 90. S. 324.
- АВП РИ. Ф 32. Оп. 2. 1746. Д. 143. Л. 4–4об. Франц I – Елизавете I, Вена, 10 декабря 1746 г. (нов. ст.), перевод.
- АВП РИ. Ф 32. Оп. 2. 1746. Д. 144. Л. 4 об. Мария Терезия –Елизавете I, Вена, январь 1747 г. (нов. ст.).
- Stöckelle A. Taufzeremoniell und politische Patenschaften am Kaiserhof // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 1982. Bd. 90. S. 324.
- Хаванова О.В. Рождение эрцгерцога Иосифа и символическая дипломатия венского двора в 1741 г. // Славяноведение. 2022. № 5. С. 5–17.
- Хаванова О.В. Рождение цесаревича Павла Петровича и символическая коммуникация между санкт-петербургским и венским дворами // Человек на Балканах: Памяти Андрея Леонидовича Шемякина (1960 – 2018). Санкт-Петербург; Москва, 2020. С. 50–68.
- АВПРИ. Ф. 32. Оп. 1. 1752. Д. 7. Дело о не взыскании пошлин с провизии римско-императорского в России посла барона Претлака. Л. 15.
- Фридрих II – Я.Ф. Роду, Потсдам, 1753 г. // Politische Correspondenz Friedrichs des Großen. Bd. 9. Berlin, 1882. S. 398.
- АВПРИ. Ф. 32. Оп. 1. 1746. Д. 7. Л. 67. Н.Н. Чоглоков – Елизавете Петровне, Вена, 24 мая 1746 г. (ст. ст.).
- Щепкин Е.Н. Русско-австрийский союз во время Семилетней войны: 1746 – 1758 гг.: Исследование по данным Венского и Копенгагенского архивов. Санкт-Петербург, 1902. С. 207.