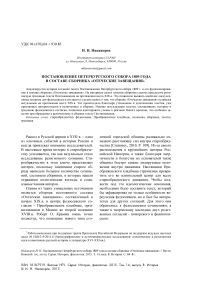Постановление петербургского собора 1809 года в составе сборника "Отеческие завещания"
Автор: Никаноров Иван Николаевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Анализируется история создания текста Постановления Петербургского собора 1809 г. и его функционирование в составе сборника «Отеческие завещания». На материале шести списков сборника удалось проследить рукописную традицию текста Постановления на протяжении всего XIX в. Это позволило выявить наиболее дискуссионные вопросы для федосеевского согласия и сделать вывод о том, что сборник «Отеческие завещания» оставался актуальным на протяжении всего XIX в. Это происходило благодаря уточнениям и дополнениям текстов, уже признанных авторитетными и включенных в сборник. Именно актуализация текстов, составлявших историю и традицию федосеевского согласия, позволяла адаптировать учение к реалиям Нового времени, что особенно заметно при обращении к включенному в сборник тексту Постановления.
Старообрядчество, федосеевцы, преображенское кладбище, полемика, тексты, традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/147219434
IDR: 147219434 | УДК: 94
Текст научной статьи Постановление петербургского собора 1809 года в составе сборника "Отеческие завещания"
Раскол в Русской церкви в XVII в. – одно из ключевых событий в истории России и всегда привлекал внимание исследователей. В настоящее время интерес к старообрядчеству усиливается, так как актуальным стало исследование религиозного сознания. Старообрядчество в этом ключе представляет интерес, поскольку защитники старого обряда написали большое количество сочинений, составили сборники, в которых нашли отражение политические взгляды и социальные чаяния авторов.
Одним из таких уникальных источников является сборник постоянного состава «Отеческие завещания», составленный в начале XIX в. в центре федосеевского согласия – Преображенском кладбище, организованном в Москве во второй половине XVIII в. Роберт О. Крамми очень точно подметил, что появление нового типа сто- личной городской общины радикально изменило расстановку сил внутри старообрядчества [Crummey, 2010. P. 109]. Из-за своего расположения в крупнейших центрах Российской Империи, а также благодаря энергичности и богатству их основателей такие общины быстро заняли лидирующее положение внутри движения. Наставники Преображенского кладбища стремились превратить его во влиятельный центр для всего старообрядческого движения. Чтобы подвести под это идеологические основания, необходимо было составить текст, который бы зафиксировал не только особенности вероучения федосеевцев, но и был бы авторитетен для других согласий. Для этого они обратились к федосеевским сочинениям, а также к творческому наследию двух родственных согласий – поморского и филипповского.
Итогом этой работы стал сборник, составленный из сочинений различных жанров и соборных постановлений, которые федосеевцы считали в начале XIX в. наиболее авторитетными. Об этом нам позволяет говорить уже название сборника – «Отеческие завещания», т. е. составителями предложено воспринимать эти тексты в качестве святоотеческой традиции. Тексты, включенные в сборник, отражают эволюцию федосеевского учения: от сочинений основателя согласия до современности, которая нашла отражение в постановлениях московских соборов. В 1805 г. сборник был собор-но одобрен на Преображенском кладбище. Несмотря на это, сразу же начались дискуссии вокруг содержания сборника. Для обсуждения его содержания 22 января 1809 г. в Петербурге на Волковом кладбище 1, в присутствии И. А. Ковылина и представителей большинства региональных общин 2, открылся собор, на котором было принято Постановление по наиболее актуальным вопросам вероучения, состоящее из 17 статей. Оно было оформлено петербургским наставником Яковом Холиным, председательствовавшим на соборе. Текст Постановления демонстрирует наиболее актуальные и дискуссионные вопросы, волновавшие федосеевское согласие в начале XIX в. Попробуем продемонстрировать это, обратившись к анализу текста Постановления.
В оглавлении оригинала сборника «Отеческие завещания» отсутствует Постановление Петербургского собора 1809 г. Это свидетельствует о том, что этот текст был включен уже после завершения основной работы над сборником 3. Постановление было включено в его состав таким, каким оно было привезено И. А. Ковылиным из Петербурга и передано наставникам Преображенского кладбища 4. Однако, поскольку Постановление содержало в себе ряд дискуссионных моментов, московские наставники созвали собор для рассмотрения и утверждения его статей. В более поздние списки сборника Постановление Петербургского собора было включено уже с соборным утверждением наставников Преобра- женского кладбища и в сопровождении дополнительных пояснительных писем.
Это свидетельствует о том, что даже после завершения работы над сборником «Отеческие завещания» и соборного утверждения его текста он дорабатывался, продолжая функционировать в качестве авторитетного свода правил в согласии на протяжении всего XIX в. Функционирование в составе сборника Постановления Петербургского собора 1809 г. является наглядным примером того, каким образом федосеевцы актуализировали авторитетные тексты. Представляется целесообразным проследить историю создания данного соборного Постановления, изменения, которые он претерпел в процессе функционирования в составе сборника «Отеческие завещания», проанализировать его содержание.
Как уже было ранее отмечено, сразу после соборного одобрения сборника «Отеческие завещания» начались споры по поводу его содержания. В частности, в центре внимания оказалось соборное постановление 1791 г. о примирении между федосеевцами и петербургскими филипповцами, включенное в состав сборника «Отеческие завещания» 5. Следует отметить, что составление сборника осуждалось в филипповском согласии. Например, в сочинении авторитетного московского филипповского наставника Алексея Яковлева (Балчужного) [Мальцев, 2004] оно было охарактеризовано как «отступление», так как в сборник были включены «Польский устав» и выписка из жития Феодосия Васильева. По мнению автора, в этих сочинениях были зафиксированы те идеи, от которых федосеевцы отказались в результате полемики с филипповцами 6.
Полемика с филипповцами актуализировала внутреннюю дискуссию в федосеевском согласии вокруг «Польского устава» – центрального текста сборника «Отеческие завещания», регламентировавшего жизнь и организацию федосеевской общины. Об остроте дискуссии внутри согласия свиде- тельствует письмо Преображенского наставника Михаила Васильева к ярославским федосеевцам: «…дошло в слухи наши, что по ненависти исконного врага рода христи-янского превниде в наши страны, через некоторых совесть поправших людей, известие о собранной от наших християн человеком от разных прежних отец писем в книге Отеческое завещание, якобы она утверждает в главе шесть статьею 1-ю и в главе 13-й (Польский устав. – И. Н.), на листу 108-м непременно содержать животворящий крест с надписанием “IНЦI”, в 6-й же главе, статьею 45-ю умствует законным браком быть до познания веры совокупившимся» 7. Михаил Васильев соглашается с тем, что в сборник «Отеческие завещания» действительно включены некоторые тексты статей из «Польского устава», которые со временем утратили силу. Для своих ярославских адресатов он поясняет, что эти постановления о кресте и браках отменены последующими соборными постановлениями, о чем на полях сборника параллельно с соответствующими статьями есть указания.
Помимо того что часть статей «Польского устава» утратили силу, изменившиеся социальные условия также требовали корректировки его статей. Поскольку «Польский устав» как основополагающий для идеологии согласия текст не способен был регламентировать жизнь федосеевцев в изменившихся условиях, когда общины находились не только в сельской местности, как это было ранее, а в крупных и малых городах Российской империи. Кроме того, изменился состав согласия. Ведущую роль в нем стали играть социальные группы, активно включенные в модернизационные процессы Империи – купцы и промышленники. После обсуждения федосеевцы пришли к выводу о необходимости дополнения и адаптации статей «Польского устава» к реалиям Нового времени и изменившимся социальным отношениям.
Постановление Петербургского собора 1809 г. свидетельствует, что федосеевские наставники стремились удержать свою паству от соблазнов и ослабления веры в большом городе – сохранить аскетический дух, свойственный первоначальному учению. Об этом говорилось уже в преамбуле:
«Мы ныне, в 1809 г., генваря 22 дня в Петербурге… собравшиеся благочестивые хри-стияне для укрепления православные веры законов и для установления неких християн колебания». Далее подчеркивалось, что речь идет не о новых правилах, а только о «по-новлении» действующих: «Сие же мы не новое предание внесше, но древнее, укрепляюще, поновихом» 8. Действительно, статьи Постановления Петербургского собора явно дополняли и адаптировали для новых условий существования общины «Польский устав», и стремились вернуть согласие к первоначальным идеалам учения.
К этому времени социальный облик федосеевского согласия существенно изменился. Если в первой половине XVIII в. основную массу федосеевцев составляли беглые крестьяне и мастеровые, то в конце столетия, после организации Преображенского кладбища, крупное купечество начинает играть в центре согласия заметную роль. Как установлено исследователями, старообрядцы научились успешно приспосабливаться к новым капиталистическим реалиям, и Преображенское кладбище стало для федосеевцев не только духовным, но и крупным экономическим центром. П. Г. Рындзюнский отмечает, что федосеевское движение было теснейшим образом связано со становлением в России капиталистических отношений [1950]. Наставники попытались приспособить федосеевское учение к новым реалиям, опираясь на систему авторитетных текстов.
В Постановлении Петербургского собора этой цели служит обширный блок, посвященный обсуждению бытовых вопросов. Статья 7-я повторила закрепленный во многих уставных текстах запрет на общую трапезу с иноверными, пояснив что «ослабляется от сего в православных вера и истребляется в них крепость благочестия…» 9. Большое внимание отводилось и сохранению внешнего облика, подобающего «христианину». В подтверждение ст. 14-й «Польского устава», ст. 9-я запрещала пускать на общее моление «не стригущих власы по христианскому обычаю» 10. В восьмой статье 11 с сожалением отмечалось, что «платье немецкое многие видится христианы носят», поэтому духовникам предписывалось паству от этого удерживать, а непокорных – отлучать. «Польский устав» не содержал такого запрета, по причине его неактуальности в Польше, где община была более замкнута и имела меньше доступа к иным образцам поведения и европейским товарам. В Москве же федосеевцы, особенно купцы, как указывается в Постановлении, могли «впасть в соблазн» и отказаться от «платья христианского». Строгие наказания в статьях свидетельствуют, что для старообрядцев характерен традиционализм в отношении к внешнему виду.
Постановление Петербургского собора свидетельствует, что федосеевцы должны были дать оценку новым явлениям культурной жизни, которые не нашли отражение в «Польском уставе». В ст. 15-й запрещается хождение в «маскерады», в «театры», «оперы» и «комедии» 12, а нарушающие это установление наказывались 500 поклонами. Отдельная 14-я статья целиком посвящена теме игры в карты. С горечью отмечалось, что многие федосеевцы «вместо упраждения во чтении Божественнаго Писания, не токмо долгие провождают вечера, но и целыя нощи во игре карточной». Наказание для них дифференцировалось в зависимости от того, «для забавы» они играли или же для «душе-пагубныя денежныя страсти». Первым полагалось совершить 1 000 поклонов, а вторых предать градским властям, дабы «наказание и епитимия, как градские законы повелевают, им духовным с смыслом непременно выполнить должно» 13.
Во всех этих статьях явно прослеживается стремление наставников уберечь свою паству от «душепротивных» явлений крупного города, которые, несомненно, проникали в федосеевскую общину. Это еще раз свидетельствует о том, что старообрядцы сохранили представление о греховности смеха и увеселений, характерное для официальной церковной культуры XVI–XVII вв., считавшей подобное времяпровождение недостойным христианина [Лихачев и др., 1984. С. 146–147; Лотман, Успенский, 1977], что было буквальным толкованием евангельской заповеди: «Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете... Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь» 14. Для старообрядцев это отрицательное отношение к веселью еще более усиливалось в связи с проповедью о наступлении «последних времен» 15.
В связи с изменившимся социальным составом федосеевской общины и усилением в ней роли купечества, актуальным в начале XIX в. был вопрос о браке. Не случайно Постановление открывается статьей «о старобрачных», так называемых «староженах» – федосеевцах, вступивших в брак до перехода в старообрядчество, которая несколько иначе оценивает такой брак в сравнении с «Польским уставом». В 45-й статье «Польского устава» брак «староженов» обозначен как «законный» [Польский устав, 1864. С. 20], а в Постановлении 1809 г. об этом уже не говорится. Кроме того, цитата из апостола Петра, на которой Феодосий Васильев строил свою аргументацию, защищая «ста-роженческий» брак в полемике с Выгом, обозначена как неавторитетная: «Апостольского же попущения: еже неверному мужу с верной женой или верной жене с неверным мужем, чтоб в довод им не приводити, понеже хотя и было сие в церкви попущение, но при полноте церковной и священных ли-цех» 16. Эта статья «о староженах» свидетельствует о том, что, возможно, под влиянием полемики с филипповцами и в соответствии со статьями примирительного собора 1791 г., федосеевцы отказывались от норм, закрепленных в «Польском уставе», но прямо не говорили о незаконности такого брака, стремясь де-факто сохранить его, указывая лишь на необходимость поучать супругов «чистому житию» [Мальцев, 2006. С. 234].
Особые статьи посвящены проблеме «новоженческих» браков, то есть браков, заключенных после крещения. Ст. 2-я, в сравнении со ст. 42-й «Польского устава» [1864. С. 19], смягчала отношение к раскаявшимся «новоженам», облегчая их принятие в общину в случае добровольного развода. Закономерно, что в связи с такими браками поднимался вопрос и о детях «но- воженов». Отношение к ним в сравнении с «Польским уставом» принципиально изменилось. Статьи 27-я и 29-я «Польского устава» строго запрещали под страхом отлучения этих детей крестить: «Младенцев здравых у новоженов, ни духовным, ни простым людям не крестить. Аще ли духовный окрестит здравого, и такого духовника от духовенства отставить, а простого человека отставить, отлучить» [Там же].
Соответствующая статья Постановления Петербургского собора допускала крещение таких детей без развода родителей, но при этом оговаривались следующие условия: «С таковыми предлогами крестить их подобает: чтобы с миром им не сообщаться, среды и пятки и прочие посты по преданию святыя Церкви хранити, и немецкого платья им не носити, до совершеннаго возраста воспитывати их в благочестии, ни с миром, ни с собой не смешивати, а по прошествии 4-х летнего возраста… приводити в храмы на молитву, и по семи летех определять их к отцу духовному на покаяние…» 17. Согласно 5-й статье запрещалось крестить детей «но-воженов», уже имеющих крещеных детей, но воспитывающих их, не выполняя указанных выше условий. Из данных статей видно, что федосеевские наставники стремились увеличить число прихожан и последователей, смягчив позицию по отношению к тем, кто в «Польском уставе» охарактеризован как отступники и замирщенные.
Вопросу о «новоженах» посвящена и ст. 16-я, отменяющая решения двух федосеевских соборов, проходивших в Москве (1770 г.) и в Стародубе (1771 г.): «Статьи или письма о Новоженах, обносящияся в людехговоренныя в Москве 7278 (1770. – И. Н.) году и в Стародубе 7279 (1771. – И. Н.) лете, ежели где таковыя обрящутся, яко не бывшия вменяти, и в доказательство их не приводити, а если которыя будут во сви-детелсьтво их приводити, или что из них заимствовати, во оправдание таковых от церкви наказывати». Решения указанных соборов позволяли принимать «новоженов» на исповедь без развода и крестить их детей без дополнительных условий [Прения или борьба за устав Польский, 1864. С. 66–68]. О несоответствии этих соборных решений федосеевскому учению Преображенские наставники обращали внимание до этого в по- сланиях региональным общинам. Включение отдельной статьи в Постановление Петербургского собора свидетельствует о желании наставников Преображенской общины во главе с Алексеем Ковылиным, присутствовавшим на соборе, придать этому осуждению соборный характер и указать региональным федосеевским общинам на недопустимость ссылок на эти статьи. Замечание, что эти статьи до сих пор используются некоторыми федосеевцами, еще раз доказывает, что в федосеевском согласии не было единства по вопросу о браке и отношению к «новоженству».
Отдельная статья была посвящена вопросу «О половинках», т. е. тех федосеевцах, когда один супруг принадлежал к федосеевскому согласию, а другой нет. Статья гласила: «Ежели неверная часть обратится в веру, то по исполнении надлежащего ей поста и поклонов крестити их ю с обещанием целомудренного жития со отлученным лицеем, в молении, ядении и питии не сообщаться, а на общую молитву и покаяние всегда приходить подобает» 18. Таким образом, неверный допускался к крещению без развода и такой брак после крещения считался законным. Эта статья вызвала острую дискуссию в среде федосеевцев. Об этом свидетельствует тот факт, что в тексте «Отеческих завещаний» рядом с 6-й статьей на полях помещена следующая приписка: «Сергий. Сию шестую статью здешнее московское общество, поелику 52-му правилу Номоканона не согласует, не приемлет в действие» 19. Вероятно, эта приписка была сделана при включении данных статей в сборник, а автором замечания мог быть Сергей Яковлев – руководитель Преображенской общины и противник «новоженских» браков. Это свидетельствует о негативном отношении московских федосеевцев к данной статье.
Следует заметить, что в целом отношение к «новоженам» (если сравнить с временем составления «Польского устава») заметно смягчилось, хотя в Постановлении Петербургского собора подчеркивалось, что признать законным брак нельзя и принципиальных уступок самим «новоженам» сделано не было. Важно отметить, что жесткая позиция Преображенских наставников по отношению к возможности заключения за- конного брака, помимо бессвященнического состояния, вполне объяснялась и экономическими причинами. Посмертные вклады были основным источником финансового благополучия общины. Для федосеевцев, не имевших законных детей, наследником становилось Преображенское кладбище [Рынд-зюнский, 1950]. Некоторое смягчение по отношению к «новоженам» можно рассматривать как вынужденную компромиссную меру, направленную на то, чтобы не отпугнуть купечество, поддержка которого была также крайне важна для федосеевских общин.
В Постановлении Петербургского собора был затронут и вопрос о чиноприеме поморцев в федосеевское согласие. В ст. 11-й предлагалось принимать поморцев через шестинедельный пост, как указывалось «по установлению прежних отец» 20. В «Польском уставе», где впервые четко были сформулированы правила о приеме поморцев, ст. 4-я предписывала принимать их через совершение 300 поклонов. Учение о принятии третьим чином, через шестинедельный пост, заменявший принятие вторым чином, через миропомазание, было сформулировано сподвижником старца Филиппа, иноком Тарасием [Гурьянова, 1988. С. 100].
Ужесточение отношения к поморцам вполне может быть интерпретировано в качестве продолжающегося сближения федосеевского учения с филипповским, начало которому было положено в «Исповедании веры» И. А. Ковылина и на соборе в Петербурге, состоявшемся в 1791 г. Характеристика явно заимствованной у филипповцев новации как «установления прежних отец» свидетельствует о переходе к почитанию федосеевцами некоторых филипповских учителей. Изменение позиции в отношении поморцев в первую очередь, вероятно, вызвано официальным признанием поморцами «но-воженческого» брака, произошедшего уже после принятия «Польского устава», зафиксировавшего довольно мягкие условия чи-ноприема.
В ст. 11-й было определено наказание для федосеевцев, сохранявших общение с поморцами: «…православных (федосеевцев. – И. Н.), ежели кто долгое время в молении, ядении и питии с ними пребудут и возвра- тятся. Две четыре десятницы им поста нала-гати и за поминовение оных всю церковную службу земными поклонами наказывати» 21. Причиной ухудшения отношения федосеевцев к поморцам и общающимся с ними, разумеется, было влияние филипповцев и обусловлено изменением отношения поморцев к браку. В 1798 г. настоятель московской поморской молельни Г. И. Скачков добился от выговцев признания «новоженского» брака законным 22. Это сделало любые переговоры с поморцами о мире невозможными. Преображенские наставники опасались, что наличие в Москве другой беспоповской молельни, приемлющей брак, может увеличить число сторонников «новоженства» среди федосеевцев и ускорить процесс перехода в родственное согласие. Они стремились максимально изолировать прихожан Преображенского кладбища от поморцев.
В конце соборного Постановления определялось наказание для наставников за неисполнение его статей. Указывалось, что таковые наставники будут подвергнуты «общецерковному суду». Первый такой случай карался 300 поклонами, во второй раз предписывалось уже 600 поклонов, а в третий – предполагалось отлучение и лишение звания наставника 23. Содержание данной статьи свидетельствует о стремлении к дальнейшей унификации федосеевского учения и предотвращению децентрализаторских тенденций в согласии, наметившихся в конце XVIII – начале XIX в.
Таким образом, Петербургские статьи 1809 г. дополняли «Польский устав», актуализируя его, пытаясь приспособить к новым условиям и реалиям. Федосеевцы столкнулись с другими проблемами в больших городах и должны были адаптироваться к социально-экономическим условиям Нового времени. Принципиально важным здесь было разрешить разногласия, связанные с отношением к возможности вступления в брак. Отношение к «новоженам» было несколько смягчено, хотя принципиальных уступок им сделано не было. Изменить отношение к браку не позволял мир с филип-повцами, которые были ярыми противниками супружеских отношений в «последние времена».
После завершения собора в Петербурге, принятое Постановление было оформлено Яковом Холиным, снабжено объяснениями к статьям и направлено в Москву для утверждения наставниками Преображенского кладбища. В такой редакции текст Постановления Петербургского собора был включен в оригинал сборника «Отеческие завещания» 24. Функционирование сборника на протяжении XIX в. позволяет проследить, каким образом изменялось отношение федосеевцев к данному тексту.
В составе сборника середины XIX в. (Собр. Шибанова № 211) Постановление Петербургского собора скопировано в том же виде, что и в оригинале сборника, включая глоссы 25. Это свидетельствует о том, что сборник «Отеческие завещания» до середины XIX в. оставался авторитетен и копировался с минимальными изменениям, которые свидетельствовали об актуализации отдельных вопросов для общины. Например, в текст Постановления Петербургского собора дополнительно включен фрагмент из послания к пастве известного федосеевского наставника Сергея Гнусина. Он содержал предписание отлучать родителей, способствовавших браку своих детей: «…сочетал ли сына или дочь внешним браком или сватал… потакавшим своим детем ко злым делам и беззаконным, не покупал ли им нарядов блазнительных… анафема таковых родителей» 26. Данное дополнение, по-видимому, с точки зрения составителей сборника, должно было разъяснить неосвещенные аспекты актуального вопроса о браке.
Рукописи сборника, созданные позднее 27, дают возможность уточнить историю функционирования текста данного соборного Постановления. В двух рукописях 28 комплекс текстов, связанных с петербургскими статьями, представлен в расширенном варианте. В них вслед за предисловием и Постановлением Петербургского собора, идентичным оригиналу, были включены письма наставников Преображенского кладбища, связанные с созывом специального собора в Москве для рассмотрения и утверждения данного Постановления. Вероятно, это долж- но было поднять авторитет этих статей в глазах читателя. Отметим, что данные письма имели также самостоятельное хождение и включены, в частности, в федосеевский сборник «Отеческие письма». Обратимся к анализу текста писем, чтобы прояснить причины их включения в сборник «Отеческие завещания» и обозначить вопросы, вызвавшие дискуссию.
В этих письмах раскрываются обстоятельства, помешавшие оперативному рассмотрению статьей Петербургского собора на Преображенском кладбище. После смерти в 1809 г. И. А. Ковылина в Москве заметно усилились разногласия в среде федосеевцев. Кроме того, сами Петербургские статьи стали предметом полемики в согласии. В частности, влиятельные купцы О. А. Бумажников и В. К. Аристов, недовольные смягчением взгляда на «новоженов» и лояльным отношением к государственной власти, разорвали контакты с руководителями Преображенского кладбища и организовали собственную общину.
Другие региональные общины также оказались вовлечены в дискуссию вокруг Постановления Петербургского собора. В 1811 г. разгорелся конфликт между наставниками Преображенского кладбища и Ярославской общиной, вызванный стремлением последних смягчить отношение к поморцам и принимать в общину «новоженов» [Мальцев, 2006. С. 358–360]. Лидер ярославских федосеевцев А. В. Баландин в послании наставникам Преображенского кладбища отмечал, что учение наставников Преображенской общины не согласуется с учением «прежних отцов» 29. Протест автора вызвало ужесточение отношения к поморскому согласию, зафиксированное в Петербургских статьях, которое он охарактеризовал как «новоуза-конение». Автор подчеркивал, что прежде у федосеевских наставников не было подобной практики. Это дало ему основание для того, чтобы сформулировать отказ принимать Постановление Петербургского собора «наравне с постановлениями Вселенских соборов», на чем настаивали его авторы в преамбуле 30. Все это потребовало до полнительного времени для рассмотрения Петербургских статей на Преображенском кладбище.
Необходимость подробного и всестороннего рассмотрения статей Постановления Петербургского собора осознавалась наставниками Преображенского кладбища. В октябре 1812 г. один из них, Сергей Гнусин, направил в Петербург письмо, в котором извинялся за задержку в рассмотрении статей и сообщал, что Сергей Яковлев, глава общины Преображенского кладбища, распорядился зимой собрать наставников для их рассмотрения 31. Окончательно этот вопрос был решен в 1813 г., о чем свидетельствуют два письма московских наставников в Петербург 32. Данные письма позволяют прояснить отношение московских наставников к Петербургским статьям, а также охарактеризовать, каким образом они оценивали ситуацию в согласии.
Первое послание было написано 4 мая 1813 г. Преображенскими наставниками Лукой Терентьевым, Иваном Федотовым и Сергеем Семеновым (Гнусиным. – И. Н .). С точки зрения структуры и содержания – оно играло роль преамбулы и сопроводительного письма к соборному рассмотрению и утверждению статей во втором послании. В первом письме наставниками отмечалось, что статьи были переданы И. А. Ковылиным еще в 1809 г., однако по ряду причин так и не были рассмотрены. Далее авторы перечислили эти причины. В качестве основной они указали, что после его смерти «прида-лось здешней церкви претерпевать долгое время в междуусобных и неполезных привнесенных от лжебратии распрях» 33, т. е. наставники осознавали, что после смерти И. А. Ковылина начались нестроения внутри согласия. Далее авторы сообщают, что, конечно, рассмотрение статей задержало нашествие Наполеона – «всероссийского врага и французского державца, губящего все наше любезное отечество» 34.
После перечисления причин, по которым задержалось рассмотрение на Преображенском кладбище статей, авторы отмечают увеличение числа сторонников брака среди федосеевцев и обличают их. Они подчеркивают, что единственный путь к спасению – «еже любити Бога», но многие «ею же
(любовью. – И. Н. ) увеселяются друг с другом в делех противных Божественному Писанию». Такая любовь, резюмируют авторы, «Богу есть мерзска, а Сатане паче любезна» 35. Данное противопоставление любви к Богу и плотской любви является аллюзией к «Слову о любви» Ефрема Сирина, весьма распространенному в книжной традиции Древней Руси [Москалева, 2005].
Авторы с сожалением отмечают усиливающиеся центробежные тенденции внутри согласия в связи с полемикой вокруг брака: «Н[ы]не преболе тии от от святыя церкви и православныя веры и отпадают. И еже не хотят узким путем ходити. Но по стезям искривленным, и упадшествуя церковную тишину возмущают, сердца простых развращают, чем еще более ризу Христову раздирают» 36. Однако авторы отмечают, что «православным» надлежит не «грешников всегубительноыя нашествия, но… Второго Христова пришествия» 37. Они указывают, что единственный путь к спасению – исполнять правила и Постановления, завещанные предками – «им же нучихомся и видяхом и примихом от предков наших, сия да творим и будет бог мира со всеми нами» 38. Завершая письмо, авторы сообщают, что статьи Петербургского собора рассмотрены и возвращены в Петербург с заверениями и объяснениями по поводу каждой статьи. Данное письмо включено в сборник «Отеческие завещания» явно с целью объяснить причины долгого рассмотрения соборного Постановления 1809 г. и охарактеризовать положение дел в согласии после смерти И. А. Ковылина.
Второе письмо представляет собой соборное Постановление, о чем свидетельствует начало послания: «Мы, ныне подписавшиеся царствующего града Москвы, благочестивые граждане, имея при себе свидетельство, о соборном, за собственноручном подписании писем в единомыслии: Казанских, Саратовских, Вятских, Оренбургских, Костромских, Ростовских, Галицких, Кинешемских, Чуломских, Суди-славльских и прочих…» 39. Наставники Преображенской общины, несмотря на все центробежные тенденции, стремились позиционировать себя как центр согласия, и, безусловно, были авторитетны для многих региональных общин.
В этом Постановлении представлен результат рассмотрения статей с подробными объяснениями. Наиболее спорными, с точки зрения наставников Преображенского кладбища, оказались статьи, смягчившие отношение к «новоженам», поскольку полемика со сторонниками брака была одной из центральных для них. В частности, Сергей Гну-син, составивший текст данного соборного Постановления, был последовательным противником брака и автором ряда полемических сочинений по этой теме 40.
Первые две статьи о браке были утверждены в том же виде, в каком и были присланы. В разъяснении к ним особо подчеркивалась невозможность совершения таинства брака без священника. Статья о «родителях новоженов», по мнению авторов, требовала «опасного обыскания». Они указывали, таковых родителей следовало бы «по всем правилам» отлучать от Церкви. Наставники предложили различать тех, кто раскаялся и детей своих не оправдывает, и накладывать на них епитимью согласно статье: «И да знают они, что церковь на них трехлетнюю епитимью налагает по крайнему человеколюбию то-чию» 41. В доказательство допустимости подобного подхода авторы привели цитату из «Книжицы о христианском житии» Игнатия Трофимова 42, соборно одобренной наставниками Преображенского кладбища и включенной в сборник «Отеческие завещания» в качестве 43-й главы. Тех же, кто «совокупляют чад и в домы приемлют, и без всякого зазора яко законных почитают и с ними сожительствуют» – наставники предписали отлучать 43. Без изменений была утверждена статья о крещении детей от «новоженов».
Особые возражения вызвала 6-я статья «о половинках», предполагавшая возможность признания брака без развода между «верным» (федосеевцем. – И. Н. ) и «неверным»
лицом. Наставники по этому поводу четко заявили: «Шестую статью, яко не только на Божественном Писании не основанную, но и весьма противную отнюдь не приемлем» 44. Наставники пояснили, что они писали о неприятии данной статьи Андрею Алексеевичу 45 и неоднократно писали послания о необходимости уничтожения такого брака. Они предложили заменить шестую статью другим вариантом: «Аще неверный муж или жена приобщается с верным лицем, и от него познает свет истинна-го благочестия, не принимается весьма на покаяние (крещение), донеже не расторгнет незаконное то сожитие» 46. Таким образом, наставники Преображенского кладбища пытались последовательно проводить линию непринятия брака в согласии.
Следующей статьей, вызывавшей дискуссию, была 11-я статья, посвященная проблеме принятия поморцев в федосеевское согласие. Наставники согласились с необходимостью принятия поморцев через 40-дневный пост, «яко оглашенных», отметив, что это не «новоузаконение». При этом они второй раз сослались на «Книжицу жития християнского» Игнатия Трофимова. Кроме того, наставники подчеркнули, что действие данной статьи распространяется не только на поморцев, но и на «тех, кто заедино с ними мудрствует». Далее они перечислили все общины, поддержавшие это решение, указав на даты получения соответствующего письма. В списке оказались казанская, саратовская, сызранская, кинешемская, галичская, костромская и ростовская. Тот факт, что данная статья потребовала отдельного утверждения каждой региональной общиной, свидетельствует о ее крайне дискуссионном характере. Это вызвано уже упоминавшимися конфликтами с ярославскими и нижегородскими наставниками, которые отказались от разделения с поморцами. Вероятно, именно отлученные наставники этих общин подразумевались под теми, кто «заедино с ними мудрствует». Таким образом, особое внимание к данной статье объяснялось тем, что наставники
Преображенского кладбища стремились сплотить вокруг себя региональные общины и локализовать конфликт внутри согласия.
Московское утверждение Петербургских статей позволяет отметить умножившиеся конфликты внутри согласия, вызванные двумя наиболее острыми вопросами – отношением к поморцам и решением проблемы брака. Наставники Преображенского кладбища попытались зафиксировать при рассмотрении наиболее жесткую точку зрения на брак, пресекая любые поползновения к его признанию, исходящие от региональных общин.
Вопрос об отношении к поморцам также был связан с проблемой брака, поэтому наставники Преображенского кладбища стремились удержать зависимые от них общины от контактов с родственным согласием, в котором допускалось заключение безсвяще-нословного брака. Справедливость подобной интерпретации подтверждает письмо наставника Преображенского кладбища с разъяснениями 11-й статьи 47. В числе основных «вин» поморцев были названы моление за государя с использованием прилагательных имен, а также принятие «новоженов» в общину: «…новоженов по всему образу без распуста их себе приобщают, и на первых местах в церковь с книжными их поставляют» 48. Поскольку к моменту составления «Польского устава», зафиксировавшего более мягкое отношение к поморцам, комиссия Самарина уже побывала на Выге, и моление за императора там было введено, то, вероятно, именно признание брака стало той причиной, которая привела к ужесточению чиноприема со стороны федосеевцев.
Таким образом, письма, включенные в сборник «Отеческие завещания» дополнительно к Петербургскому соборному Постановлению 1809 г., позволили представить процесс рассмотрения и утверждения этих статей на Преображенском кладбище. Наставники попытались внести коррективы в некоторые статьи, обосновав их, соотнеся с учением «прежних отцов». В более позднем списке сборника «Отеческие завещания» (Собр. Егорова 1049) тексты, связанные с принятием и утверждением Петербургских статей, представляют собой несколько переработанную компиляцию. Они открываются письмом наставников Преображенского кладбища от 4 мая 1813 г., которое играет роль преамбулы, описывая историю составления статей в Петербурге и их утверждения на Преображенском кладбище 49. Далее следует текст соборного утверждения статей на Преображенском кладбище в 1813 г. За ним помещено первоначально написанное в 1809 г. предисловие к Постановлению Петербургского собора. Далее следуют сами статьи. Каждая статья воспроизводится с объяснением, составленным Я. Холиным, и соборным одобрением наставниками Преображенского кладбища, которые взяты из уже помещенного ранее письма о постатейном утверждении Постановления Петербургского собора, но на этот раз текст разбит на фрагменты и следует за теми статьями, к которым имеет непосредственное отношение.
Такой порядок текстов позволял представить Петербургские статьи уставным сочинением, созданным по инициативе наставников Преображенского кладбища. Особый порядок текстов, отличный от сборников (Собр. Егорова 1951 и 1067), может быть объяснен более поздним созданием этой рукописи (Собр. Егорова 1049). Списки (Собр. Егорова 1951 и 1067) датированы серединой XIX в. и, возможно, были позднее дополнены соборными посланиями наставников Преображенского кладбища для придания им большей авторитетности. Список (Егорова 1049) относится к концу XIX в., и поэтому автор списка имел возможность расположить тексты в ином порядке, опираясь на уже собранные предшественниками сочинения, для того, чтобы придать комплексу текстов, связанных с Постановлением Петербургского собора 1809 г., более законченный, структурированный и концептуальный вид в глазах читателя.
Таким образом, анализ включенного в состав сборника «Отеческие завещания» Постановления Петербургского собора 1809 г. позволил проследить, каким образом воспринимался сборник «Отеческие завещания» в процессе его функционирования. Соборно одобренный текст вызвал дискуссию в согла- сии и потребовал внесения соответствующий корректив. Обсуждение спорных вопросов привело к необходимости дополнить его Петербургским Постановлением, которое призвано было разрешить наиболее острые проблемы жизни общины, а главное, адаптировать ключевой текст федосеевской идеологии, «Польский устав», к реалиям Нового времени.
Однако статьи Петербургского собора вызвали дискуссию в согласии и потребовали дополнительного рассмотрения и утверждения в центре согласия – Преображенском кладбище. Его наставники попытались уточнить позицию по отношению к браку, как наиболее дискуссионному вопросу для федосеевцев, а также дополнительно аргументировать более строгое отношение к поморскому согласию, зафиксированное в статьях. Полемика вокруг статей Петербургского собора нашла отражение в рукописной традиции сборника «Отеческие завещания». В более поздние рукописи вносились дополнительные материалы, уточняющие позицию по решению спорных вопросов религиозной жизни общины. Это позволяет сделать вывод, что сборник не оставался статичным даже после завершения официальной над ним работы, а дополнялся и модифицировался на протяжении всего XIX в.
Список литературы Постановление петербургского собора 1809 года в составе сборника "Отеческие завещания"
- Агеева Е. А. Волково кладбище // Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 9. С. 233-235.
- Гурьянова Н. С. Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой эсхатологической литературе периода позднего феодализма / Под ред. Н. Н. Покровского. Новосибирск: Наука, 1988. 186 с.
- Журавель О. Д. Старообрядческое сочинение о времени, достойном плача, как памятник народно-христианской литературы // Памятники отечественной книжности: новые тексты, новые интерпретации. Новосибирск, 2007. С. 219-251.
- Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984. 295 с.
- Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси // Вопр. литературы. 1977. № 3. С. 154-156.
- Мальцев А. И. Филипповский наставник Алексей Яковлев (Балчужный): Проблемы изучения биографии и творческого наследия // Старообрядчество в России (XVII-XX вв.). М., 2004. Вып. 3. С. 138-156.
- Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия в XVIII - начале XIX в.: Проблема взаимоотношений. Новосибирск: ИД «Сова», 2006. 572 с.
- Москалева Л. А. К бытованию сочинений Ефрема Сирина в Древней Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики: Материалы III Междунар. науч. конф. «Комплексный подход в изучении Древней Руси». М., 2005. С. 70-71.
- Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984. 205 с.
- Пивоварова Н. В. Старообрядческие моленные Петербурга XVIII - 1-й пол. XIX в.: (по материалам РГИА) // Три века синтеза церковного и светского искусства. Ораниенбаум, 2003. С. 150-156.
- «Польский устав» // Сборник для истории старообрядчества, издаваемый Н. Поповым. М., 1864. Т. 1. С. 10-21.
- Прения или борьба за устав Польский // Сборник для истории старообрядчества, издаваемый Н. Поповым. М., 1864. Т. 1. С. 22-73.
- Расков Д. Е. Купцы-староверы в экономике С.-Петербурга // Старообрядчество: история, культура, современность. М., 2000. Вып. 8. С. 53-57.
- Рындзюнский П. Г. Старообрядческая организация в условиях развития промышленного капитализма (на примере истории Московской общины федосеевцев в 40-х годах XIX в.) // Вопросы истории, религии и атеизма. М., 1950. С. 53-72.
- Хвальковский А. В., Юхименко Е. М. Поморское староверие в Москве // Старообрядчество в России (XVII-XX вв.). М., 1999. С. 314-343.
- Crummey R. O. Old Believer Communities Ideals and Structures // Old Believers in a Changing World. Illinois, 2010. P. 99-119.