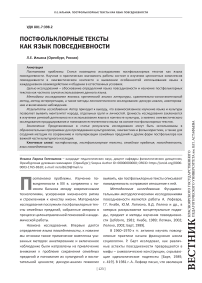Постфольклорные тексты как язык повседневности
Автор: Ильина Л.Е.
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филологические науки. Языкознание
Статья в выпуске: 3 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Статья посвящена исследованию постфольклорных текстов как языка повседневности. Научная и практическая значимость работы состоит в изучении ценностных комплексов повседневности в лингвистическом контексте и выявлении особенностей использования языка в каждодневном взаимодействии и общении в естественных условиях. Целью исследования - обоснование определения языка повседневности и изучение постфольклорных текстов как частного случая использования данного языка. Методами исследования явились критический анализ литературы, сравнительно-сопоставительный метод, метод интерпретации, а также методы лингвистического исследования: дискурс-анализ, анкетирование и включенное наблюдение. Результаты исследования. Автор приходит к выводу, что взаимосвязанное изучение языка и культуры позволяет выявить менталитет народа, отдельных групп и личностей. Ценность исследования заключается в изучении речевой деятельности и использования языка в контексте культуры, а именно лингвистического исследования продуцирования и понимания естественного языка на основе постфольклорных текстов.
Постфольклор, постфольклорные тексты, семейные предания, повседневность, язык повседневности
Короткий адрес: https://sciup.org/144163230
IDR: 144163230 | УДК: 801.7:398.2
Текст научной статьи Постфольклорные тексты как язык повседневности
Ильина Лариса Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологических дисциплин, Оренбургская духовная семинария (Оренбург); Scopus Author ID: 00000000000; ORCID: ; e-mail:
П остановка проблемы. Изучение повседневности в XXI в. сопряжено с поиском баланса между современными технологиями, ускорением жизненного ритма и стремлением к качеству жизни. Материалом исследования послужили постфольклорные тексты семейных преданий, собранные автором в процессе целенаправленной поисковой и академической работы.
Новизна исследования. Впервые дается определение языка повседневности , к новизне мы относим также применение комплекса указанных методов: анкетирование и включенное наблюдение были направлены на привлечение внимания к проблеме сохранения семейных преданий и понимания их культурной и воспитательной ценности; дискурс-анализ позволил
выявить, как постфольклорные тексты описывают повседневность и отражают отношение к ней.
Методология исследования. Фундаментальными методологическими исследованиями повседневности являются работы А. Лефевра, Г.Г. Кнабе, Ю.М. Лотмана, В.Д. Лелеко и др., в которых раскрываются концептуальные подходы, предмет и методы изучения повседневности [Lefebvre, 1981; Кнабе, 1989; Лотман, 2002; Лелеко, 2002; Барт, 1989].
В 1960–1970-х гг. активно изучать повседневные практики начала французская школа социологии. Р. Барт исследовал, как различные аспекты повседневности превращаются в мифы – символические конструкции, скрывающие идеологические подтексты [Барт, 1989, с. 419]. В 1981 г. А. Лефевр писал, что эволюция
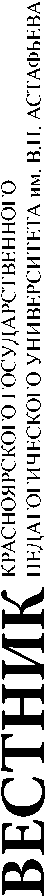
повседневной жизни будет связана с созданием культурной индустрии, которая, стимулируя потребление, создает стандартизированный образ жизни, управляемый набор ложных потребностей и их иллюзорное удовлетворение [Lefebvre, 1981, p. 73].
Обсуждение и результаты исследования. Мы рассматриваем повседневность как привычную жизнь, рутину (следование заведенному шаблону, превратившееся в механическую привычку), обычные занятия и события, которые заполняют наше ежедневное существование.
Глубинный анализ внутренней сущности повседневности в течение длительного времени не интересовал ученых, а изучение практик повседневности сводилось к ее описанию [Ионин, 1998]. В нашей стране в советское время целенаправленно создавались и распространялись истории о выдающихся людях, о героях войны и труда, на которых все остальное население было призвано «равняться». Судьбы «маленьких людей», истории провинциальных городов, творчество многих писателей долгое время не становились объектом научного интереса. В конце ХХ в. произошел сдвиг в академическом подходе к исследованию культуры и общества. В рамках полемики об исследованиях культуры повседневность стала рассматриваться как важный компонент социологической и культурной традиции.
Культура создает сложную языковую систему, именно язык, традиции и ритуалы позволяют идентифицировать человека как представителя культуры. Культура исчезает, когда забываются и исчезают старые ритуалы и обычаи, поддерживающие традицию [Итунина, Любимова, 2019, с. 14].
Фиксация и кодирование человеческого опыта в форме языковых знаков делают возможной передачу информации, ее сохранение, поскольку язык представляет собой мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека [Гумбольдт, 1985, с. 304]. В начале ХХ в. Г.О. Винокуp рассматривал язык быта как важный элемент культуры речи, повседневное общение, как отражение особенностей национальной и социальной культуры, влияние устойчивых речевых формул на более формальные языковые стили [Винокур, 2006].
С.Б. Адоньева описывает динамическую структуру социального взаимодействия, результатами которого становятся изменения социальной реальности и принимающего партнера коммуникации, инициатора события, а также всех наблюдателей, объединенных общей реальностью прозвучавшего слова [Адоньева, 2001].
Отстаивая необходимость овладения нормами литературного языка и следования им, ученые исследуют состояние и динамические тенденции русского языка, последствия отмены цензуры, влияние демократизации общества, низкопробной продукции массовой культуры [Мокиенко, 2016].
Опираясь на определение языка в лингвистике, в котором язык рассматривается как система знаков и символов, используемых для общения и передачи информации; в социологии, где язык рассматривается как важный социальный инструмент, формирующий социальные отношения и культурные нормы1, мы предлагаем следующее определение. Язык повседневности – это совокупность языковых средств и практик, способ коммуникации, который используется в повседневных ситуациях, где основная цель – передача информации, эмоций или поддержание социальных связей, а не строгое следование грамматическим и стилистическим нормам; он характеризуется нерефлексивностью, простотой, лаконичностью. Состав языка повседневности включает разговорную лексику и просторечия, сленг и жаргон, фразеологизмы, метафоры, невербальные элементы и грамматические упрощения.
Постфольклор – общее название новых форм самобытной народной культуры, появление которых в XIX в. непосредственно связано с техническим прогрессом и урбанизацией. Это явление охватывает аспекты культуры, возникшие вследствие изменения патриархального жизненного уклада, в эпоху интенсивного технологического и социального развития [Неклюдов, 1995]. В конце ХХ в. Интернет, цифровые медиа и массовая коммуникация способствовали появлению новых жанров постфольклора (пирожки, демотиваторы, мемы и др.) и ускорению их распространения [Граматчикова, Хоруженко, 2017].
Постфольклорные тексты в нашем исследовании – это небольшие произведения, которые сохраняют связь с устной народной традицией и существуют в разных формах, включая письменные, устные, медийные и цифровые форматы [Ильина, Павловская, 2024, с. 420–421]. В ходе исследовательской работы нами был собран массив постфольклорных текстов, среди которых для изучения языка повседневности мы отобрали 370 текстов семейных преданий. К поисковой работе привлекались студенты Оренбургской духовной семинарии и Оренбургского государственного университета. Для получения репрезентативного материала были составлены анкеты, на которые респонденты отвечали письменно2. Включенное наблюдение как метод исследования практиковали автор статьи и временные группы студентов, которые собирали материал о повседневности, а также студенты бакалавриата и магистратуры, которые готовили выпускные работы под руководством автора статьи.
Собранные постфольклолрные тексты были классифицированы на несказочную прозу, куда мы отнесли прозаические тексты объемом 500– 1500 знаков (предания, легенды, мифы, слухи и сплетни, пародии, сценарии); несказочную поэзию (городской романс, стихи-переделки, песни-переделки, записи в дневниках, песенниках, книгах жалоб); малые жанры современного фольклора (проза и поэзия): поздравления, тосты, афоризмы, пословицы и антипословицы, фразы из фильмов, телепередач, рекламы, анекдоты, частушки и др.
Постфолькорные тексты представляют интереснейший и богатейший материал для исследования повседневности, например, анализ текстов сценариев праздников можно отнести к новизне нашей работы. Было записано 15 вариантов детской считалочки «Эни-бени, рики-факи…» с предполагаемым исходным текстом на латинском языке «Aeneas bene rem publicam facit», среди пародий мы выделили тексты-па-стиши, в которых исходный текст не высмеивается, а, напротив, превозносится.
Ввиду ограниченного объема журнальной публикации мы предлагаем для анализа тексты семейных преданий, особенность которых заключается в сохранении и передаче молодому поколению самых важных знаний, несущих опыт предков и предостерегающих от ошибок. Семейное предание в нашем исследовании – рассказ, передающийся из поколения в поколение внутри одной семьи. Работая с текстами, мы ориентировались на диалогическое понимание их смысла и выход за пределы буквального прочтения [Бахтин, 1979, с. 361]. Анализ собранных текстов позволил установить, что в языковом плане семейные предания имеют ряд особенностей, отличающих их от других преданий и постфольклорных текстов вообще: семейные предания включают фамилии, имена и другие идентификаторы, связанные с конкретными людьми, их биографиями; в семейных преданиях повествование ведется от первого лица, а также используются устойчивые выражения, понятные только узкому кругу родственников. В случае смены места жительства семейные предания сохраняют особенности местного диалекта.
Утверждая, что постфольклорные тексты являются языком повседневности, в текстах семейных преданий мы изучали прежде всего отражение ценностных комплексов повседневности [Барбакова, Мансуров, 1989], которые обнаруживались в привычных общеизвестных ситуациях, естественных, самоочевидных условиях
жизни человека, характеризующихся нерефлексивностью описания повседневности. В анализируемых текстах мы выявляли: упоминание/ выделение двух видов пространства, в которых одновременно пребывает человек: физическое и концептуальное; наличие соотносительных пар повседневности с возможными противоположными значениями; диалектику повседневности в предметах быта, эстетике жизненной среды, взаимодействии с искусством и др. (Г.С. Кнабе); религиозный опыт человека в повседневной жизни; упоминание пола, принадлежности к определенной группе, месту (Ю.М. Лотман); упоминание угрозы привычному течению жизни, необходимости быть всегда «в бодрствующем состоянии» (В.Д. Лелеко); упоминание «изнаночных сторон» жизни человека и общества, которые не отражаются в художественных текстах.
Мы отмечаем, что в семейных преданиях встречались другие стороны бытовой, обыденной, но по-своему знаковой сферы жизни человека. Рассмотрим далее пример постфольклорного текста и выделим ценностные комплексы повседневности, проступающие через описание обыденных процессов и явлений.
Бабушкина фотография3. Моя бабушка родилась в августе 1941 г. Это было начало Великой Отечественной войны, когда страна испытывала страшные лишения. Но жизнь продолжалась, люди хотели жить, по возможности достойно. Бабушка вспоминала, что однажды родители решили сделать семейное фото. Эта фотография хранится в нашей семье – они с сестренкой стоят на фоне бесхитростной мебели, с белыми бантами, в скромных платьицах, очень худые. Но самым удивительным для нас – внуков, живущих в другое время, было то, что сандалии, в которые бабушка и ее сестра были обуты на фотографии, были взяты у соседей только на время, чтобы сделать снимок. После этого обувь вернули. В военные годы приличная обувь была роскошью и имелась только в зажиточных семьях.
В данном семейном предании мы находим примеры диалектики повседневности: описание предметов быта ( скромные платьица, сандалии ), причем особое значение имеет факт похода к фотографу во время войны; описание жизненной среды ( бесхитростная мебель, желание жить «достойно ). В предании дается характеристика времени, страна испытывала страшные лишения... и ситуации. Даже в войну продолжалась обычная жизнь: поддерживались добрососедские отношения ( сандалии были взяты у соседей ). Мы отмечаем наличие одной соотносительной пары – сначала описывается обычный уклад жизни военного времени, а указание однажды родители решили сделать семейное фото свидетельствует о том, что поход к фотографу был настоящим событием. Описание жизненных тягот в годы войны мы относим к случаям упоминания потенциальной угрозы.
Легенда о снах. Моя мама не разрешает нам рассказывать свои сны чужим людям. За этим стоит некая легенда, о которой ей рассказывали ее мама и бабушка. Теперь эту легенду мама рассказывает нам, а моя сестра рассказывает ее уже своим детям.
Как-то раз беременной женщине приснились волки. Она пошла к мулле, чтобы тот разгадал ее сон. Когда она пришла туда, мулла совершал намаз и не мог ее сразу принять. Женщина села на лавочку и стал ждать. К ней подошел его внук и спросил, что привело ее к ним. Женщина поведала мальчику о своем сне. Мальчик недолго думая сказал, что женщину съедят волки. Когда мулла дочитал молитву, он покачал головой со словами: «Нельзя рассказывать сны кому попало. Волки тебе приснились к тому, что ты должна была родить двойню, но, к сожалению, человек, которому ты первому поведала сон, разгадал его по-другому». Когда женщина возвращалась домой, на нее напали волки.
В данном предании описывается религиозный опыт муллы и обычной женщины. Символические сферы (сновидение о волках, поведение муллы) являются здесь важными элементами реальности повседневной жизни. В предании выделяются два вида пространства, в которых одновременно пребывает человек: физическое (пошла к знахарю… села на лавочку) и концептуальное (женщине приснились волки… человек… разгадал его по-другому); наличие соотносительных пар (женщина (обычный человек) – мулла (человек наделенный знаниями)); обычный ход жизни – совершение молитвы и желание получить разгадку сна. В предании представлена диалектика повседневности: предметы быта и природы (лавочка, внук, волки), эстетика жизненной среды (совершение намаза, обращение к мулле); упоминается половая принадлежность (женщина, мулла (мужчина), внук (мальчик)). Предисловие к преданию показывает его воспитательную и обереговую функции.
Посиделки хоккейные и женские. Одна из историй, которую я помню, рассказывает о том, как вся семья моей бабушки смотрела хоккей. Это была настоящая церемония. Телевизор тогда был далеко не у всех (но благо в бабушкином доме он был), поэтому чаще всего собирались у тех, у кого он есть, и смотрели хоккейные матчи. Собирались человек по двадцать, разных возрастов: и дети, и старики. Гости приносили с собой какие-нибудь ватрушки, пироги, хозяева ставили чай, жарили семечки. Садились за круглый стол (кто за него не умещался – располагались вокруг) и смотрели. Причем не просто смотрели, а болели, кричали, радовались каждой забитой шайбе, всех хоккеистов знали по именам. Еще бабушка рассказывала про женские посиделки, где собирались бабушки, женщины, девушки, девочки. Они вязали, что-нибудь обсуждали, грызли семечки. Дети забирались на печку и слушали их. Сидели до поздней ночи, при свечах.
В предании имеется выделение двух видов пространства: физического – собирались человек по двадцать… садились за круглый стол… – и концептуального – радовались каждой забитой шайбе; наличие соотносительных пар (телевизор был далеко не у всех – в бабушкином доме он был); обычный ход жизни – просмотр хоккейного матча. Ярко представлена диалектика повседневности: предметы быта (телевизор, ватрушки), эстетика жизненной среды (гости приносили с собой пироги… хозяева ставили чай…), общение с искусством (не просто смотрели, а болели, кричали, радовались…); встречается упоминание половой принадлежности.
Результаты. На основе анализа отобранных текстов семейных преданий как частного случая языка повседневности было установлено, что упоминание/выделение двух видов пространства встречается в 78 % отобранных преданий; наличие соотносительных пар повседневности с предполагаемыми оппозиционными значениями – в 72 %. Диалектика повседневности отражается в каждом предании, но в разном объеме. С одной стороны, это можно объяснить уровнем образования респондента, временем, выделенным для записи предания, сохранностью фактов в памяти респондента, но с другой – большинство респондентов не придают особого значения таким, по их мнению, «мелочам». Упоминание гендерной принадлежности человека, принадлежности к определенной группе, типу поселения встречается в 70 % преданий, полнота сведений зависит от содержания предания, его ключевой мысли. Религиозный опыт человека отражается в 48 % преданий (крещение, венчание, строительство церкви, посещение церкви, помощь святого, рассуждения о вере (необходимость веры или сожаление о ее отсутствии)). Случаи упоминания существующей потенциальной угрозы нарушения привычного течения дел встречаются в 63 % преданий, и чаще всего графически это выделяется абзацем, когда первый абзац содержит описание героев повествования, условий жизни, исторического периода, а во втором абзаце респондент описывает наиболее яркое (важное, тяжелое) событие. Причем по объему второй абзац в 56 % преданий всегда немного меньше первого. В анализируемых преданиях мы находим подтверждение мысли В.Д. Лелеко, что, несмотря на переживание повседневности как рутины и тривиальности, человеком осознается возможность нарушения размеренного порядка жизни и необходимость (готовность) быть всегда «в бодрствующем, напряженном состоянии».
Случаи упоминания «изнаночных сторон» жизни общества, не отражаемых в художественных произведениях и экранной культуре, выявлены только в 3 % преданий, полученных в результате письменного заполнения анкет ( …за домом был уличный туалет… когда никто не видел, бабушка быстро вытирала пол столовой тряпкой… с нами училась девочка, у которой всегда текли сопли…). Однако в устных беседах респондентами были названы и другие случаи упоминания «изнаночных сторон» жизни общества, среди которых описание примеров требования взяток, насилия в школе, модификации этикета в разных контактных группах.
Включенное наблюдение показало, что в семейном кругу предания могут рассказываться полностью или кратко, с использованием цензурной и нецензурной лексики; с различными акцентами (в зависимости от аудитории): со всеми подробностями предания рассказываются для новых людей (гостей), незнакомых с данной историей; в семье есть авторитетный член семьи, рассказывающий в зависимости от ситуации то или иное предание полностью, и вся семья его слушает; предание рассказывается со всеми подробностями во время длительной ручной коллективной работы (лепка пельменей, глажение белья, вязание – в женской аудитории) или в перерывах между тяжелой работой (стройка, погрузка (ранее – сенокос) – в мужской аудитории); предание воспроизводится в краткой форме, причем оно может сокращаться до одной (финальной или ключевой фразы), но в силу того что предание хорошо известно всем членам семьи, даже упоминание одной фразы из предания вызывает в памяти всю историю.
Заключение. Мы рассмотрели повседневность как состояние или характеристику обыденности, каждодневных занятий, действий и событий и получили подтверждение, что повседневность представляет собой фон, на котором происходят обыденные, не отмечаемые сознанием события; повседневность может быть малозаметной, «серой» и, казалось бы, неважной, однако именно она составляет большую часть нашего времени.
Представив свое определение языка повседневности, мы доказали, что постфольклорные тексты в полной мере являются языком повседневности, поскольку они своеобразно и живо отражают реальность и опыт людей, проблематику обыденной жизни, описывая широкий круг предметов, явлений, отношений и противоречий и призывая современников понять и принять ценность повседневности.
Список литературы Постфольклорные тексты как язык повседневности
- Адоньева С.Б. Фольклор: социальное действие и коммуникативный акт // Рабочие тетради по компаративистике. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. Вып. 3–4.
- Барбакова К.Г., Мансуров В.А. Проблема повседневности и поиски альтернативной теории социологии // ФРГ глазами западногерманских социологов. М.: Наука, 1989. С. 296–392.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 с.
- Винокур Г.О. Культура языка: лингвистика и стилистика, язык быта, язык прессы, искусство слова и культура языка. М.: URSS, ЛЕНАНД, 2006. 346 с.
- Граматчикова Н.Б., Хоруженко Т.И. Постфольклор и интернетлор: учеб.-метод. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. 62 с.
- Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985. 614 с.
- Ильина Л.Е. Павловская О.Е. Постфольклорный текст: лингвоаксиологический аспект // Мир науки, культуры, образования. 2024. № 2. С. 419–422.
- Ионин Л.Г. Повседневность // Культурология. XX век. Энциклопедия: в 2 т. 1998. Т. 2. С. 121–123.
- Итунина Н.Б., Любимова Е.А. Культура повседневности и ее роль в поддержании этнической идентичности // Гуманитарный научный вестник. 2019. № 6. С. 8–14.
- Кнабе Г.С. Диалектика повседневности // Вопросы философии. 1989. № 5. С. 26–46.
- Лелеко В.Д. Пространство повседневности в европейской культуре. СПб.: С.-Петербур. гос. ун-т культуры и искусств, 2002. 320 с.
- Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. Спб.: Академический проект, 2002. 543 с.
- Мокиенко В.М. Динамические тенденции в современном русском языке // Экология языка и коммуникативная практика. 2016. № 1. С. 104–110.
- Неклюдов С.Ю. После фольклора // Живая старина. 1995. № 1. С. 2–4.
- Lefebvre, H. (1981). Critique de la vie quotidienne. Paris, Vol. III.