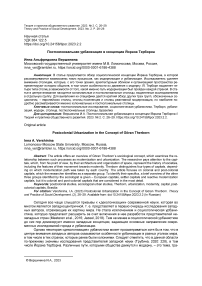Постколониальная урбанизация в концепции Йорана Терборна
Автор: Вершинина Инна Альфредовна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается обзор социологической концепции Йорана Терборна, в которой рассматриваются взаимосвязь таких процессов, как модернизация и урбанизация. Исследователь уделяет внимание столицам, которые, с его точки зрения, архитектурным обликом и организацией пространства репрезентируют историю обществ, в том числе особенности их движения к модерну. Й. Терборн выделяет четыре типа столиц в зависимости от того, какой именно путь модернизации был пройден каждой страной. В статье в центре внимания находятся колониальные и постколониальные столицы, выделенные исследователем в отдельную группу. Для выявления их специфики дается краткий обзор других трех групп, обозначенных социологом, европейских столиц, столиц поселенцев и столиц реактивной модернизации, но наиболее подробно рассматриваются именно колониальные и постколониальные столицы.
Постколониальные исследования, социологическая урбанистика, терборн, урбанизация, модерн, столица, постколониальные столицы, бразилиа
Короткий адрес: https://sciup.org/149142144
IDR: 149142144 | УДК: 364.122.5 | DOI: 10.24158/tipor.2023.2.2
Текст научной статьи Постколониальная урбанизация в концепции Йорана Терборна
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, ,
Сегодня все чаще слышатся призывы к «деколонизации» современной науки, которая во многом является западноцентричной, т. е. представляет в первую очередь исследования западных авторов, отражающие их картину мира. Не стала исключением и социологическая урбанистика, которую предлагают расширить за счет включения в нее разработок представителей незападных стран (Meeteren et al., 2016; Jazeel, 2018). Тем не менее в социологической урбанистике до сих пор доминируют именно западные концепции, задающие основные направления современных исследований города и урбанизации.
Однако некоторая «деколонизация» урбанистики может просматриваться хотя бы в том, что в центре внимания западных авторов оказываются особенности урбанизации в разных уголках мира, в том числе в тех странах, которые ранее были колониями. Следует отметить, что в данной области по-прежнему значимы исследования представителей западной науки (Трубина, 2020: 228), в том числе Йорана Терборна. Различные пути, которыми общества движутся к модерну, – это тема, тра-
диционно важная для данного социолога (Therborn, 1992, 1995). Поскольку урбанизация представляет собой одну из составляющих процесса модернизации, то города также подробно рассматриваются Й. Терборном. Причем его интересуют прежде всего столицы как те пространства, где формируется национальная идентичность, вследствие чего их архитектурный облик зачастую позволяет проследить эволюцию политических идей (Therborn, 2017: 9). Так, пространство столичных городов, согласно концепции социолога, фактически представляет собой культурную и политическую репрезентацию истории общества, которая находит отражение в разнообразных символических формах: пространственном планировании городов, распределении функций между районами и находящимися в них зданиями, архитектуре, памятниках и именах, которые даются разным объектам.
При этом Й. Терборн уделяет внимание не только западным столицам, наоборот, он старается вычленить основные «пути к модерну» (Therborn, 2017: 31), которые серьезно различались в зависимости от региона мира. Исследователь полагает, что можно выделить четыре основных «пути к модерну», предопределенных историей государств. Каждая из траекторий модернизации задает и особенности урбанизации, в связи с чем социолог предлагает следующую типологию столиц:
-
– европейские столицы, которые оформляются в результате революций или реформ;
-
– столицы поселенцев, отличающиеся тем, что воспроизводят многие европейские традиции даже вдали от Старого Света;
-
– колониальные и постколониальные столицы, в центре внимания которых оказываются отрицание свергнутой власти бывшей метрополии и противопоставление ей;
-
– столицы «реактивной модернизации» в обществах, для которых западная культура остается чуждой, они предлагают собственные оригинальные ответы на новые вызовы (Therborn, 2017: 31).
В данной статье наибольшее внимание уделяется колониальным и постколониальным столицам, однако для выявления их специфики необходимо дать краткую характеристику каждой из названных групп.
Европейские столицы, как правило, представляют собой крупные города, расположенные преимущественно в так называемом «городском поясе», сформировавшемся вдоль Средиземного моря, Северного моря, Прибалтики и торговых путей между ними, хотя есть и исключения (Мадрид, Берлин, Варшава и др.). Это «трансформировавшиеся княжеские города», которые со временем приобретают столичный статус, что позволяет им демонстрировать богатое архитектурное наследие прошлого, при этом шагая в ногу со временем.
Однако преемственность не всегда была последовательной, история некоторых стран характеризуется сложными периодами, связанными с изменениями политической карты региона. В Европе не только постоянно шло изменение политических границ, но и периодически появлялись новые государства, возрождались те, которые временно утрачивали независимость, и, соответственно, возникали новые столицы. Особенно интенсивно эти процессы шли на протяжении XIX – первой половины ХХ в., встречая множество трудностей на пути. Так, Й. Терборн отмечает, что «только три или четыре из будущих двадцати столиц к середине XIX в. имели этническое большинство от своей нации: Варшава, Любляна, Загреб и, возможно, крошечная Тирана» (Therborn, 2017: 55). Следовательно, столицы современных Польши, Словении, Хорватии и Албании 200 лет назад представляли собой мультикультурные города, в которых современные титульные нации составляли менее половины населения.
Особенно непростым было становление европейских столиц, прежде входивших в состав Османской империи (Афин, Софии, Белграда и др.). Они столкнулись с культурным разрывом, следствием которого стали процессы «деориентализации и европеизации» (Therborn, 2017: 54) после долгого периода господства ислама, некоторым из этих городов пришлось создавать новые монументальные пространства (например, Афинам).
Другая большая группа, выделенная Й. Терборном, – столицы поселенцев , главной из которых является Вашингтон. Город долго оставался, по сути, сельской территорией, состоящей из отдельных деревень, что вызывало сарказм многих европейских гостей (например, Ч. Диккенса). Тем не менее со временем амбиции США и роль страны на международной арене начинают возрастать, что находит отражение в масштабах ее мемориальных комплексов.
Й. Терборн отмечает странную монументальность столицы США, называя статуи великих людей, демократа Т. Джефферсона и республиканца А. Линкольна, «большими квазирелигиоз-ными памятниками политическим лидерам» (Therborn, 2017: 76–77). Данные монументы демонстрируют уникальность Вашингтона и его значение для мировой истории – это столица первого в Новой истории демократического государства. Тем не менее, по замыслу автора проекта Вашингтона – архитектора Пьера Шарля Л’Анфана (Pierre Charles L'Enfant), столица США должна была обладать символической идентичностью, связывающей американскую демократию с великими европейскими столицами (Berg, 2007: 282). Соответственно, сохраняется преемственность с культурой и архитектурой тех стран, из которых прибыли в США переселенцы. Это характерно для большинства столиц поселенцев, к которым также относятся Канберра, Веллингтон, Оттава и др.
Близкими родственниками столиц поселенцев являются колониальные и постколониальные города . Однако они имеют и серьезные отличия от предыдущей группы городов, обусловленные колониальным прошлым, которое есть примерно у половины стран, входящих в Организацию Объединенных Наций.
Колониальные и постколониальные города демонстрируют значительно более серьезную пространственную иерархию, чем европейские или поселенческие столицы. В частности, во французском городском планировании существовала идея разделения колониальной деревни и собственно города, в португальском – верхнего города и нижнего, в бельгийском варианте Й. Терборн находит следующее правило планирования: «не менее 400 или 500 метров разделения (т. е. за пределами максимальной дальности полета комаров) с вертикальным измерением, в котором европейцы занимают положение наверху» (Therborn, 2017: 109). Очевидно, что колонизаторы старались максимально дистанцироваться от местного населения, в том числе для того, чтобы снизить вероятность распространения различных заболеваний. Следовательно, в колониальных городах отмечаются более явно выраженные сегрегация и неравенство, которые в значительной степени сохраняются и сегодня.
Каждая столица имеет индивидуальную траекторию после обретения страной независимости, однако зачастую наследие европейского колониального порядка вплетается в постколониальную историю большинства из них (Therborn, Bekker, 2011: 3). Й. Терборн выделяет в данной группе столиц три подгруппы.
-
1. Исторические, давно существующие города, примеры которых можно найти в Северной Африке и Азии (Алжир, Дели, Багдад и др.). Особенно интересным социолог считает пример Дели: рядом с древним городом строится Нью-Дели, который становится олицетворением колониальной власти, поскольку все пути расходятся от резиденции вице-короля, рассчитанной в том числе на размещение 6 000 слуг (Therborn, 2017: 110).
-
2. Полностью колониальные города, основанные на необходимых метрополии торговых путях (Сингапур, Манила, Найроби, Киншаса, Хараре, Джакарта и др., многие из которых сменили колониальные названия на новые). Однако, кроме названий, как правило, мало что меняется. Например, в Джакарте ограничиваются созданием нескольких мемориальных ансамблей, которые направлены на придание столице нового символического содержания (Therborn, 2017: 116–118), но само городское пространство кардинальным преобразованиям не подвергается. Многие из них объединяют использование памятников в честь обретения независимости (и других важных национальных событиях), переименование улиц и других объектов, чтобы погасить символическую значимость прошлого и ознаменовать новый период в истории страны (Therborn, Bekker, 2011: 3).
-
3. Постколониальные столицы, такие как Лилонгве, Абуджа и Исламабад, сменившие прежние политические центры страны, чтобы дистанцироваться от колониального прошлого. Й. Терборн отмечает, что Исламабад, заменивший Карачи как столицу Пакистана с 1963 г., и Абуджу, столица Нигерии с 1991 г., принявшая эстафету от гигантского Лагоса, мало напоминают другие постколониальные города (Therborn, 2017: 113–114). Это модернистские столицы, созданные как центры силы новых независимых стран.
Среди постколониальных столиц особый случай представляет собой Бразилиа (Therborn, 2017: 85–104), уникальность данного города отмечает не только Й. Терборн, но и многие другие исследователи, в частности Ж. Готтман (Gottmann, 1983: 92). Нетипичное для Латинской Америки расположение Бразилиа не на побережье – результат попытки пространственной демонстрации идеи равенства, когда разные части страны оказываются равноудалены от ее главного города (Вершинина, Курбанов, 2020: 87–88). Фактически, Ж. Кубичек, который сделал строительство новой столицы одним из своих предвыборных обещаний, не только выполнил его, став президентом Бразилии, но и продемонстрировал всему миру возможности своей страны, за 4 года построив новый город в не слишком хорошо приспособленном для этого пустынном регионе. Кроме того, проект архитектора Л. Косты настолько грандиозен (с высоты птичьего полета город напоминает по разным версиям самолет, орла или бабочку), что символичность его явно превосходит по масштабам символичность других городов.
Последняя группа, которую выделяет Й. Терборн, – столицы «реактивной модернизации» – кардинально отличается от трех предыдущих типов, одновременно повторяя некоторые их черты. Имея серьезные различия между собой, эти города схожи в одном – структура их пространства укоренена не в европейской культуре, а какой-то иной (Токио, Бангкок, Анкара и др.) (Therborn, 2017: 149). Вместе с тем в процессе модернизации они сильно преобразуются, интегрируя многие элементы западной архитектуры.
Особенно подробно Й. Терборн описывает Анкару (Therborn, 2017: 154–158). Крушение Османской империи после Первой мировой войны привело к тому, что Стамбул, столица прежнего государства, оказался слишком близко к границе. Кроме того, политический лидер нового государства Турции – Мустафа Кемаль Ататюрк – хотел дистанцироваться от имперского Стамбула. Древний, но провинциальный город Анкара без водопровода, электричества и канализации стал столицей. Мустафа Кемаль Ататюрк проявил большую заинтересованность в «политической иконографии», в частности, для формирования национальной идентичности. Поэтому Анкара быстро превратилась в современный центр национального государства.
Так, страны, а также их столицы имеют индивидуальные траектории модернизации, тем не менее Й. Терборн предпринимает попытку их сгруппировать, результатом чего и является приведенная типология. Она представляет безусловный интерес, поскольку позволяет увидеть, что европейская модернизация – это лишь один из возможных путей, т. е. социолог предлагает анализ специфики урбанизации в разных государствах, хотя и анализирует их опыт, во многом опираясь на опыт западных стран.
Список литературы Постколониальная урбанизация в концепции Йорана Терборна
- Вершинина И.А., Курбанов А.Р. Бразилиа: реализованная утопия, но не сбывшаяся мечта? // Латинская Америка. 2020. № 4. С. 86-96.
- Трубина Е.Г. Постколониальная критика и урбанистическая теория // Новое литературное обозрение. 2020. № 1 (161). С. 219-231.
- Berg S.W. Grand avenues: The story of Pierre Charles L'Enfant, the French visionary who designed Washington, D.C. N. Y., 2007. 352 p.
- Gottmann J. Capital cities // Ekistics. 1983. Vol. 50, no. 299. P. 88-93.
- Jazeel T. Urban theory with an outside // Environment and Planning D: Society and Space. 2018. Vol. 36, no. 3. P. 405-419.
- Meeteren M. van, Derudder B., Bassens D. Can the straw man speak? An engagement with postcolonial critiques of "global cities" research // Dialogues in Human Geography. 2016. Vol. 6, no. 3. P. 426-432.
- Therborn G. Cities of power: The urban, the national, the popular, the global. L., 2017. 416 p.
- Therborn G. European modernity and beyond: The trajectory of European societies, 1945-2000. L., 1995. 416 p.
- Therborn G. Peripecias de la modernidad. Buenos Aires, 1992. 95 p.
- Therborn G., Bekker S.Introduction // Capital cities in Africa: Power and powerlessness / ed. by S. Bekker, G. Therborn. Dakar; Cape Town, 2011. P. 1-6.